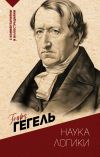Текст книги "Философия науки Гастона Башляра"

Автор книги: Виктор Визгин
Жанр: Философия, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
4. Пределы историографической концепции Башляра
Концепция истории науки Башляра сочетает в себе «откровенный модернизм» (franc modernisme [62, с. 23]) и аксиологический рационализм. Модернизм и аксиологизм – основы этой концепции, как и принцип абсолютного прогресса применительно к науке, отличающий ее от всех остальных сфер деятельности человека. Если мы отметим в понятийном составе этой концепции понятия разрыва и препятствия, то получим все основные моменты историографического мышления Башляра. История науки фактически приравнивается к истории современной науки, так как только те формы, которые воплощают преемственность истин, оцениваемых по современному уровню знаний, входят в состав позитивной истории и достойны внимания историка, мыслящего эпистемологически. Наличие другого историка (историка-палеонтолога вымерших истин, коллекционера заблуждений) Башляр предусматривает, но не наделяет его никакими позитивными функциями в научном сообществе, если не считать того, что он свой исторический анализ может поставить на службу «психоанализу объективного познания», предназначенному для недопущения в современную науку «монстров» прошлого.
Моделями идеальной, эпистемологически поставленной истории служат для Башляра, как мы уже отметили, историческая преамбула (обзор в современных научных трудах), а также история математики. Если математика для Башляра – образец научной рациональности, то история математики – образец исторической рациональности. Лучший пример научного прогресса Башляр видит именно в истории математики. Здесь сама безупречность научной рациональности препятствует тому, чтобы развитие этой науки носило хотя бы след нерациональности (роста несистематичности, например). «Здесь, очевидно, – говорит эпистемолог, – нельзя описывать упадок, так как он тут же будет ошибкой. Если бы история науки описывала ошибки, которые могли бы делаться после открытия математических истин, то она была бы историей плохих учеников в математике, а не историей подлинных математиков. Такая история оставила бы поприще позитивной истории» [59, с. 141]. Вот как он формулирует абсолютную дилемму истории: «История науки стоит перед фактом абсолютного роста. Или она описывает этот рост, или ей просто нечего сказать» [там же]. Историей с абсолютным ростом и выступает для Башляра история математики, которая поэтому является для него образцом истории знания.
Идеи Башляра об особом положении математики и ее истории среди других наук разделили вслед за ним и такие эпистемологи и историки, как Серр и Фуко. Математика, по Фуко, уже в Античности достигает порога формализации и тем самым является эпистемологически гомогенным образованием по отношению к современному состоянию этой науки. Иными словами, математические знания как бы сами собой входят в состав их современного свода независимо от того, в какой исторический момент они возникают. Однако именно поэтому история математики, как считает Фуко в противовес Башляру, не может служить моделью для истории других наук [84, с. 246].
Математика рассматривается Башляром достигшей норм рациональной зрелости уже в очень ранний период. В математике, считает Башляр, особенно ярко проявляется действие «рекуррентного света», отбрасываемого настоящим на прошлое. Теорема Брианшона, открытая в XIX веке, позволяет лучше понять знаменитую «мистическую гексаграмму» Паскаля (1640)[42]42
Теорема о шестиугольнике, вписанном в коническое сечение. См.: Тарасов Б. Паскаль. М., 1982. С. 55–56.
[Закрыть]. И понимаемая благодаря дуальной паре (Брианшон – Паскаль) эта гексаграмма удваивает свою значимость [59, с. 142]. «Этот рекуррентный свет, – говорит Башляр, – который так четко действует в гармоническом развитии математического мышления, может оказаться гораздо менее четким при фиксации исторических значений в других областях науки, например, в физике или в химии» [там же, с. 142]. Поэтому история математики и выступает в качестве образца «рекуррентной истории», истории позитивных истин, накапливаемых в ходе прогресса познания, которые хотя и возникли в прошлом, хранят свою актуальность. И если в истории математики этот процесс рекурсии, т. е. высвечивания прошлого знания светом современного, не приводит к эпистемологическим передержкам, то в других науках такие процедуры нередко приводят к грубой модернизации. И такие рекурсии Башляр отвергает.
Один из примеров такой грубой модернизации он подробно разбирает. Это получение коллоидального золота Ланжело в 1672 г. Гулевинь, историк науки, написал об этих опытах, в результате которых ученый, пытаясь растворить золото, получил его тончайшую суспензию, образовавшую устойчивый коллоидный раствор красного цвета [59, с. 143]. И Гулевинь торжественно объявляет Ланжело первооткрывателем металлических коллоидов, обогнавшим Бреди-га на 250 лет. Но, комментирует Башляр этот текст, используя его интерпретацию Брюнсвиком, «это открытие существует только для нас, а не для ученых того времени. Действительно, нельзя сказать, что нечто знают, когда это нечто создают, но при этом не знают, что же именно создают» [59, с. 143]. Знания нет без его адекватного осознания и способности его преподавать. Очевидно, Ланжело ничего не мог сказать о коллоидной химии металлов, в то время как Бредиг мог объяснить свои опыты в адекватной форме.
Этот момент Башляр отмечает как очень важный для истории науки. «Нужен подлинный такт, – говорит он, – чтобы манипулировать с рекурсиями. Но остается необходимым историю разворачивания фактов дублировать историей развертывания значений (этих фактов. – В.В.)» [там же]. Естественно, что знание господствующих в современной науке «значений» представляет собой ключ к суждениям о прошлом: «Исходя из истин, которые современная наука сделала более ясными и лучше упорядоченными, прошлое истины обнаруживается с большей ясностью как прогресс в качестве самого прошлого» [59, с. 142]. Будущее – ключ к пониманию прошлого, точнее, настоящее, являющееся будущим для этого прошлого. «Драма великих открытий, – говорит Башляр, – изучается нами с тем большей легкостью, что мы присутствуем при ее пятом акте» [там же].
Однако настоящее состояние науки на самом деле вовсе не абсолютная развязка всех исторических драм познания. И Башляр знает об этом. В этом коренится основная слабость презентистской концепции. Он признает эту трудность и считает свою позицию «трудной и опасной» [59, с. 144]. Сама современность науки носит эфемерный характер и в этом – зыбкость всей презентоцентристской концепции истории науки. Сознавая эту трудность, он, однако, достаточно просто от нее отделывается. «Я предлагаю, – говорит эпистемолог, – модернистский идеал для истории науки (l'idе1al de tension moderniste), но это значит, что история науки должна часто переписываться заново. И именно эта ориентация на современность делает историю науки всегда самой живой и поучительной из всех научных доктрин» [59, с. 144]. Иными словами, история науки вынуждена все время перестраивать себя заново, учитывая новое состояние науки.
Башляр обращается к истории науки и находит в ней (можно сказать, что он пытается эмпирико-исторически оправдать свою концепцию) подтверждения основных положений своей концепции. В частности, он стремится показать, что историческая рефлексия науки со стороны самой науки (а это и есть, собственно говоря, база истории науки, по Башляру) всегда была «судящей», а история тем самым всегда была «судимой» (jugе1e). Иными словами, ученый, выступая в роли историка, всегда судил прошлое, отталкиваясь от современного ему знания. Так Башляр пытается оправдать свой нормативизм ссылкой на историю истории науки – историки науки всегда оценивали и судили прошлое знание. Правда, мы скажем, историки в таких случаях выступали скорее как ученые, чем как историки. Но Башляра это замечание вряд ли задевает, так как для него в принципе между наукой и историей нет границы, раз история есть познание истины во времени и входит тем самым в науку и имеет смысл только в ее рамках. Подчеркнем, для Башляра история науки не представляет никакой самостоятельной ценности, она не есть автономная дисциплина, независимая от самой науки. История науки оправданна и имеет смысл только как часть науки, как ее историческая преамбула и не более того. Такие преамбулы входят в состав собственно научных трудов. Точно так же входит в науку и сама история. Башляр игнорирует все прочие аспекты истории науки, которые делают из нее самостоятельную дисциплину, имеющую свои особые функции в культуре, в гуманитарном знании и т. п. Все, что не входит в парадигму преамбулы, он называет несколько свысока, с позиции своего «откровенного модернизма», «устаревшей историей» и напрочь отбрасывает. Тем более что для развития знания характерна, говорит он, решительная «ликвидация прошлого», обнаруживаемая в научных революциях [59, с. 140].
Другой момент, который здесь существен, состоит в том, что Башляр считает, что его модернистская или модернизаторская позиция в полной мере отвечает только науке XIX и XX веков, когда наука обрела дисциплинарный ритм, строгие каноны, гарантии надежной защиты против возврата к любым проявлениям преднаучной ментальности благодаря сложившимся психологическим нормам, носителем которых выступает, по Башляру, научное сообщество («град ученых»). Эти два момента (нормативность истории науки и ее модернизм, оправданный только для науки XIX–XX веков) он демонстрирует на примере рефлексии швейцарским физиком конца XVIII века Жаном Инген-Хаусом открытия пороха [59, с. 144–146]. Инген-Хаус пытается рационализировать (и модернизировать) открытие пороха – смесь селитры, угля и серы обладает свойством взрываться при определенной детонации. Используя понятия новейшей для его времени химии Лавуазье, ученый пытается показать, что то, что раньше было сделано чисто эмпирически, случайно, теперь могло бы быть сделано сознательно, что порох можно было бы «спроектировать», рационально построив его состав в уме, и только затем обратиться к опыту. Но эта рационализация – частична, несовершенна, оказывается грубой «рекурсией», так как уже с современной точки зрения ученый явно преувеличивает возможности науки своего времени. Но Башляру важен сам факт: история науки судит свое прошлое, история есть не более чем сама наука, повернутая только назад, но при этом мыслящая всецело в современных научных понятиях. История науки, по Башляру, это «усилие понять, модернизируя» [59, с. 146], и только иногда эта модернизация бывает «преждевременной», но и в этом случае она оправданна, ибо другого пути для истории науки, как считает эпистемолог, нет.
Из своего экскурса в историю истории науки Башляр делает такой вывод: «Представляет определенный интерес проследить эту историю истории науки, эту историю науки, начинающую рефлектировать о самой себе, эту историю всегда размышляющую, всегда начинающуюся заново» [59, с. 146][43]43
Эту программу исследования истории истории наук будет выполнять Ж. Кангилем с сотрудниками.
[Закрыть]. История науки, по Башляру, – самосознание науки как науки, как объективного знания, и уже поэтому она есть рационализация прошлого через его модернизацию. На историю науки могут влиять события в политической истории, упадок цивилизации и т. п. Но все эти события, говорит Башляр, совершенно внешни самой науке и поэтому не могут входить и в ее историю [59, с. 139].
В защите своего образа истории науки, отвлеченного от всякой социальной и культурной истории, образа сугубо интерналистского, Башляр прибегает к чисто эмпирической аргументации. «Если вы мне станете возражать, – рассуждает эпистемолог, признавая, что события гражданской истории могут, например, затормозить прогресс науки, – что это различение (различение того, что принадлежит истории науки в собственном смысле слова, и того, что к ней не относится. – В.В.) является искусственным, если вы скажете, что оно стремится обесплотить научное мышление, лишая его воздействия на людей, живущих в некоторой стране и в определенную эпоху, то я просто сошлюсь на факты, как они существуют, сошлюсь на историческую культуру, как она есть. Откройте неважно какую книгу по истории науки – будь то элементарную или самую ученую – и вы увидите, что постоянным и значимым фактом является следующий: история науки всегда описывается как история прогресса познания. Она заставляет читателя пройти от состояния, когда знали мало, к состоянию, когда знают больше, и никогда в обратном порядке» [59, с. 139–140].
История науки, таким образом, есть «история прогресса рациональных связей знания» [59, с. 146]. Как это понимать? Именно с этой лаконичной и выражающей суть историографической концепции Башляра формулой связан его рационалистический аксиологизм, который наряду с модернизмом или презентизмом характеризует основные черты его концепции. В истории науки действуют нелинейно нарастающие рациональные факторы, ведущие к усовершенствованию, улучшению рациональной организации знания, проникновению рациональных структур в познаваемый объект. Математика – не язык, научные теории – не эквивалентны друг другу, как склонен считать скептицизм дюгемовского толка, критикуемый Башляром. Математика – содержательное предметное мышление, а научные теории отличаются по степени их объективности и рациональности. Оценки же этих степеней, критерии рациональности, нормы научности задаются самим разумом и утверждаются его волей, локализованной в научных сообществах специалистов. Эти нормы разума действуют как своего рода «аттракторы» эволюции науки. В их состав входят «рациональные ценности», «ценности истины». «И чем ближе мы подходим к нашему веку, – говорит эпистемолог, – тем яснее чувствуем, что рациональные ценности ведут науку» [59, с. 147]. И именно поэтому история науки не может быть простой эмпирической историей. «Акты Академий, – говорит Башляр, – естественно содержат большой материал по истории науки, но эти акты не образуют в действительности подлинной истории науки. Необходимо, чтобы в этом материале историк науки прочертил линии прогресса» [там же, с. 141–142].
Разум, высший психизм, считает Башляр, знает свои высшие ценности, свои нормы и ведет науку, сообразуясь с ними, отвергая то, что этим нормам и ценностям не соответствует, ставя на пути препятствий мощный заслон, который в современной науке настолько эффективен, что в ней невозможен никакой регресс. История науки, таким образом, предстает как телеономный аксиологически ведомый разумом процесс, имеющий одно направление, один центр притяжения. Суть аксиологического видения истории науки выражена Башляром в таких словах: «В судьбе науки рациональные ценности утверждают себя сами (s'imposent). Они утверждают себя исторически. История науки ведо1ма своего рода автономной необходимостью. Философия науки должна считать своей задачей систематически определять и классифицировать в иерархии эпистемологические ценности. Общие дискуссии о ценности науки – тщетны, если не видят, что любая научная мысль приводит в движение (sensibilise) психическую ценность самого высочайшего уровня» [62, с. 47–48].
Движение самоутверждения высочайших психических, интеллектуальных, рациональных ценностей и есть стержень научной эволюции, сущность историко-научного процесса, глубоко лежащего в плане самой судьбы человека. Этот последний момент – пересечение судьбы человека с судьбой науки – особенно важен для Башляра. Его, пусть и в другой форме, мы найдем и у философов-эпистемологов, примыкающих к традиции Башляра (в частности, у Фуко). Но пока нам важно реконструировать рационалистическую аксиологию Башляра, которую он противопоставляет скептицизму конвенциалистской философии науки в духе Дюгема или Пуанкаре. Конвенциализм отвергается Башляром, так как не учитывает, как считает эпистемолог, дифференциацию эпистемологических значений знания. Иными словами, он проходит мимо того, что научные теории являются не просто «экономными», «простыми», «эффективными» по отношению к эмпирическому базису, но выражают суть объекта, образуя ступени приближения к объективной истине и поэтому могут и должны оцениваться и принимать при этом различные эпистемологические значения. Теории, считает Башляр (и в этой критике правота на его стороне), обладают разными эпистемологическими ценностями. И задача историка науки указать на те теории, которые обладают более высокой эпистемологической ценностью. Так историк включается в процесс прогрессивного движения науки.
Башляр в своей аксиологии следует за Пуанкаре, который, может быть, первым заговорил о ценности в применении к науке, но эта попытка, как справедливо отмечает Редонди, была тщетной, так как он стремился оградить науку от скептицизма с помощью конвенциализма [113, с. 194]. «Башляр, – пишет исследователь, – был один из немногих, кто, защищая необходимость философии, воодушевленной научным познанием, разоблачал культурную роль, которую, желая того или нет, выполнял конвенциализм» [113, с. 194]. Башляр отверг и историографию конвенциализма, представленную Дюгемом, крупным историком науки. Эта историография базировалась на самом широком и некритическом применении представления о предшественниках и представляла собой типичный образец континуалистской историографии. Но метод или принцип предшественника (установка на его поиск) на самом деле (и вопреки традиционной вере в прогресс) подрывал тезис о познавательном прогрессе: вклад великих преобразователей науки низводился при этом до уровня простого «продолжения» идей их предшественников. Поэтому дисконтинуализм Башляра был способом действительно всерьез принять схему прогресса в истории науки. Прогресс, его необратимость, его глубина – все эти моменты опосредованы у Башляра его представлением о разрывах, с одной стороны, с другой – его концепцией «рекуррентной истории», его представлением о значимости оценок в истории науки (история науки есть познание истины и поэтому в ней должны действовать «эпистемологические оценки», а не просто методологические, сводящиеся к ценностям «простоты», «экономности» и т. п.).
Идея прогресса действительно доминирует в концепции истории науки Башляра. И она по сути дела даже уменьшает значение его представления о разрывном характере развития знания.
«Современная история, – говорит Башляр, – воспроизводит то же самое приближение к рациональности, что и процесс прогресса науки, развивающийся медленно в более ранней истории» [59, с. 147]. Предмет историографии науки, по Башляру, это – прогресс, более медленный в ранней истории и ускоряющийся при ее приближении к современному этапу развития знания. Единственным отличием различных эпох развития науки выступает, таким образом, скорость прогресса науки. Со временем она увеличивается и именно к этому сводится по существу вся телеономия историко-научного процесса. Очевидно, что в таком представлении дисконтинуализм развития науки отступает на задний план. И действительно, в своей лекции об актуальности истории науки Башляр считает основными понятиями своей историографической концепции именно понятия прогресса и препятствия, а не разрыва, поскольку препятствие определяется как раз как препятствие прогрессу. Но это вовсе не означает, что понятие разрыва утрачивает свою значимость. Относительная его «затененность» в этой лекции, возможно, обусловлена ее популярным характером, педагогическими целями. Ведь, как известно, педагоги всегда преувеличивают непрерывность в развитии науки, так как с разрывами трудно работать педагогически.
Вторую часть своей лекции Башляр посвятил культурным аспектам истории науки. История науки помимо своей чисто научной – и главной – функции имеет еще и другие функции. В частности, считает Башляр, она должна поддерживать высокий престиж науки, ее ценностей, ее идеалов и т. п., служить задачам поддержания ее авторитета среди молодежи. История науки должна вписывать науку в общую культуру, создавать привлекательные образы ученых-новаторов, поддерживать своего рода легенды о великих гениях науки. Башляр допускает в педагогических целях упрощение реальной истории, ее схематизацию. Он считает, что легенда – «история столь же верная, сколь и лживая, как и всякая другая история» (слова Гюго, сказанные им о Шекспире) и поэтому она вполне допустима в истории науки культурного и педагогического, а не научного назначения. Этого «либерального» отношения к историко-научным легендам мы не найдем у таких последователей Башляра, как, например, Фуко. Фуко решительно порывает с психологизмом и педагогизмом Башляра, с его сциентистским прогрессизмом и уже поэтому он столь критичен по отношению к легендам истории науки, стараясь всячески разоблачить ее мифы (например, миф о Пинеле[44]44
Пинель Ф. (1745–1826), французский врач. Освобождение им содержащихся в психиатрическом приюте Бисетр больных от цепей, сопровождающееся реформой заведения, не было торжеством гуманности и незаинтересованного познания, считает Фуко, а означало лишь такую метаморфозу социальной репрессивной машины, которая неотделима от соответствующей эпистемологической мутации [87, с. 594–603].
[Закрыть]).
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?