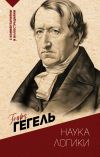Текст книги "Философия науки Гастона Башляра"

Автор книги: Виктор Визгин
Жанр: Философия, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Глава пятая
Между понятием и образом
Есть утешение большое —
Явленьем всяким пламенеть,
Все равнодушное, чужое
В себя принять, в себе воспеть.
Иван Коневской
Между понятием и образом, подобно пламени горящей свечи, колеблется сам образ французского мыслителя Гастона Башляра (1884–1962). Действительно, его творческий путь начался с эпистемологического исследования проблемы теплопередачи[45]45
Bachelard G. Étude sur l’évolution d’un problème de physique: La propagation thérmique dans les solides. P., 1927. Эта работа рассмотрена нами выше: с. 139–144.
[Закрыть], а закончился исследованием поэтического воображения, инициируемого в грезящей душе пламенем горящей свечи[46]46
Bachelard G. La flamme d’une chandelle. P., 1962. Русский перевод Г. В. Волковой: Башляр Г. Пламя свечи // Башляр Г. Избранное: Поэтика пространства. М., 2004. С. 213–278.
[Закрыть]. Классический образец научно-понятийного постижения процессов горения дали лекции Майкла Фарадея, упоминаемые Башляром[47]47
Фарадей М. История свечи. М., 1980. Башляр упоминает эти лекции в книге «Пламя свечи» (См.: Башляр Г. Избранное. С. 252).
[Закрыть]. Они демонстрируют ориентацию научного менталитета на воспроизводимый опыт, на абстрактные понятия, фиксирующие его течение. Ментальность поэта, напротив, определяется уникально ситуативной спонтанной активностью языка, слова. Характерно, что сам Фарадей даже не записывал своих лекций – настолько для ученого важны понятие и число, а не само слово. Научный дискурс функционирует как стабильно терминированный язык. Мир человеческой субъективности, воображения, особенности личного восприятия – все это остается за пределами научного дискурса. Но образная подпочва есть и у точного естествознания.
Однако не только наука с ее понятиями имеет дело с явлением горения, но и грезящее воображение. Спонтанный образ – атехничен: в отличие от научного понятия его нельзя практически использовать в технике, в мире нужды. Мир образов – это избыточный мир по отношению к миру пользы, практики и техники. Пламя свечи, пробуждающее свободные валентности человеческой души, уносит ее из мира пользы, труда и научного познания в мир творческого воображения, без которого, однако, немыслимо творчество и в самой науке и технике.
Что же именно соединяет поэта с его образами и ученого с его понятиями? Их соединяет красота. Фарадей говорит об «изящном опыте»[48]48
Фарадей М. История свечи. С. 28.
[Закрыть]. Ученый может находить красоту и в лаконичной формуле, сжато описывающей огромный массив опытных данных. Красота образов или красота понятий одинаково изумляет, восхищает человека, ее открывающего. Она стимулирует его дух, воодушевляет на новые поиски.
Кто же может соединить поэта и ученого, образ и понятие? Философ. Опыт Башляра говорит нам именно об этом. Такое соединение проходит, однако, через схватку понятия и образа. Их связь амбивалентна: в ней наличествует не только взаимное притяжение и скрытая гармония, но и явное расхождение вплоть до полной несовместимости одного с другим. В большой философии философы всегда, подобно Платону, искали и находили нелегкие для выявления тайные связи образа и понятия. У самого Платона его мыслеобразы необычайно глубоки (например, таков его образ пещеры).
Башляр самым категорическим образом утверждал несовместимость научного понятия и поэтического образа. Вот его высказывания: «Оси науки и поэзии противоположны»[49]49
Bachelard G. La poétique de la rêverie. Paris, 1960. P. 46.
[Закрыть], «научная установка состоит именно в том, чтобы лучше сопротивляться наваждению символа»[50]50
Bachelard G. Le matérialisme rationnel. Paris, 1953. P. 49.
[Закрыть], «научное понятие функционирует тем лучше, чем полнее оно освобождается от всего образного фона»[51]51
Bachelard G. L’activité rationaliste de la physique contemporaine. P., 1951. P. 14.
[Закрыть]. Список подобных высказываний можно продолжить. Однако не будет ли более точным сказать, что отношение Башляра к взаимосвязи поэзии и науки колеблется, как пламя свечи, от вердикта «им не сойтись» до признания их реального схождения в культуре? Действительно, парадокс связи несвязуемого всю жизнь мучил Башляра. И свой курс по философии науки в Сорбонне в 1954–1955 гг. он закончил циклом лекций о способности мечтать, или грезить (facultе1 de rе4ver). Именно воображение, как интерпретирует позицию французского философа его биограф, позволяет нам открывать новые миры не только в поэзии и искусстве, но и в науке[52]52
Margolin J. Bachelard. Paris, 1974. P. 19.
[Закрыть].
«Образ в нас, – говорит Башляр, – не дополнение, а субъект воображения (le sujet du verbe imaginer)»[53]53
Bachelard G. La formation de l’esprit scientifique: Contribution à une psychanalyse de la connaissance objective. Paris, 1938. P. 22.
[Закрыть]. Как считает исследователь его творчества Доминик Лекур, Башляр присоединяется в этой оценке воображения «к тем поэтам и философам, которые видят в Воображении не психологическую способность, а сам источник Бытия и Мысли»[54]54
Lecourt D. Bachelard ou le jour et la nuit: un essai du matérialisme dialéctique. Paris, 1974. P. 142.
[Закрыть].
К такому же выводу приходит и Жан Ипполит: «Метафизика воображения, – пишет он, – которая является признанной целью Гастона Башляра, совсем другого порядка, чем экзистенциальный психоанализ Ж.-П. Сартра или психоанализ Фрейда. Она гораздо ближе к “трансцендентальной фантастике” Новалиса, к воображению немецких романтиков». Не пытаясь сейчас как-то объяснить эту двуполюсность творчества французского философа, зафиксируем его интенцию максимально развести разум и воображение, понятие и образ.
Как пишет Клеманс Рамну, у Башляра в его работах по поэтике «все формулировки, считающиеся верными или уместными в эпистемологии, необходимо опрокинуть, заменив их на противоположные. И таким образом, вполне естественно, что снова обретают смысл “субстанции”, “бытие”, но при условии, что они вступают в стихию воображения»[55]55
Ramnoux C. Monde et solitude ou de l’ontologie de Bachelard // Bachelard. Colloque de Cerisy. P. 405–406.
[Закрыть]. И на наш взгляд, это – правильная позиция для реконструкции его мысли, которую он сам, перекликаясь с Павлом Флоренским и Габриэлем Марселем, называл «конкретной метафизикой». Распыленному в современных научных абстракциях космосу стихий в башляровских исследованиях воображения возвращается его первородная сила и ценностный вес.
Но увлекаемый слишком быстро сменяющими друг друга научно-техническими новациями, неконтролируемой и односторонней глобализацией жизни, современный человек рискует утратить опору в традиции, в ее творческой актуализации. Это как раз тот самый разрыв, который для Башляра-эпистемолога был синонимом прогресса, а для нас сегодня он становится чуть ли не свидетельством регресса и кризиса современного человека.
Однако метафизическую неполноту философии науки, если она принимается за философию в целом, Башляр компенсирует своей философией поэзии и воображения. В ней он показывает нам человека, который не порывает со своими истоками, а, напротив, возвращается к ним, реактивируя их. Поэтому интегральная антропология Башляра, как и все его творчество, двуполюсна и не сводится к ее интеллектуалистско-познавательному измерению. Философия Башляра как целое предстает таким образом не только как философия динамической эпистемологической «детали», но и как философия свободно ветвящегося самоценного поэтического образа, связанного с познавательной функцией своими корнями.
Дни и ночи философа: зигзаги биографии
На три момента в биографии Башляра мы бы хотели обратить особое внимание. Во-первых, он начинает свой жизненный путь не с университетской философии, а с преподавания физики и химии в колледже родного города. Он любит преподавание, любит свой небольшой город (Бар-сюр-Об, четыре тысячи жителей), любит читать и изучать трудные научные сюжеты. В конце жизни он скажет о себе, что чувствует себя подлежащим при одном-единственном сказуемом – изучать. Вот философы – те считают для себя возможным философствовать, не изучая (себя он тем самым противопоставляет цеху философов). У него же другой взгляд на вещи: их прежде всего нужно изучать, погружаясь в самую блистательную из всех мыслимых стихий – стихию Науки. Для него наука – это естествознание, которое зиждется на математике (кстати, в 1912 г. он получил степень лиценциата по математике, соответствующую примерно нашей степени кандидата наук). И поэтому не случайно, что именно математизация знания станет для него определять направленность развития науки в целом.
Что же в этот период происходит в науке такого, что определит все творчество Башляра? Начало 20-х годов �X�X���в��е��к��а����в����н��а��у��ч��н��о��м����с��о�-��обществе отмечено спорами, вызванными теорией относительности Эйнштейна. Тогда были получены экспериментальные подтверждения его самой радикальной физической теории – общей теории относительности (идеи специальной теории относительности были выдвинуты Эйнштейном в работе 1905 г.). В этой теории именно математическая интуиция выступила абсолютным гидом продвижения научного познания к самым неожиданным, революционизирующим научное познание позициям. Башляр был глубоко потрясен эйнштейновской революцией в физике. Это – второй важнейший момент в его биографии. Отсюда у него возникает, укореняется и развивается идея сущностной революционности научного познания, и рождается мысль о том, что наука движется вперед актами разрыва с прошлым ее состоянием. Революционаризм, прерывность, мобильность, открытость научного разума – вот связка тех базовых интуиций, которые рождаются у него в это время. Впоследствии именно комплекс этих идей он разовьет в своих эпистемологических работах и в тех философских эссе, которые к ним примыкают («Интуиция мгновения», 1932 и «Диалектика длительности», 1936)[56]56
«Гарантии реальности, – говорит он, – оказываются математическими, и философ мог бы поэтому сказать: “Дайте мне инвариантные математические условия и я создам реальный мир”» (Bachelard G. La valeur inductive de la relativité. P., 1929. P. 184).
[Закрыть].
И, наконец, третий момент: именно в этот период Башляр становится профессиональным философом. Обратим внимание на такую связь событий: свою карьеру философа он начинает под воздействием импульса, полученного от потрясения, испытанного им при знакомстве с теорией относительности. Представим себе ситуацию – преподаватель естествознания, захваченный революционными событиями в физике, начинает карьеру философа! Скажем прямо, это совсем не обычный путь на Олимп философии.
Такой же пробивающий рутину карьерных троп путь был не только у Гогена, но и у Башляра. Что же тут удивляться тому, что у него сословие университетских философов именовалось местоимением третьего лица – они? И «они» платили ему, конечно, тем же. Так, например, хранители чистоты профессорско-систематической традиции с их штаб-квартирой за Рейном вообще отказали ему в признании его философом[58]58
Популярнейший в германоязычном мире философский словарь Шмидта не содержит имени Башляра. В тщетном ожидании читатель будет переходить от Баумгартена к Баумгартнеру, от одного немецкого профессора к другому – имени французского мыслителя он среди них так и не встретит.
[Закрыть]. Какая же философия возникает из этой запредельной для типичного профессора философии ситуации? Конечно же, философия революционно меняющейся, открытой, в высшей степени мобильной и сознательно все больше и больше математизирующейся науки.
Но не только подобное обращение к философии характерно для этого периода исканий французского мыслителя. После защиты двух докторских диссертаций по философии в 1930 г. он получает приглашение на гуманитарный факультет Дижонского университета и занимает место профессора философии. И здесь, в самый разгар его увлечения наукой, из которой он извлекает новые философские уроки, его посещает то, что можно назвать дижонским озарением. Со студентами у Башляра всегда был превосходный контакт, и он не только учил их, но и сам старался кое-чему у них поучиться. Так вот, однажды один его студент сказал ему, что он живет в «пастеризованном мире», то есть в мире, очищенном от «микробов» не-науки. И этот образ (именно образ, и это симптоматично) озарил сознание Башляра. «Для меня это было настоящим озарением, – признается он, – и вот в чем оно состояло: человек не может быть счастлив в стерилизованном мире, и поэтому мне как можно скорее нужно наполнить его кишением микробов, и тем самым вернуть этот мир к жизни. И вот почему я обратился к поэтам и поступил учеником в школу воображения»[59]59
Quillet P. Bachelard Gaston // Dictionnaire des philosophes / Dir. de Denis Huisman. Vol. 1. 2 éd. Paris, 1984. P. 210.
[Закрыть]. И тут начинается необыкновенное: Башляр начинает вести двойную жизнь. С одной стороны, он всеми силами борется с «микробами» воображения в науке и в ее истории. В этот дижонский период он пишет самую, быть может, важную работу по эпистемологии, в которой главным антигероем выступает как раз спонтанный образ («Образование научного духа: вклад в психоанализ объективного познания», 1938)[60]60
Книга эта, к сожалении, осталась непереведенной на русский язык.
[Закрыть].
Но в том же году Башляр выпускает в свет свое первое исследование материального воображения («Психоанализ огня»). Итак, теперь он движется сразу по двум, как он говорит, расходящимся направлениям, одно из которых обращено к изучению научных понятий, а другое – к исследованию ненаучного, и даже антинаучного, поэтического воображения. И характерно, что в этих контрастных областях у него оказывается действующим один и тот же метод фрейдовского психоанализа, которым он в это время увлекается. Постепенно он заменится юнгианским психоанализом, но сначала в «Психоанализе огня» мы найдем и пансексуализм, и целую серию комплексов, образованных по типу знаменитого комплекса Эдипа. Но если в книге об образовании научного духа «микробы» воображения, бациллы валоризации (этим словом Башляр обозначал рационально не оправданную акцентировку качеств как самодействующих субстанций, анимизирующую мир научных объектов) заклинаются и изгоняются с помощью психоаналитического их выявления, то в книге о психоанализе огня отношение к ним радикально изменяется, и эти же самые «микробы» исследуются здесь в их относительной автономии и самоценности, а не как безусловные препятствия научному духу, подлежащие устранению.
«Направления поэзии и науки, – говорит здесь Башляр, – изначально противоположны»[61]61
Башляр Г. Психоанализ огня / Пер. А. П. Козырева. М., 1993. С. 8.
[Закрыть]. Огонь, психоанализом которого он занят, это уже и не объект науки. Наука движется не к феноменам сознания, а к абстрактным соотношениям, к математическим зависимостям, описывающим явления своего специализированного опыта. Если до «Психоанализа огня» французский философ исследовал условия научной объективации мира и формы, в которых она наиболее эффективно осуществляется, то теперь он разворачивает свою исследовательскую страсть на 180 градусов и ищет условия субъективизации мира. И этот мир в его субъективном преломлении и оказывается миром древних мифов, миром, в широком смысле слова, поэтического воображения.
Как показывает предисловие к «Психоанализу огня», единая идея всего его творческого замысла со всей ясностью предстала перед Башляром как унитарная исследовательская программа. Отныне его работа будет совершаться, как он сам говорит, «в двоящейся перспективе», то есть как в перспективе научной объективации, так и в дополнительной к ней перспективе поэтической субъективизации. Огонь, вода, воздух, земля – во всех этих стихиях некогда целостного космоса древних присутствует возможность такого двойственного отношения к ним. Космические стихии порождают поэтические грёзы и в то же время при определенном к ним отношении могут корректировать наши суждения о них, благодаря чему мы достигаем их объективного познания. В человеке эти две расходящиеся перспективы сходятся. Башляр исследует антропологию объективирующего реальность человека, его менталитет, характеристики его, как он говорит, психизма, позволяющие ему проводить такую объективацию и достигать мира объективного знания, стоящего за видимым четырехэлементным космосом. Но, начиная с «Психоанализа огня», он исследует и антропологию мечтающего, грезящего человека, образы которому навевают эти же самые стихии.
Башляр стремится четко различать мечтающего человека и человека научно познающего, человека образа и человека понятия, но он не надеется, «что это различие будет когда-нибудь доведено до конца»[62]62
Башляр Г. Психоанализ огня. С. 10.
[Закрыть]. На эти слова следует обратить внимание: в таинственных глубинах духа эти столь различающиеся измерения сходятся так, как сходятся там же объективное и субъективное. Говоря о перспективе субъективирующего отношения к миру, Башляр постоянно акцентирует его связь с одиночеством человека, который в такое отношение вступает. «Именно задумчивого человека, – говорит он в “Психоанализе огня”, – мы хотим здесь изучать, задумчивого человека в его жилище, в одиночестве, когда огонь поблескивает, как и сознание одиночества»[63]63
Там же.
[Закрыть]. Говоря же о научной установке, он всегда, напротив, акцентирует ее укорененность в citе1 scientifique, в научном сообществе. Наука – дело коллективное, здесь немыслимо достигать результата без взаимной критики, без кооперации усилий. Мечтатель же, подчеркивает он, одинок: перед ним колеблется пламя свечи, его душу баюкают струящиеся воды, плывущие облака… Он в грёзах ищет покоя, блаженного чувства «у себя дома»[64]64
Тему интимности, бытия «у себя дома» (chez soi) независимо от Башляра развивал экзистенциальный философ Г. Марсель. Башляр хорошо знал работы друга Марселя Макса Пикара, швейцарского философа, который лично знал Башляра и рассказывал о нем своему парижскому другу. О М. Пикаре см. наше примечание в книге: Марсель Г. Ты не умрешь. СПб., 2008. С. 91–92. Его переписка с Марселем недавно опубликована, и в своих письмах он говорит о Башляре (Bulletin de l’association «Présence Gabriel Marcel», № 17. P. 2007. P. 70).
[Закрыть]. Но исследуемые им структуры грезящего сознания являются, согласно психоаналитической теории, к которой он в целом присоединяется, структурами коллективного бессознательного. Таковы, например, разнообразные комплексы, описанные в том же «Психоанализе огня».
Интуиция мгновения и идея разрыва
Как мы уже говорили, творчество французского мыслителя делится на две части. Однако у него есть такие книги, как «Интуиция мгновения» и «Диалектика длительности», которые, строго говоря, чисто эпистемологическими назвать трудно. Но с еще меньшим правом их можно отнести к исследованиям поэтического воображения. Однако если мы не будем цепляться за действительно весьма специализированный, и поэтому достаточно узкий, термин «эпистемология», то к философии как таковой, и даже к философии знания эти работы вполне можно отнести. А это означает, что бинарная структура творчества французского философа действительно ему присуща. И поэтому нет необходимости размывать ее уточнениями такого рода, что, мол, лишь большинство его работ можно распределить по таким контрастно соотносящимся разделам, как философия науки и исследование воображения. Наше замечание является репликой на мысль известного исследователя творчества Башляра Пьера Кийе, отметившего, что в наследии философа есть работы (выше мы их назвали, к ним он еще присоединил «Философию не»), которые выходят за рамки указанной дихотомии[65]65
См.: Quillet P. Bachlard. Paris, 1964. P. 210.
[Закрыть].
«Интуиция мгновения» (1931) представляет собой философское эссе, посвященное глубоко задевшей Башляра книге французского романиста, эссеиста и историка Гастона Рупнеля «Силоэ»[66]66
Силоэ (Siloё) – словесный символ таинственного источника творчески обновляемой полноценной, вечно юной жизни. Это слово интимного языка писателя Рупнеля, оправдание которого в качестве названия его книги совершенно ясно только самому ее автору.
[Закрыть]. Башляр преобразует полученный им от Рупнеля творческий импульс в оригинальное размышление о сущности времени, истории, творчества. Феномен времени он рассматривает в его трех базовых проявлениях: длительность – привычка – прогресс. Его главный тезис о природе времени состоит в утверждении его реальности лишь как мгновения. Только мгновение, говорит Башляр вслед за Рупнелем, реально: «В качестве реальности не существует ничего другого, кроме мгновения»[67]67
Bachelard G. L’intuition de l’instant: Étude sur la «Siloё» de Gaston Roupnel. Paris, 1932. P. 90.
[Закрыть].
В основу концептуального каркаса книги Башляра положена его критика метафизического учения Бергсона о времени и длительности (durée). Творчество Бергсона оказало огромное воздействие на всю французскую философскую мысль первой трети XX века. Не оставило оно не задетым своим влиянием и Башляра. Однако мировоззренческие установки Бергсона и Башляра настолько расходились, что влияние французского метафизика «жизненного порыва» не могло долго удержаться. На отход от философии Бергсона повлиял однако не философствующий писатель, привлекший внимание Башляра, а Альберт Эйнштейн с его теорией относительности. Бергсон вступил в спор с великим обновителем физики, и в этом споре метафизика с ученым Башляр встал на сторону физика. Вся эта ситуация оказалась достаточно сложной, многоаспектной. Сам Бергсон явно переоценил собственно научные возможности своей спиритуалистической метафизики, которая на самом деле носит принципиально сверхнаучный характер. На «крючок» неизжитого позитивистского сциентизма самого Бергсона и ловит его воспринявшая импульс эйнштейновской революции критика его Башляром. Там, где временные процессы измеряются или только встает задача по их измерению, там, где действует физическая объективация времени, там прав Эйнштейн, а не Бергсон. Дело здесь еще и в том, что сам идеал европейской метафизики двоится: у него есть как платоновско-мистические корни (в этой ситуации первостепенную роль играет даже не столько Платон, сколько Плотин), так и ставшие глубокими рационально-аристотелианские основания. И между этими основополагающими полюсами метафизической традиции существует не только согласие и гармония, но и расхождение вплоть до антагонизма.
Башляр воспринял Бергсона со стороны научно-аристотелианских корней метафизической традиции, более того, он подошел к концепции длительности французского метафизика как антиметафизик, как позитивист (хотя он во многом и преодолевает позитивизм, но, правда, не до конца, так как мировоззренчески остается в своей философии науки сциентоцентристом). Итак, он воспринял Бергсона, увы, догматически и сциентистски. Поэтому неудивительно, что, как он сам говорит, «от догматического сна его разбудила эйнштейновская критика объективной длительности»[68]68
Bachelard G. L’intuition de l’instant. P. 38.
[Закрыть]. И на самом деле Эйнштейн критиковал абсолютное, объективированное в духе Ньютона время, а не философски-мистическую интуицию времени, которой жила метафизическая мысль Бергсона. И вот сама суть дела: «Нам, – говорит Башляр, – внезапно стало ясно, что эта критика (Эйнштейном Бергсона. – В.В.) разрушает абсолютность того, что длится, всецело сохраняя… абсолютность того, что есть, то есть абсолютность мгновения»[69]69
Ibidem.
[Закрыть]. Но сама эта дилемма (длительность или мгновение), если ее рассматривать изнутри мира метафизической интуиции Бергсона, является ложной. Да, в научном плане Бергсон переоценил возможность своего интуитивизма, переоценил неотносительность величины времени (знаменитый пример из «Творческой эволюции» с куском сахара, опущенным в стакан воды: для достижения сладкого вкуса воды нужно определенное время). И Башляр это и подметил, всецело встав на сторону Эйнштейна и науки против интуитивной метафизики, претендующей и на научность тоже. И он прав в своем выводе: конкурировать с новейшей наукой в борьбе за объективность знания метафизика (любая!) не может, и поэтому, заключает Башляр, «метафизик должен замкнуться в своей чисто внутренне переживаемой длительности»[70]70
Ibid. P. 39.
[Закрыть]. И это верное замечание: из спиритуалистической метафизики объективную науку вывести невозможно. Но отсюда вовсе не следует довод против такой метафизики не как науки, а как философии. Вот этого Башляр понять не мог, ибо не разделял спиритуалистического мировоззрения, являясь по своим исходным позициям материалистом. Материалист, как и ученый-физик, бытие рассматривает исключительно в формах пространства-времени. Внепространственного и вневременного бытия для него не существует. И в этом суть расхождения Башляра с Бергсоном.
Башляр связывает с пространством, объективирует, переводит во внешний план бергсоновскую длительность. На самом же деле она – духовное сверхпространственное усилие, «жизненный порыв», то есть скорее именно цельный творческий акт и «мгновение», а не континуальность. Башляр оказался нечувствительным к мистико-интуитивному статусу длительности и времени у Бергсона. Но иначе и быть не могло в силу глубокого различия в их философско-мировоззренческих генеалогиях. Ни Плотин, ни Равессон, ни другие метафизики-спиритуалисты не оказали на Башляра никакого влияния. Он был наследником Демокрита и Лукреция, просветителей и позитивистов, рационалистов и ученых, его учителей в философии.
Башляровская критика длительности обращена не столько прямо к Бергсону, сколько к бергсонианству, к неким по-бергсоновски звучащим клише. Он сам прямо на это указывает, говоря, что бергсонианец «мгновение всегда заменяет траекторией»[71]71
Bachelard G. L’intuition de l’instant. P. 47.
[Закрыть]. Но сам Бергсон с подобными бергсонианцами не имеет ничего общего: ведь он никогда не сводил живого времени к его пространственному «следу». Траектория, по Бергсону, – это интеллектуализированная длительность, рационализированное время. Так же не сводится подлинно Бергсонова длительность и к континуальности. Однако именно такое ее представление и критикуется Башляром, противопоставляющим ему интуицию мгновения.
Подведем итог. В работе «Интуиция мгновения» Башляр выдвигает как свой основной концепт понятие разрыва (rupture). Мгновение и разрыв коррелятивно связаны. Однако разрыв лишает время гармонической согласованности его трех базисных измерений (прошлое, настоящее, будущее), принимая за всю реальность времени лишь настоящее, или мгновение. Пафос Башляра, поэтически выраженный в этой книге, можно свести к словам советского шлягера:
Есть только миг между прошлым и будущим
Именно он называется жизнь…
Но как ни соблазнителен такой дифирамб текущему и прерывистому мигу-мгновению, философской основательности мы за ним признать не можем. Однако генезис плодотворных идей может включать и такие, «криволинейные», ходы мысли и подобную односторонность: это еще не означает их непродуктивность. И действительно, мысль Башляра о примате разрыва над континуальностью существенно обогатила новыми подходами методологию истории в целом и в особенности методологию истории науки. Такие выдающиеся историки науки, как Жорж Кангилем или Мишель Серр (Serres) были учениками Башляра. Именно своими идеями разрыва и эпистемологического препятствия он заложил целую традицию новой эпистемологии и историографии науки во Франции, которая имела и широкий международный резонанс. Кстати, творчество Мишеля Фуко также своими корнями уходит в философию эпистемологических разрывов и препятствий Гастона Башляра, у истоков которой стоит его замечательная работа об интуиции мгновения.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?