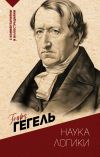Текст книги "Философия науки Гастона Башляра"

Автор книги: Виктор Визгин
Жанр: Философия, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Так что же соединяет эпистемологию Башляра и его исследования поэтического воображения? Ведь он сам говорит, что, переходя к поэзии, мы должны совершенно забыть о современной науке, а именно она вызывала в нем восторг и вдохновение. Но ведь и поэты вызывали в нем восторг и вдохновение. Вот в этом все дело: связующим звеном двунаправленного творчества французского философа было прежде всего его собственное личное воодушевление, которое в нем равным образом делилось между наукой и миром поэтических образов. Башляр осознавал двупламенность своей натуры, медитируя в старые годы над пламенем свечи так, что научные понятия при этом мирно уживались с поэтическими образами. Пламя как физико-химическое явление и как символ высших порывов человека, того небостремительного духа, который Башляр называл «вертикальностью», а Марсель «sursum» (ввысь), в башляровской душе соединялись в единое горение творчества. Философом-поэтом универсального человеческого созидания и был этот одинокий мыслитель и столь же одинокий мечтатель. Он был настроен на волну светового накала творческого горения, воплощающего таинство связи человека и космоса, человека и Бога.
Да, Башляр – «красный», «левый», атеист или почти. И совсем не религиозный мыслитель. Скорее уж материалист, но материалист активного типа и поэтому горячей, духоносной тональности. Ему как физико-химику в философии ближе «школа подозрения», чем философии доверия, идущие в русле религиозных традиций. Однако он исполнен при этом того трепета перед таинством бытия, которое само по себе есть признак человека духовно чуткого и открытого. И поэтому совсем не пустым будет сравнение его с Бердяевым – романтиком свободы и духа. Пламенность духа, прозрение в онтологическую высоту творчества, динамизм натуры, пафос борца – за радикальный сюррационализм в случае французского философа, за революцию духа в случае философа русского – вот их общий знаменатель. Разница в акцентах, но не в тональности личности, не в ее духовном темпераменте. Пламенность духа – пожалуй, таким от светящейся свечи идущим образом можно соединить эти в остальном, конечно же, совсем не близкие фигуры.
В душе Башляра горела живая мечта. Послушаем такие его слова: «Польза от мореплавания не столь очевидна, чтобы подвигнуть доисторического человека долбить ствол для изготовления лодки. Никакая польза не может оправдать беспредельный риск броска в открытое море – для этого требуются могущественные мотивы, самые властные интересы. И действительно могущественный интерес – это химерический интерес, тот, за которым стоит мечта, а не практический расчет. Это – сказочный интерес»[128]128
Bachelard G. L’eau et les rêves. Essai sur l’imagination de la matière. P., 1942. P. 100–101.
[Закрыть]. Гимн мечте звучит и как дифирамб радости: «Именно в радости, – говорит Башляр, – а не в заботе и труде человек созидает свой дух»[129]129
Bachelard G. La phychanalyse du feu. P., 1938. P. 39.
[Закрыть].
Понятие и образ, наука и поэзия – в этом биполярность творческой личности Гастона Башляра. В ней проявление культурно-исторической биполярности самой Франции. Действительно, с одной стороны, эту страну символизирует имя великого рационалиста, основателя новой европейской философии и науки – Рене Декарта[130]130
У Андре Глюксмана есть книга с характерным названием «Декарт – это Франция» (Gluksmann A. Descartes c’est la France. P. 1987).
[Закрыть]. Но, с другой стороны, Франция – литературоцентрическая страна, носительница высочайшей гуманитарной культуры. Бердяев, знавший мир французской культуры не из вторых рук, пишет: «Чудовищное преувеличение литературы во Франции есть черта декаданса. Когда молодой француз говорил о пережитом им кризисе, то обыкновенно это означало, что он перешел от одних писателей к другим, например, от Пруста и Жида к Барресу и Клоделю. Россия – страна великой литературы, но ничего подобного у нас не было»[131]131
Бердяев Н. А. Самопознание. М., 1990. С. 257.
[Закрыть]. Трудно найти более типичного француза, чем Башляр, этот неутомимый читатель, читавший с одинаковым воодушевлением и научную литературу, и поэзию. Как же не признать в нем воплощение интегрального образа французской культурной традиции? Конечно, эту биполярность философски можно представить как двойную центральность: с одной стороны, сосредоточенность на полюсе объекта и объективации (полюс науки, точного знания), с другой – на полюсе субъекта. Действительно, Башляр, как и феноменологи и экзистенциалисты, исследует то, что неотделимо от нашей собственной личности, тематизируя измерение интимности, задушевности, личного оплота и прибежища. Но это не чисто негативная в эпистемологическом смысле психологическая субъективность, а особая реальность с присущим ей онтологическим статусом. Если кантианцы подобную «добавку» к вещественной объективности называли «значением», или «ценностью», то Башляр предпочитает говорить об «ониризме». «Онирическое» в его словаре означает мир грёзы со всеми присущими ему импликациями и свойствами. Это вовсе не мир пустых иллюзий психологического субъекта. Нет, в грёзе, особенно если она ведет к глубокому поэтическому образу, присутствует динамическое начало космоса, самого бытия. Такая грёза уводит нас к первоначальному архетипу, если применить язык Юнга, которым не пренебрегает Башляр. Грёза, мечта – в высшей степени деятельное, энергийное, инициативное начало. То, что вот это здание – мой родной дом, означает, что его осеняет дух мечты. Описать такой дом в терминах отвлеченной геометрии недостаточно. Он – сверхгеометричен, ибо ониричен, являясь местом гнездовья грёз и отдохновения. Поэтому правы те философы, которые, как Клеманс Рамну, говорят, что в своей поэтологии Башляр пробивает путь к философской онтологии. Но ничего подобного «онтологическому требованию» (l’exigence ontologique) (в смысле Марселя) или «вопросу о бытии» (Seinesfrage) в смысле Хайдеггера мы у него не найдем. Традиционной философской тематизации онтологии у него нет. Быть онтологом без систематической онтологии и значит быть мыслителем-поэтом, быть пламенным философом.
Глава шестая
Ученик и учитель: Кангилем и Башляр
Жорж Кангилем (1904–1995), философ и историк науки, органнизатор историко-научных исследований во Франции. Специальной областью его интересов является история биологии и медицины. Основные его труды: «Норма и патология» (14), «Формирование понятия рефлекса в XVII и XVIII веках» (11). Отметим также тематические сборники его работ: «Познание жизни» (10), «Исследования по истории и философии науки» (15) и «Идеология и рациональность в истории науки о жизни. Новые исследования по истории и философии науки» (16). Под его руководством и при его участии были изданы также коллективные монографии: «Введение в историю наук. I. Элементы и средства. II. Объект, метод, примеры» (28). Жорж Кангилем длительное время возглавлял Институт истории науки и техники Университета Парижа, был профессором Сорбонны. Сотрудниками возглавляемого им Института были Мишель Фуко и Мишель Серр, Франсуа Дагонье и Клэр Саломан-Бейе, Камиль Лимож, Доминик Лекур, Рошди Рашед и Сюзанна Башляр.
В истории идей в современной Франции Кангилем вместе с Г. Башляром, Ж. Кавайесом, А. Койре, М. Фуко, Л. Альтюссером принадлежит к направлению, стоящему в оппозиции к экзистенциализму. Основной проблемой этого направления, лишь частично совпадающего со «структурализмом», является проблема рациональности, остро поставленная в философии Нового времени Р. Декартом. Однако Кангилем вместе с Башляром и Фуко ищет иных подходов к постановке и решению этой проблемы по сравнению с намеченными картезианской традицией, поставившей в центр интеллектуальной «системы отсчета» мыслящего субъекта.
Наследие Башляра
Для всего творчества Жоржа Кангилема характерен глубокий интерес к методологическим и философским проблемам истории науки, переданный ему его учителем Гастоном Башляром Кангилем не только развил многие ведущие идеи Башляра, но и руководил Институтом истории науки и техники, который возглавлял со времени его основания в январе 1932 г. Гастон Башляр. В своих «Исследованиях по истории и философии науки» (15) Кангилем анализирует роль Гастона Башляра во французской эпистемологии и истории науки, указывая на причину такого мощного влияния Башляра не только на него лично, но и на целое поколение историков науки и эпистемологов: «В истории науки, – говорит Кангилем, – Гастон Башляр проявил себя как гениальный новатор, выдвинув понятие эпистемологического препятствия» (15, с. 176).
Именно введение этого понятия в анализ развития научного знания привело к глубокому изменению образа истории науки. Чтобы это понять, надо вспомнить, что во Франции история науки долгое время была почти нераздельной вотчиной позитивистов. Позитивистская философия и методология прочно определяли характер историко-научных исследований. Приведем тому один пример. Кафедра истории наук, которой О. Конт не мог добиться от Гизо в 1832 г., в 1892 г. была предоставлена Пьеру Лаффиту, президенту позитивистского общества, после Лаффита эту должность занимал другой позитивист – Вырубов. Пьер Лаффит, начиная свой курс по общей истории науки в 1892 г., сравнил исторический метод, применяемый в истории науки согласно позитивистской методологии, с «умственным микроскопом». В этом образе раскрывается парадигма позитивистской концепции истории науки. Во-первых, она приравнивает историка к ученому естествоиспытателю, а следовательно, уравнивает природу и историю. Различие в методах естественника и историка – незначительное: у представителя естествознания микроскоп физический и вещественный, а у историка – умственный. Но, во-вторых, благодаря такому инструменту история и историческое время всецело сводятся к пространству, длительность представляется через своего рода пространственноподобную подробность, время истории оказывается таким же континуумом, как и геометрическое пространство Евклида, перенесенное на природу и тем самым натурализированное. Что же нового замечает историк благодаря «умственному микроскопу»? Трудности, как бы шероховатости истории, но все они не прерывают плавного прогресса знаний, в крайнем случае несколько задерживают его. Это чисто кумулятивистская и континуалистская концепция развития науки и, соответственно, ее истории. Оригинальность и сила башляровской мысли состоит в том, что в своих понятиях эпистемологического препятствия и исторического разрыва он решительно порывает с позитивистской концепцией науки. «Умственный микроскоп» не различает трудности и препятствия, замедления и разрывы. Последние для него просто не существуют. Поэтому «микроскоп» должен быть отброшен там, где нужно раскрыть генезис знания и объяснить его сложное и, как говорит Башляр, диалектическое движение. Без диалектики, считает он, нет подлинной истории, поэтому разрыв с позитивизмом неизбежен. Вот в чем суть вклада Башляра в философию и историю науки.
Образ микроскопа неудачен для Кангилема, следующего в своих рассуждениях за Башляром, еще и потому, что микроскоп не судит и не способен судить историю. Но без оценок и суждений о рациональном и иррациональном история разума и рационального научного познания, по Башляру, невозможна. Какой же образ истории науки в целом видит Кангилем у Башляра? История, проникнутая новой эпистемологией, философией нового «научного духа», не может быть ни собранием биографий ученых, ни описанием в стиле широкой панорамы выдвинутых этими учеными концепций. Кангилем показывает, что это должна быть концептуальная история, в которой преемственность в развитии понятий немыслима без разрывов. У науки есть свое специфическое время, а не просто хронология. И, в частности, у истории есть своя логика, отличная от логики восхождения от простого к сложному. Историческая последовательность изучения проблем не имеет отношения к их возрастающей сложности.
Введение понятий эпистемологического препятствия и исторического разрыва привело историю науки к тесному союзу с эпистемологией. И только такая история науки в глазах Башляра и Кангилема является действительно современной. Проникновение эпистемологии в историю приводит к углублению и к историзации самой истории. Пафос открытия подлинной истории, логика которой не совпадает с логикой привычного исторического мышления, объединяет Г. Башляра, Ж. Кангилема, М. Фуко и М. Серра. Интерес историков и философов переносится на сложный, противоречивый процесс движения знания, его «блуждания», отклонения и разрывы преемственности, на кризисы и аномалии, на все то, что обычной позитивистски ориентированной историей науки практически не замечалось.
Современная механика, говорит Башляр, это «наука без предков». Именно анализ новой физики позволил ему выработать свою концепцию развития науки. Сближение в плане непрерывного исторического повествования алхимии и современной ядерной физики, по Башляру, бессмыслено, хотя в них обеих, казалось бы, речь идет о «трансмутации элементов». Это – фальшивая общность, которую историк должен разоблачить в качестве таковой. История науки, по Башляру, как это подчеркивает Кангилем, – предприятие критическое. Требование диалектического подхода означает, в числе прочего, разоблачение ложных преемственностей и обрывание фиктивных рядов предшественников.
Свой анализ новаторских идей Башляра Кангилем заключает выводом: «Обновив так глубоко смысл и значение истории науки, подняв ее от прежнего подчиненного положения до уровня философской дисциплины первого ранга, Гастон Башляр не только проложил новые пути, но и поставил новые задачи» (15, с. 186).
Позитивизм Конта: возникновение континуалистской концепции
Концепция развития науки у Жоржа Кангилема, как и у его учителя Гастона Башляра, носит ярко выраженный антипозитивистский характер. У Кангилема это обнаруживается не только в его «дисконтинуализме» и в других идущих от Башляра установках, но и в понимании связи нормы и патологии, в подчеркивании исторической значимости ошибки, аномалии (позитивизм фетишизирует норму, константность характеристик организма), в критике механистического редукционизма в биологии, сопровождающейся раскрытием значения виталистической традиции для прогресса знаний о живом, наконец, в его анализе тесного переплетения социальных, культурных и когнитивных факторов научного развития. Однако, как и Башляр, Кангилем признает важную роль позитивизма в истории культуры и научного образования во Франции. Он отдает себе отчет в том, что «история науки… стала неотъемлемой частью французской культуры благодаря усилиям одной философской школы – школы позитивистов» (15, с. 173). Кангилем как историк и философ науки пытается понять концепцию развития науки Огюста Конта, происхождение той самой кумулятивистсткой концепции с ее принципами конти-нуализма и постепенности научного прогресса, которой он, вслед за Башляром, противопоставляет свою концепцию. Фигура великого основоположника позитивизма привлекает внимание Кангилема еще и потому, что мышление Конта, сознательно ориентированное на биологию, интересно ему как историку биологии. У Конта Кангилема привлекает биологическая философия последнего и ее влияние на философскую и научную мысль Франции XIX века, а также его отношение к одной из ведущих медицинских школ начала прошлого века, к школе Монпелье (15, с. 75–80). Пытаясь совместить разум и историю, науку и время, Конт, как показывает Кангилем, и зависит от Просвещения, и отходит от него. Контовский позитивизм в отличие от философии Просвещения, признавая и развивая учение о прогрессе человеческого разума, не приходит к негативным оценкам прошлого. Тем самым в его контексте создается пространство для построения истории знаний. Отличие контовского позитивизма от идеологии Просвещения наглядно проступает в его теории религии. Если воспользоваться дильтеевским различением понимания и объяснения, говорит Кангилем, то Просвещение объясняло религию, в то время как Конт стремился к ее пониманию (15, с. 97).
Контовскую философию истории науки Кангилем раскрывает на примере анализа теории фетишизма, выдвинутой основоположником позитивизма. В рамках контовской концепции фетишизма оказались взаимосвязанными история религии и история науки. Что же обеспечивает эту связь? Прежде всего, само явление фетишизма, как оно трактуется Контом, представляет собой начальное проявление рациональной активности человека. Более того, по Конту, к образованию фетишистских представлений способны уже животные – тем самым выстраивается единая линия роста рационального отношения к миру, хотя, конечно, в самом фетишизме она предстает искаженной и ослабленной. Но фетишизм, несмотря на его, казалось бы, полное расхождение с научным способом мышления, выступает как способ объяснения вещей и событий. И религия, и наука, по Конту, – способы регуляции отношений организма и среды, и по сути дела уже на самых ранних стадиях развития человеческого общества присутствует рациональная составляющая в его связи с внешним миром. Конт даже усиливает тезис об объяснительной функции фетишизма: это не просто объяснение, но именно причинное объяснение, хотя только в самой первой и грубой форме, ибо вместо природных законов в качестве объясняющих сущностей выдвигаются «воления» живых существ. Вообще для подхода Конта к трактовке истории характерно то, что первая стадия любого исторического процесса всегда оказывается «детством», с характерным для него расхождением между слабостью средств и размерами желаний. Прогресс человеческого разума, рост научного знания в том числе, и призван исправить эту диспропорцию, присущую детству. Религиозное сознание неизбежно на инфантильной фазе развития. Религия на данном уровне развития человечества поддерживает человека, давая ему уверенность в своих возможностях. Изначально она вовсе не связана со страхом и тревогой, напротив, она их компенсирует, выполняя витальную функцию в жизнедеятельности человека. Суть фетишизма в том, подчеркивает Кангилем, раскрывая концепцию Конта, что стоящая перед историей задача гуманизировать мир предполагается уже выполненной, так как в фетишистском сознании внешний мир как «среда» уже дан в его антропоморфном представлении человека как организма. Конечно, это не более чем иллюзия, но в начале прогресса человечества фикция и фантазия необходимы. Подлинная гуманизация природного мира, овладение им – дело научного разума. Но он не возникает взрывообразно, а, как считает Конт, медленно вызревает в религиозном сознании на манер эмбриона. При этом Конт опирается на преформистскую модель развития. Последняя и определяет специфику его биологизма в подходе к истории. Для него прогресс есть развитие живых зародышей, практически не изменяющий их структуры. Отсюда его философия постепенности и предзаданности всех основных качественных компонент. Никаких различий, кроме различий в степени зрелости и в количестве накопленного опыта, философия развития Конта не признает (15, с. 98). Дополняя анализ Кангилема, мы можем подчеркнуть, что биологизация исторического, и в частности, историко-научного мышления происходит именно тогда, когда оформляется историзация самой биологии. Внедрение в биологию историзма, развитие идей трансформиза и эволюции, приведшее к созданию дарвинизма в середине XIX века, стимулировали биологизацию исторического мышления, приводили к возникновению эволюционизма, в частности теории развития Г. Спенсера, рассматриваемой Кангилемом как образец «научной идеологии», о чем еще будет сказано ниже. В XVIII веке, когда эволюционизм сам только зарождался, концепция развития науки была совершенно другой: прогресс человеческого ума в рамках просветительских учений понимался как выдвижение или нахождение смелых открытий, иными словами, как ряд заранее ничем не гарантированных побед научного духа. Концепция развития науки Конта радикально изменила взгляд на ее историю: прогресс знаний стал пониматься как неизбежность органического вызревания его «зародышей».
Эпистемология разрывов
Связь теоретической биологии с эпистемологией и историей науки можно представить следующим образом: биология XX века, далекая от преформизма начала XIX века, дает совсем другие модели для концепции развития знания. Существует целый ряд факторов, в силу которых позитивистская, и контовская в частности, концепции развития науки оказались в XX веке совершенно неприемлемыми. Среди таких факторов Кангилем отмечает необыкновенное ускорение научного развития: «Эпистемология разрывов, – говорит он, – соответствует периоду ускорения истории науки, периоду, когда год и даже месяц стали единицами измерения происходящих изменений. Эпистемология непрерывности находит свои объекты на заре возникновения знания или у его истоков. Эпистемология разрывов ничуть не презирает эпистемологию непрерывности, даже если она и иронизирует над теми философами, которые верят лишь в нее» (16, с. 26). Кангилем цитирует Башляра, который указывал на то, что взрывообразное развитие научных знаний в XX веке приводит к необходимости «разрыва» с традиционной эпистемологией непрерывности. Как и Башляр, Кангилем понимает причины возникновения кумулятивистской и континуалистской концепции развития науки и, более того, готов принять вытекающую из нее методологию историко-научных исследований, но для отдаленных истоков научного знания, а не для новой науки, когда возникают новые дисциплины, образуются новые понятия и меняются внутренние структуры знания в целом. Кроме этого фактора, есть и другие, в частности, утвердившееся благодаря Башляру и Попперу понимание того, что логика науки куда сложнее простого индуктивизма. На индуктивизме как на логическом фундаменте покоилась вся концепция позитивистского континуализма в истолковании науки и ее истории: медленное расширение эмпирического базиса и на его основе постепенный прогресс в теоретическом развитии.
Иными словами научное развитие изображалось как процесс накопления «фактов» и их индуктивного обобщения. Башляр же выдвинул на передний план математическое предвидение, опережающее факты: «Опережая факты, идея открывает детали и раскрывает конкретные характеристики явления. Идея видит единичное во всем его богатстве, тогда как ощущение схватывает только общие черты» (5, с. 7). Для Кангилема как ученика Башляра не существует индуктивистской догмы, что, конечно, облегчает принятие, дальнейшее развитие и применение новой эпистемологии в исторических исследованиях науки. Фактически, говорит Кангилем, история науки как дисциплина, а точнее, как жанр научной литературы, сложилась раньше, чем эпистемология или критическая теория знания. Самые выдающиеся труды по истории науки, созданные в XVIII веке, были написаны без отсылки к критическим и нормативным понятиям какой-то теоретико-познавательной концепции. Конечно, историки, такие, как Монтюкла или Байи, были проникнуты общей для эпохи Просвещения верой в разум и его постепенный и неуклонный прогресс. Но эти предпосылки ими не анализировались. Для них наука начиналась с Коперника, Галилея, Декарта, Гарвея, Ньютона и Лейбница, а после произведенной ими революции постепенно и неуклонно продвигалась вперед. Разрыв с прошлым, осуществленный этими гениями, как бы нацело компенсировался скрытой предпосылкой о непрерывности будущего развития науки. Так сложилась традиционная историография с ее установкой на непрерывность научного развития.
Она считала объектом своего описания то, что принималось за объект науки учеными соответствующего периода. Например, предполагалось, что история ботаники XVIII века не может понимать под «ботаникой» ничего кроме того, что сами ботаники этой эпохи обозначали как область своих исследований. Но здесь возникает фундаментальный вопрос: является ли наука прошлого действительно прошлым современной науки, скажем, современной физиологии растений (16, с. 13)? Следуя за Башляром с его принципами диалектики и историзма научного мышления «считать, что мышление химика, жившего до Лавуазье, например, Макера, таково же, как и мышление современного химика, значит, – писал Башляр, – замкнуться в материализме без диалектики» (6, с. 9). Кангилем ставит под вопрос всю историографическую традицию континуализма с его принципом непрерывности. Прошлое само по себе – неопределенное нагромождение следов. «В этом смысле, – говорит он, – прошлое физиологии растений сегодняшнего дня охватывает, видимо, все то, что люди, именуемые ботаниками, врачами, химиками, садовниками, агрономами, экономистами, смогли написать, следуя прихотям своих догадок, наблюдений или опыта, об отношениях структуры и функции у тех объектов, которые называют то травами, то растениями, то растительными организмами» (16, с. 14). Мы бы могли сказать, что это прошлое дано как архив. Последний термин будет включен в систему «археологии знания» Мишеля Фуко, который работал вместе с Жоржем Кангилемом, при этом оба философа плодотворно влияли друг на друга, что можно документально проследить по их взаимным упоминаниям и заимствованиям.
Итак, встает вопрос: как историк науки должен работать в «архиве»? Именно здесь на помощь историку науки должна прийти эпистемология. В «архиве» (термин Фуко) или, как говорит Кангилем, в «специализированной библиотеке», хранилище и складе знания, включающем все – от глиняных табличек, папирусов и инкунабул до компьютерных дисков сегодняшнего дня, – тотальность мысли прошлого представлена как непрерывная плоскость, «на которой можно выделить, согласно интересу данного момента, начальную точку отсчета, начало прогресса, конечным пунктом которого является современный объект этого интереса» (16, с. 14). Все историки, – продолжает свое рассуждение Кангилем, – классифицируются по характеру манипуляции с этой плоскостью непрерывности, по той смелости или осторожности, с какой они деформируют ее. Иными словами, историк оперирует с материалом и строит свой объект в специфическом идеальном пространстве-времени, стремясь прежде всего к тому, чтобы сформированное им идеальное пространство-время не было его чистым воображением. В выполнении этой задачи историку и должна помочь эпистемология.
Почему же такую помощь способна оказать именно эпистемология разрывов, т. е. непозитивистская эпистемология, которая в глазах Кангилема ассоциируется, прежде всего, с именем Башляра? Да потому, что только в этом случае историк будет критически относиться к своему «архиву» и не станет камуфлировать историческую диалектику ложной непрерывностью, не пройдет мимо реальных разрывов, резкой смены понятий, возникновения новых проблем и методов, ломающих якобы всегда непрерывную «линию» прогресса знаний.
Та история науки, которую отстаивает Кангилем и которую он практикует в своих исследованиях, является эпистемологической историей. Это означает, что теоретическая рефлексия историка над своими целями и задачами, по поводу его предмета и методов включается в исторический анализ, определяя реальную работу историка. При этом речь идет не о навязывании истории внешних для нее философско-эпистемологических теорий, но о подлинном союзе эпистемологии и истории, обогащающем их обеих. Дело не только в том, чтобы внести критическую эпистемологическую рефлексию в историю, но и, что не менее важно, содействовать выработке исторически выверенной эпистемологии. В частности, одна из функций истории науки состоит в том, чтобы быть, по выражению Дикстерхойса, «лабораторией» эпистемологии (21).
Идеальное пространство-время истории науки конструирует именно историк-эпистемолог, а не историк-эрудит и не ученый, отбрасывающий в истории все, что не соответствует современной науке. Только такой тесный союз эпистемологии и истории науки оказывается эффективным в исторических исследованиях. Он позволяет, в частности, объяснить превращение казалось бы тупиковой теоретической конструкции в точку роста, или превращение бокового и побочного явления в главное и определяющее. Так, например, открытие внеклеточной ферментации было «боковым» явлением в мире идей Пастера, в его микробиологии, но оно становится существенным разрывом тогда, когда развивается физиология энзимов. Итак, задача истории науки, по Кангилему, состоит в том, чтобы исследовать диалектику исторического процесса, имея в виду конкретно-эпистемологический подход, располагающийся в методологическом пространстве между областью работы чистого историка и самого ученого, делающего исторический обзор своей дисциплины. Такой подход может вскрыть более глубокий слой движения и роста научных знаний, чем чистая история эрудита или презентистское препарирование истории ученым-специалистом. В углублении и обогащении историзма мы видим оправдание такого подхода и его значение для методологии истории науки.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?