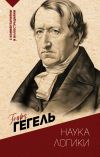Текст книги "Философия науки Гастона Башляра"

Автор книги: Виктор Визгин
Жанр: Философия, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Заключение
Выскажем, заключая проделанный анализ, некоторые общие замечания, ккасающиеся нашего понимания эпистемологического творчества Башляра в целом.
Башляр – героический рационалист, даже «сюррационалист» [67]. В этом пафосе разума – самого точного, самого абстрактного, математически ориентированного и динамического – он, безусловно, принадлежит к традиции французского рационализма от Декарта до Брюнсвика. Нетрудно видеть в этом героическом рационализме и продолжение традиции Просвещения с его культом разума и прогресса, ядром которого является именно прогресс науки.
Башляр-эпистемолог – сциентоцентрист, а не просто сциентист. На то указывает не только его пророческий, почти иератический тон, когда он говорит о науке. Башляр зовет к новому – открытому – рационализму, к динамическому научному духу. Он готов даже провозгласить его грядущую эпоху в качестве нового всемирного «эона», дополнив в духе закона трех стадий Конта его знаменитую «трехчленку» четвертым периодом – периодом «нового научного духа». Пророческий пафос Башляра направлен на провозглашение конца ветхого рационального Адама (еще весьма нерационального и именно потому и ветхого) и приход в будущем Адама нового – поистине и до конца рационального. Ясно, что при таких интенциях мысли, при такой водораздельной «гидрографии» мыслегенеза (мы используем здесь представление Павла Флоренского о «водоразделах мысли») никакой презумпции Бога, высшего Блага, сверхразумного Абсолюта у Башляра нет. Кажется, что повышенный градус динамизма и открытости земного разума ему их вполне заменяет. По крайней мере его эпистемологические труды (а их он написал немалое количество) упорно молчат об этом. И молчание это характерно.
Сциентоцентризм и гуманизм Башляра очевидны. Эрик Вейль справедливо, как нам кажется, подчеркнул, что тезис Башляра о «гуманизме науки» является по сути дела тезисом веры, а не науки [103, с. 181–182]. Башляр действительно был свободен от «тепло-хладного» отношения к науке, он в нее верил. «Наука, – говорил он, – приносит благо психике», «наука – сама по себе ценность, ценность психическая» [103, с. 182]. Башляр в этих суждениях, нет, в этих верованиях своих предстает перед нами наивным энтузиастом науки, вечным автодидактом[134]134
«Я не более, чем подлежащее для глагола “изучать”. Мыслить я не осмеливаюсь. Прежде чем мыслить, нужно изучать. Одни лишь философы мыслят прежде изучения», – говорит Башляр в своей последней изданной при его жизни книге, которую иногда называют исповедью мыслителя (Bachelard G. La flamme d’une chandelle, P., 1961, 2 е1d. P., 1962, p. 55).
[Закрыть]. Но разве можно без тени улыбки, спросит иной его читатель, читать у серьезного мыслителя такие пассажи, в которых говорится, что регулярность науки лечит душу, что ученые живут очень долго, что «познание оживляет психику», что научное изучение вещей динамизирует наш психизм и т. п.? Кажется, что наивностям великого философа нет конца. Но мы бы порекомендовали отнестись к его словам вполне серьезно, хотя бы уже только потому, что речь идет здесь действительно о вере, а она, как известно, «двигает горы».
Мы сказали о вере Башляра в Науку. А его вера в Прогресс? Его прогрессистская вера, конечно, может выглядеть старомодной и уступать в привлекательности и, возможно, в глубине осторожному скепсису Э. Вейля, не приемлющего ни догм прогрессизма, ни догм сциентизма. Вера в Науку и вера в Прогресс связаны у Башляра воедино: наука – сердце или, лучше, мотор всякого прогресса. Согласно башляровской сцинетоцентристской установке познанное – автоматически значит гуманизированное, очеловеченное. Для Башляра альфа и омега «очеловечивания» мира – его рациональное познание. Он прямо, без всяких разъяснений, заявляет, что «современная наука – это и есть гуманизм» [61, с. 26]. Но это не так. Или, точнее, не совсем так. Познание, быть может, только – начало, только первый шаг «очеловечивания» мира, даже, быть может, не самый главный. В конце концов, настоящее «очеловечивание» его немыслимо без его «обо1жения». Вот это осталось закрытым для «открытого рационализма» Башляра.
Итак, сциентоцентризм. Наука – благо-в-себе, т. е. своего рода алхимическая панацея, «эликсир жизни». Если в философии Бергсона основу бытия образует иррациональный жизненный порыв, то за кадром эпистемологии Башляра, на самых «водораздельных» высотах его латентной метафизики (явно выраженной метафизики он нам не оставил) стоит рациональный порыв, высший динамизм разума, некое самоалчущее познание, всегда ненасытное и неудовлетворенное собой. Мы сравнили Башляра с Бергсоном не случайно. Во Франции между двух войн (период пика творческой активности Башляра) философия Бергсона была, пожалуй, самой мощной интеллектуальной доминантой в мире умозрений. Башляр не раз вступал с ней в спор. Но, как мы видим, его эпистемологический «миф», как вывороченная наизнанку перчатка, напоминает метафизику творческой эволюции Бергсона: только на место иррационального порыва следует поставить порыв рациональный.
Выше и дальше разума Башляр не идет и идти не хочет. Душа и разум – это, кажется, его последние антропологические и онтологические реальности. Да, еще, конечно, природа. Душа, разум, природа. С разумом связано все его творчество как философа науки. С природой – его эстетика «материального воображения», поэтика стихий. С душой же связан весь его психологизм, который не просто «приписывают» ему его строптивые последователи-структуралисты, но который ему действительно присущ (относиться же к этому можно по-разному). Действительно, весь средний период деятельности Башляра-эпистемолога проходит под знаком увлечения психоанализом [55].
Башляр – философ науки. Для него живое, подлинное познание воплощалось в современной науке, в лабораториях, в спорах теоретиков. Профессорская же философия всегда казалась ему склеротически застывшей традицией, своего рода новой схоластикой (схоластику и Аристотеля он вряд ли бы мог реабилитировать, как это в какой-то мере произошло в современной научной методологии). Подчеркнуто резкое отталкивание от всех бывших тогда на виду концепций науки характеризует все творчество Башляра-эпистемолога. Объектом его критики выступают и прагматизм, и конвенциализм, и все виды спиритуализма, и бергсонианство, и, наконец, экзистенциализм. Рецепцией (и то временной) отмечены, пожалуй, только феноменология и психоанализ (не говоря о работах Рея, Брюнсвика и ряда близких ему философов и ученых, таких как Гонсет, Дюпреель, Детуш и др.). Башляр всегда считал, что новые онтологии и метафизики предчувствуются и приоткрываются именно в науке, прежде всего в великих деяниях научной революции XX века. Именно этим феноменом он был глубоко потрясен, изумлен, очарован. И поэтому вовсе не удивительно, что осмысление научной революции стало его основной философской задачей. В соответствии с классической формулой Стагирита об удивлении как источнике философского поиска изумление и восторг перед чудом новейшей науки и рождали его эпистемологические конструкции.
Итак, наука – центр его философствования. Неудивительно, что при такой конфигурации «водораздельных» ориентиров мысли в его построениях мы не найдем ясно артикулированной метафизики. Системы у него нет. В его построениях немало противоречий, незавершенностей, попыток и начинаний. Но это составляет как раз, на наш взгляд, его привлекательную черту. Не завершено бытие (оно – становление), не завершена наука, продолжаются искусство и жизнь. Как можно в таком случае говорить о метафизической цельности? Как можно при таком мировом положении дел претендовать на замкнутую систему мысли?
Богатые, сложные фигуры в истории мысли не могут не давать козырей полемистам из соперничающих школ и направлений. Башляр – из их числа. Так, например, он горячо выступает против гносеологической робинзонады. Выдвигая идею коллективного творчества в науке, он много говорит о «граде ученых», в котором делается наука. Для него солипсизм – абсолютное ничтожество мысли, тупик по определению. Но, увы, его идеи о «граде ученых» во многом остались на абстрактном уровне. У Башляра нет разработанной социологии познания. А что касается робинзонады, то не попадает ли он сам в ее ловушку, провозглашая одинокого субъекта носителем веры в Науку, сосредоточивающим в себе весь моральный психический динамизм ее движения? Можно спросить: плохо это или хорошо? Прав в этом Башляр или неправ? Но в любом случае, при любом ответе на эти как бы «детские» вопросы мы находим в структуре его эпистемологических работ возможность разнонаправленных движений мысли. Именно амбивалентность некоторых его построений позволяет одним критиковать его за «морализаторство» и «психологизм», противопоставляя этой «идеалистической антропологии» «децентрацию субъекта», «смерть человека», игру анонимных практик (критика Башляра со стороны структурализма). Но эти же самые построения мыслителя позволяют философам других ориентаций видеть в нем цельного метафизика, находящего общие корни воображения и разума, отстаивающего принцип свободы и персонализм. Для одних гуманизм – нечто преодоленное и научно неполноценное, для других – высшая ценность, питающая и саму науку. Поэтому в результате такой диспозиции загадочно двоится все творчество Башляра, подразделяясь на творчество «дня» (научная эпистемология) и творчество «ночи» (теория поэтики и эстетика). Но подобное двоение охватывает уже и одну часть этого «диптиха» – эпистемологию. В анализе динамического опыта науки Башляр нашел оружие против «склероза» преждевременных и неоправданных обобщений, исходящих, и это правда, нередко как раз от профессорской философии, от «интегральной» философии, от «идеализмов» философских кафедр.
В этом смысле показателен его доклад «Научное призвание и душа человека» (1952) [61, 3]. Башляр глубоко и живо чувствовал науку – ее будни и праздники, ее драматизм, ее этос и мораль. Наука, по Башляру, трудное, рискованное предприятие, требующее от ученого своеобразной аскезы, самовоспитания, мужества, упорства и постоянства. Башляр не согласен с утверждением Макса Шелера о комизме мученичества в науке (или за науку). По Башляру, наука – духовное предприятие, строящееся на вере в него. И поэтому, как и для религии, мученичество в науке и за науку – неизбежный элемент ее истории. По Шелеру же, наука – развитый вид приспособления, продолжающий ту адаптацию, которая формируется в растительном мире, а затем и в животном, переходя в мир человека. Концепция, с которой не соглашается Башляр, носит, таким образом, явно континуалистский характер. Против Шелера и присоединяемого им к нему Мейерсона Башляр выдвигает тезис о принципиальном разрыве между шимпанзе и человеком, решительно не соглашаясь с утверждением о том, что разница между поведением обезьяны и человека только количественная. Весь опыт науки, считает Башляр, говорит о другом. Так, например, электротехника, подчеркивает он, это – воплощенный разрыв между миром обыденным и миром науки. Именно в науке осуществляется реальный трансцензус, радикальное пресуществление обычного мира. Знаменитая концепция эпистемологических разрывов, давшая название всей его эпистемологии, направлена именно против сглаживаний разнородного, против диктата отвлеченных схем и легковесных обобщений, из каких бы философских оснований, из каких бы философем единства ни исходили их создатели. В этом он – несомненный предтеча структурализма и отчасти всей постнеклассической науки конца XX века.
Действительно, динамический, открытый, плюралистический рационализм Башляра оказывается удивительно созвучным духу современной науки. Так, например, читая работы И. Пригожина, нельзя не вспомнить французского эпистемолога. В них речь идет о том же самом видении физической реальности. «Лишь в той степени, в какой современная физика способна построить удовлетворительное описание становления материи, не низводя его к кажимости, – говорит Пригожин, – она обнаруживает открытый мир, разнообразие которого не способна устранить никакая единая рациональная схема» [34, с. 7]. О множественности, плюрализме сущего, о конструкционности времени говорится во многих других местах работ известного физика [36, с. 34, 50; 33, с. 52]. Конечно, Башляр оставил, насколько мы знаем, незамеченными работы по термодинамике необратимых процессов, которые в конце концов вылились в мощное направление исследований по самоорганизации и синергетике. Но как эпистемолог он сумел зафиксировать эти характеристики не на предметно-онтологическом уровне, а на уровне научного духа, познающего мышления. И для этого ему хватило анализа квантовой механики и теории относительности, учений об атомных и химических процессах. Концепция разрывов была у Башляра его концептуальным итогом изучения современной науки и техники в их истории. «Современное научное изобретение, – писал Башляр, – подводит итог такой гигантской сумме человеческой истории, оно утверждается на природе столь глубоко преображенной человеком, что нельзя более разделять тот континуализм, о котором учат философы» [61, с. 16].
* * *
На наш взгляд, Башляр остался в плену прогрессистской догмы. Он не смог установить тот творческий контакт с традицией, который позволяет увидеть прошлое как источник новых конструкций. Для него прошлое знание, фиксируемое традицией, не более чем набор психологических привычек, которые со временем становятся всего лишь тормозом и препятствием продвижению разума и науки. «Переставая быть активным и сознающим, что это он сам творит свои ценности, рационализм, – пишет Башляр, – склоняется к тому, чтобы превратиться в своего рода психологический эмпиризм, стать блоком привычек. Поэтому необходимо, чтобы человек науки действовал против прошлого своей собственной культуры» [66, с. 98]. По Башляру, нет таких ясных, отчетливых и самоочевидных идей, которые могли бы стать неизменным основанием разума. Ясность, считает он, всегда условна, частична, относительна. Ясное в одной области не гарантирует ясности в соседней. И именно поэтому, делает вывод философ, платоновская теория идей, платоновская эпистемология не подходят для современного разума, для того, чтобы быть теорией познания современной науки. Платоновские идеи существуют как последние данности, как конечные ясности и очевидности (для умозрения). Но именно поэтому они «иммобилизуют» разум. Идеи в духе Платона лишь спокойно ожидают, когда их найдут или откроют. Но, подчеркивает Башляр, «современная наука творит новую природу – в человеке и вне его» [там же, с. 99]. Данность, считает Башляр, всегда «закрывает» познавательный горизонт, ставит ограничение для творчества нового. Наука же творит непрерывно, она всегда в поиске и движется ускоренно и непредвиденно. Поэтому в поисках «открытой философии» Башляр выступает против платонизма как эпистемологии.
Образ разума, внушаемый Башляру феноменом современной науки, рисуется им в следующих словах: «Абсолютного разума не существует. Рационализм функционален. Он многолик и подвижен» [3, с. 183]. Разум – подвижность познавательной самодеятельности, всегда себя расширяющей и дополняющей. Рационализм поэтому всегда историчен, конкретен, детален, техничен, носит прикладной характер. Как, будучи таковым, разум осуществляет свое самостояние, остается загадкой. Крайний «мобилизм» разума требует в качестве оснований «неподвижных» начал его деятельности. Однако это требование обоснования самой подвижности разума остается у Башляра неудовлетворенным. Критики Башляра и всей традиции эпистемологического «мобилизма» указывали на то, что без «несущих» конструкций, без неподвижных устоев нет возможности и для самого движения и ускорения. В частности, Ж. Бенда подчеркивал платонистский мотив устойчивости в самых «мобилистских» концепциях современной науки, на которую ссылается Башляр [71, с. 21–23]. Так, например, если невозможно, согласно соотношению неопределенностей Гейзенберга, одновременно определить импульс и координату микрочастицы («мобилизм»), то определению и устойчивому отношению, однако, доступна сама связь этих двух неопределенностей. Вообще всюду, подчеркивает Бенда, подвижность дополняется неподвижностью самой идеи. Так, например, в отношении открыта возможность для движения (отношение можно представить как бесконечный ряд соотносящихся членов), но сама идея отношения задана и фиксирована (например, в понятии предела ряда). Именно такого рода ход мысли выдвигался и при интерпретации специальной теории относительности как теории абсолютного пространства-времени А. Д. Александровым [1]. В том же духе обсуждал в своих выступлениях инвариантность принципов лапласовского детерминизма в квантовой механике и Б. С. Грязнов.
Этот внутринаучный платонизм остался за кадром эпистемологической рефлексии Башляра, увлеченного «мобилизмом» и ускорением научного прогресса. Вообще нетрудно представить себе движение научной мысли как движение, ищущее новые константы и инварианты взамен старых. Башляр подчеркивает значение теории групп, но почему-то упускает из виду теорию инвариантов групп. Эта взаимосвязь «динамики» и «статики» очевидна. Если, скажем, масса, бывшая константой (инвариантом) в механике Ньютона, перестает быть таковой, то взамен обнаруживаются новые константы, новые инварианты (сами формулы для преобразований массы, скажем, в специальной теории относительности). Возникают и такие инварианты, например, как предел для скоростей в виде скорости света, чего не было в классической механике.
Отношение к платоновской эпистемологии у Башляра двойственно. Он пишет: Сегодня смело можно вывесить на двери лаборатории физика или химика платоновское предупреждение: «Не геометр да не войдет!» [3, с. 147]. Возвратом к знаменитой формуле Платоновой Академии Башляр хочет обратить внимание на содержательную значимость математики в естествознании. Математика – не отвлеченный язык природы, хочет сказать он, а сама суть дела, само содержание реальности физического мира. Здесь намечена возможность того платонизма, который присущ, скажем, Гейзенбергу (бытие мыслится как в себе самом математическое, математической структуре придан онтологический статус). Но этого шага Башляр все же не делает в полной мере, так как сами математические структуры у него подлежат безоглядной динамике «мобилизма». Этого, конечно, не было ни у Гейзенберга, ни тем более у Платона. Да, математика онтологична. Но само бытие – не первая категория: возможность выше бытия, становление выше сущего. Так считает Башляр, упорно обходящий проблему «устоев» своего безудержного «мобилизма». Как основа Бытия за ним во весь рост встает Становление. В частности, в современной физике оно, подчеркивает Башляр, «напоминает некий диалог между материей и энергией» [3, с. 213].
В образ онтологии «открытого рационализма» входит также и то, что бытие мыслится Башляром раздробленным, не целостным. «С точки зрения ученого, – говорит Башляр, для которого ученый – главный законодатель в сфере познания, – бытие невозможно ухватить целиком ни средствами эксперимента, ни разумом» [3, с. 40]. А поэтому «следует порвать с молчаливой уверенностью, что бытие непременно означает единство» [там же, с. 39]. И если все же Башляр и допускает некоторое единство бытия, то такую уступку он делает как исключение для математики: «Подлинное единство реального, – говорит он, – имеет математическую природу» [там же, с. 232]. В этом и проявляется отмеченный нами ход мысли к платонизму в духе Гейзенберга, оставшийся, как мы сказали, незавершенным.
В соответствии с установкой на «мобилизм» реальность у Башляра уступает место «реализации», а истина – «объективации» [3, с. 206, 187, 146 и др.]. «Реальное, – говорит философ, – не более чем реализация» [там же, с. 206]. Это означает, что человек творит реальность своей рациональной активностью: явления он предсказывает, а затем их реализует («феноменотехника»). Так же точно и истина превращается в процесс объективации. Современная наука, говорит Башляр, занята «прогрессирующей объективацией» [там же, с. 148]. Наука движется от объекта к объекту, расширяя зону объективированного и, главное, при этом возрастают сами возможности объективировать. То, что объективировано, то доступно контролю со стороны человека, входит в управляемый им образ мира. Здесь мы подходим к тому пункту, который был оригинально развит у такого последователя Башляра, как Мишель Фуко. Фуко обнажил некоторые мировоззренческие и философские предпосылки «мобилизма», или динамизма, Башляра, показал его скрытые основания. Знание, отказывающееся от платоновских идей (от идей устойчивости, иными словами), оказывается обоснованным волей к власти или волей к «власти-знанию», как это происходит у Фуко [9, 85, 86]). Так за «сюррационализмом» Башляра маячит «сюриррационализм» в духе Ницше…
* * *
Отметим некоторые моменты, фиксирующие направление развития эпистемологической мысли во Франции после Башляра. В структуралистской эпистемологии знание рассматривается как более широкое, чем наука, формообразование культуры, анализируемой с помощью семиотико-структурального подхода. На первый план в анализе науки выдвигается лингвистическая модель: знание вообще и наука в частности – это определенный язык. При таком подходе, естественно, специфика науки как познания если и не исчезает, то отодвигается на второй план, так как наука рассматривается как феномен культуры, в которой она и находит свои «парадигмы» или «эпистемы». Такова, например, концепция археологии знания М. Фуко, в которую кроме отмеченных моментов введена еще и, так сказать, теоретико-деятельностная компонента в виде понятия «дискурсивной практики».
Мы в своей работе следовали классической линии, фиксирующей основное направление развития эпистемологии во Франции после Башляра (Башляр – Кангилем – Фуко) и впервые прочерченной в работе Лекура [101]. Эпистемологический анализ в ходе такой его эволюции переходит от относительно «камерных» теоретико-познавательных проблем научного рационализма (Башляр) к «глобальным» проблемам исторического социокультурного генезиса знаний, включенных как в формирование, так и в осуществление основных «стратегий» развития западной цивилизации (генеалогия власти-знания Фуко). Если Башляр только подводит к проблеме социального статуса научных знаний (понятие «града ученых»), оставаясь на почве психологистского истолкования их динамики, то Кангилем рассматривает историю науки в институциональном и социальном аспектах, связывая их с когнитивной стороной науки, причем социокультурные факторы научного развития действуют у него преимущественно как «идеологии» и «нормы». Социо-политические установки и исследовательские программы взаимно коррелируют друг с другом, как это показывает Кангилем, анализируя, например, редукционизм в биологии XIX века [76, с. 121].
В своей генеалогии власти-знания Фуко только довел до логического завершения эту тенденцию в развитии французской эпистемологии, начало которой было положено Башляром. В отличие от Кангилема, у которого речь идет о корреляции социополитических установок и научных программ, у Фуко социальные аппараты генерации и использования знаний не просто взаимодействуют с ними, накладывая на них свой отпечаток. Социальные структуры и структуры когнитивные так взаимно соответствуют друг другу, что их уже невозможно анализировать по отдельности (концепция власти-знания). На «генеалогическом» уровне анализа, вычленяемом Фуко, «нет, с одной стороны, познания, и общества – с другой; нет науки, с одной стороны, и государства – с другой, а есть лишь фундаментальные формы власти-знания»[135]135
Kremer-Marietti A. Foucault et l’archе́ologie du savoir. Prе́sentation, choix de textes. P., 1974. P. 202.
[Закрыть].
Структурализм действительно выявил некоторые существенные возможности, содержащиеся в «открытом рационализме» Башляра. В частности, он показал возможность перейти от психологистской трактовки основных понятий исторической эпистемологии к социокультурному их истолкованию. Например, у Кангилема тема эпистемологического препятствия раскрывается с помощью понятия «идеологии» (в частности, «научной идеологии» [10, 76]). В связи с этим нам казалось, что позитивным сдвигом проблематики или даже прогрессом является более активное подключение к анализу знания методов и приемов социокультурной истории. Однако, как не без резона замечает сам Башляр, философия вряд ли знает прогресс и поэтому всякие фиксированные «перспективы», хотя, пожалуй, и неизбежны в конкретных исследованиях, но в то же время достаточно условны, особенно когда выходят за их пределы.
Ту позицию, исходя из которой мы оценивали в нашей работе творчество Башляра-эпистемолога, можно назвать социокультурной историей знания или исторической социокультурной гносеологией[136]136
Принципы такого подхода сформулированы в нашей статье «Наука – культура – общество» (ВИЕТ. 1987. № 2).
[Закрыть]. Эта позиция действительно близка той, которую в своей концепции власти-знания развивал Фуко, сам во многом унаследовавший принципы исторической эпистемологии Башляра [9, 85, 86]. В соответствии с подходом Фуко анонимность социальных практик, в том числе дискурсивных, и цивилизационных стратегий, в них реализуемых, становится своего рода фундаментальной «микрофизикой», стоящей за теми эпистемологическими «макроявлениями», которые рассматриваются в исторической эпистемологии Башляра. В плане такого подхода всякая отсылка к личности, к субъекту, к его сознанию превращается в своего рода методологическое «табу». Отсюда становится понятен тот критицизм, который Фуко направлял на психологизм Башляра, солидаризируясь с его структуралистскими критиками. Однако можно допустить и иной, даже противоположный по своей интенции подход, принимающий во внимание возможности, оставшиеся в тени у Башляра-эпистемолога. Речь идет о крупномасштабной мировоззренческой и философской переориентации, оправданной, в частности, и тем, что в творчестве Башляра можно отыскать указания на совсем иную, чем сциентизм, установку[137]137
Возврат к реализму, онтологизму, космологизму и другим отрицаемым или критикуемым установкам в эпистемологии фактически происходит у Башляра в его учении о воображении. Как заметила Клеманс Рамну, «в определенном смысле все формулировки, считающиеся верными или уместными в эпистемологии, при обращении к учению о воображении необходимо опрокинуть, заменив их на противоположные. И, таким образом, вполне естественно, что снова обретают смысл понятия “субстанции”, “бытия”, но при условии, что они воображаются (a2 condition de les re4ver)» [112, с. 405–406].
[Закрыть]. Мы имеем в виду прежде всего тот глухо выраженный в некоторых эстетических эссе Башляра своего рода персонализм, который идет «поперек» его же собственным интенциям как эпистемолога. Для философствующих с помощью молота радикалов от философии этот подтекст покажется непоследовательностью и мелочью, которой следует пренебречь. Нам, однако, важно понять саму возможность иной интерпретации Башляра, разомкнув при этом наше собственное мышление. При этом мы выходим на понимание того, что для мысли Башляра характерны не только те ограничения или пределы, которые можно обозначить как пределы «снизу», но и пределы «сверху». Первые из них отмечались всеми теми, кто так или иначе следовал за традицией «школы подозрения» (слова Рикёра), т. е. традиции Маркса – Ницше – Фрейда. Именно с этой традицией считались и мы в наших оценках исторической эпистемологии. Но теперь пришел момент определить возможность иного подхода, дающего совсем другое мерило для оценки творчества Башляра.
Как мы уже отметили во Введении, Башляр упорно избегает метафизических, космологических, этических и тем более теологических проблем. В его эпистемологических работах мы не видим выхода на метафизический уровень анализа, где действуют понятия (хотя бы в виде интенций) о Целом, об абсолюте, о вечности. Поэтому мы можем констатировать, что горизонт мысли Башляра-эпистемолога ограничен не только «снизу» (что не раз отмечалось его критиками структуралистского направления, например представителями школы Альтюссера, и что было подчеркнуто и в нашей работе), но и «сверху». И эта ограниченность, пожалуй, еще существеннее первой. На нее среди немногих ее отметивших указал Пуарье: «Башляр не чувствует себя, – говорит он, – укорененным в трансценденции (audelá)… Вселенная Башляра остается эпистемологически замкнутой» [108, с. 37].
Эту экранированность «открытого рационализма» от «неба», однако, вряд ли можно безоговорочно отнести ко всему творчеству Башляра, знавшего и свои «звездные» часы или, точнее, мгновения. Можно предположить, что за отмеченными нами в критическом ключе психологизмом и морализаторством философа стояло, правда, в некоторой метафизической тени, изгнанное из структуралистской философии, провозгласившей «смерть человека» [41, с. 486–487], понятие личности. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно перечитать его эссе «Мгновение поэтическое и мгновение метафизическое», впервые опубликованное в 1939 г. [3, с. 352–353]. Здесь говорится о том, что помимо обычного, «горизонтального» времени существует еще и своего рода «вертикальное время», время «формы и личности», в котором движутся как нравственная жизнь, так и поэзия. Но наука, по-видимому, движется в горизонтальном времени, времени причин и следствий, времени объективации, где личность, если и творит формы, то лишь для того, чтобы, создав их, тут же и оставить. И если Башляр понимает нравственность и поэзию как измерения вертикального времени, времени личности и свободы, то подойти к науке с аналогичным пониманием можно как раз в том случае, если рассматривать ее как своеобразную личную аскезу, как самоотказ личности ради объективации, принимающей здесь функцию истины. В поэзии форма и личность свободно отождествляются. Как говорит Башляр, «форма есть личность, а личность – форма» [там же, с. 352]. Но в науке отождествление такого типа уже невозможно, и личность обретает себя не в научной форме как таковой, а в переходе таких форм, т. е. в том самом динамизме разума («мобилизме»), пророком которого и выступил в своей эпистемологии Башляр. Эти рассуждения показывают, что и эпистемологический «мобилизм» можно себе представить связанным с интуицией личности, пусть и оставшейся затененной.
По сути дела именно отношением к этой интуиции определяется и отношение к тому, что в нашей работе выступило как психологизм концепции Башляра. Нам представляется, что продуктивное «поле» философской мысли невозможно себе представить без антиномического напряжения между такими, в частности, полюсами, как, с одной стороны, принцип личности, а с другой – принцип интерсубъективности, представленной в исторических формах социальности и культуры, в мире общественных институтов и практик. И хотя мы оценивали взгляды Башляра по мерилу достаточно сильной редукционистской программы исторической социокультурной гносеологии, однако в Заключении мы не можем не отметить значимость и персоналистской установки и всего связанного с нею подхода «сверху», о чем мы только что сказали. В этой ситуации речь не может идти ни о необходимости выбора, ни о необходимости синтеза. «Абсолютный выбор», как и «идеальный синтез», представляются нам равно невозможными там, где двуполюсность философской мысли принципиально неустранима, не редуцируема. И уже поэтому трудно, если возможно вообще, говорить о прогрессе в философии.
Такую «географию» пространства философской мысли можно себе представить как неустранимую двуобразность истины. Во-первых, истина выступает как объективация мира и человека. И именно на таком ее представлении делает упор Башляр в своей эпистемологии. Истина в таком подходе определяется как процесс объективации, нацеленный на получение объективного знания, содержание которого можно описать как «устойчивые отношения между вещами, получаемые в качестве знания стандартными приемами… и позволяющие контролировать поведение вещей и людей» [11, с. 37]. В истине как объективном знании, таким образом, раскрывается как бы «холодная арматура» существования, высматриваемая, просматриваемая и подсматриваемая «снизу».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?