Текст книги "Космос"
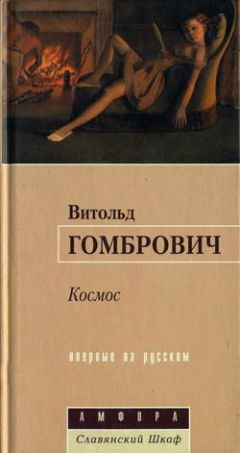
Автор книги: Витольд Гомбрович
Жанр: Классическая проза, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 11 страниц)
5
Надо мной причитающая Катася, подлость какая, Давидека повесили, Давидек на крюке в саду висит, кто же мог повесить, наказание Господне, кота Лениного вешать, гадство какое! Это меня сразу разбудило. Кот был повешен. Я кота повесил. С подозрением взглянул я на кровать Фукса, она была пуста, он, видно, уже отправился к коту, мне предоставлялась крупица одиночества на обдумывание…
Меня поразил этот факт, будто я и не душил кота. Прямо со сна одним прыжком оказаться в ситуации столь неправдоподобной, зачем, о Господи, я его задушил? Теперь я припоминал, что, когда душил его, чувствовал, будто пробиваюсь к Лене, как и тогда, когда ломился в ее дверь – ха-ха, я подбирался к ней с помощью удушения ее любимого кота – в бешенстве, что иначе нельзя! Но зачем я его на крюке повесил, какое легкомыслие, какое безрассудство! И более того, обдумывая это безрассудство, полуодетый, с вымученной улыбкой на искривленном лице, которое я видел в зеркале, я испытывал и удовлетворение, и неловкость – как от рискованной шутки. Я даже шепнул «висит», с радостью, с наслаждением. Что делать? Как выпутаться? Они там, внизу, уже, наверное, обсуждают это на все лады – неужели меня никто не видел?
Я задушил кота.
Этот факт сбивал меня с ног. Кот задушен и висит на крюке, и мне ничего не остается, как сойти вниз и сделать вид, что я ничего не знаю. Однако вопрос, почему я его задушил? Такое нагромождение фактов, столько запутанных нитей, Лена, Катася, знаки, стуки и т. д., и т. п., хотя бы жаба или пепельница и т. д., и т. п., я терялся в этой кутерьме, мне даже пришло в голову, что, возможно, это в связи с чайником, – вдруг я убил из-за переизбытка, для добавки, для пристяжки, то есть удушение, как и чайник, уже чрезмерно. Нет, неправда! Я не душил кота в связи с чайником. Тогда с чем связать, к чему отнести кота? У меня больше не оставалось времени на раздумья, нужно идти и противостоять ситуации, которая, впрочем, и без того была ненормальной, перегруженной ночным сумасбродством…
Я сошел вниз. Там – пустота, все в саду. Но прежде чем появиться перед ними в дверях крыльца, я выглянул из-за занавески в окно. Стена. На стене кошачий труп. На крюке. Перед стеной люди, среди них Лена – издали, в перспективе, это смахивало на символ. Да, мой выход на крыльцо к легким не отнесешь, по всем признакам, это прыжок в неизвестность… а если меня кто-нибудь видел, если через минуту я вынужден буду что-то там бормотать, сгорая со стыда? Я неторопливо шел посыпанной гравием дорожкой, небо, как соус, солнце, растекшееся в белесом пространстве, все опять предвещало жару, что за лето! Я подходил ближе, и кот становился все выразительней, язык сбоку вывалился из пасти, бельма вылезли из орбит… он висел. Я подумал, что было бы лучше, если бы это был не кот, кот ужасен по своей природе, кошачья мягкость, пушистость как бы нанизаны на яростное шипение и острые когти, на пронзительный вопль, да, вопль, кота хочется погладить, но хочется и замучить, он не только котик, но и котяра… Я шел медленно, чтобы выиграть время, меня поражало дневное зрелище моего ночного деяния, тогда, в темноте, неотчетливого и вплетенного в странности той ночи. Мне, впрочем, казалось, что заторможенность передалась всем, они тоже еле двигались. Фукс, нагнувшись, осматривал стену и землю перед ней, что меня очень смешило. Но ошеломила меня красота Лены, неожиданная, удивительная, и я подумал со страхом: о, как же она похорошела после вчерашнего!
Леон, с руками в карманах, спросил: – Что вы на это скажете? – Клок напомаженных волос торчал над его лысиной, как корабельный лоцман.
Мне можно было перевести дух. Они не знали, что это я. Никто меня не видел.
Я обратился к Лене:
– Как это для вас тяжело!
Я смотрел на нее: в мягкой кофточке кофейного цвета, в синей юбке, сжавшаяся, с мягкими губами, с повисшими, как у новобранца, руками… и кисти, ступни, носик, ушки – маленькие, слишком миниатюрные. В первый момент это вызвало у меня раздражение. Я ее кота прикончил, сделал это грубо и веско, а она здесь со своими ручками, такими тоненькими!
Но мое раздражение вскоре обернулось удовлетворением. Ведь она, прошу понять меня правильно, оказалась слишком незначительной даже по сравнению с котом и этого стыдилась, я был уверен, стыдилась кота! Ах! Слишком мелкая для всего, на вершок меньше, чем это необходимо, она годилась только для любви, ни для чего больше, и поэтому стыдилась кота… она знала, что все, к ней относящееся, должно иметь привкус любви… и хотя она не догадывалась – кто – но ведь кота она стыдилась, потому что кот был ее котом и имел к ней отношение…
Но ее кот был и моим котом, мною задушенным. То есть он был нашим общим котом.
Блевать иль наслаждаться?
Леон спросил:
– Вам ничего не известно? Кто, как? Вы ничего не заметили?
– Нет, я ничего не заметил, вчера гулял до поздней ночи, вернулся далеко за полночь, вошел прямо через крыльцо, понятия не имею, висел тогда уже кот или нет. – По мере произнесения этих лживых слов мне все больше удовольствия доставляло вводить их в заблуждение, я уже не с ними, я против них, на той стороне. Как если бы кот перебросил меня с одной стороны медали на другую, в иную сферу, где властвовали тайны, в сферу иероглифов. Нет, я был не с ними. Меня разбирал смех при виде Фукса, занятого активными поисками следов под стеной и выслушиванием моих лживых показаний.
Я знал тайну кота. Я был виновником.
– Повесить! Где это видано, кота вешать! – в ярости закричала Кубышка и притормозила, будто в ней что-то сломалось.
Из кухни вынырнула Катася и пошла к нам через грядки. Ее «манерные» губки приближались к кошачьей пасти, – и я почувствовал, что она шла и ощущала на себе нечто родственное этой пасти, и я испытал внезапное удовлетворение, будто мой кот еще основательнее обжился на той стороне. Губа приближалась к котяре, и у меня рассеялись все сомнения в связи с ее фотографией, такой невинной, она приближалась со скользким вывертом, ущербная и мерзкая, наблюдалось странное сходство в свинстве – и нечто вроде ночной темной дрожи пробежало у меня по пояснице. Одновременно я не спускал глаз с Лены – и каково было мое удивление, мое тайное потрясение или, уж не знаю, восхищение, мое смятение, когда я почувствовал, что стыд Лены возрастает с восшествием над котом этого губоротого извращения. У стыда странная природа, упрямая, защищаясь от чего-то, он втягивает это нечто в сферу глубоко интимную и личную – так и Лена, стыдясь кота и губы с котом, приобщала их к тайнам своей личной жизни. И благодаря ее стыду кот соединился с губой, как один зуб шестерни сцепляется с другим зубом! Но мой торжествующий, хотя и беззвучный, крик сопровождался стоном, какими дьявольскими кознями эта свежая и наивная красота могла вбирать в себя всякую мерзость… и стыдом своим укреплять мои химеры! В руках у Катаси была коробка – наша коробка с жабой – ах, Фукс, очевидно, забыл ее забрать, когда мы уходили!
– Это я нашла у себя в комнате, на окне лежало.
– Что в этой коробке? – спросил Леон. Катася приподняла крышку.
– Жаба.
Леон замахал руками, но тут неожиданно энергично вмешался Фукс. – Простите, – сказал он и забрал у Катаси коробку. – Это потом. Это выяснится. А сейчас я бы попросил вас, господа, пройти в столовую. Нужно поговорить. Кота оставим, как он есть, я еще раз все спокойно осмотрю.
Что, этот осел продолжал играть детектива?
Мы медленно направились в сторону дома, я, пани Кубышка, как воды в рот набравшая, суровая, оскорбленная, Леон с торчащим хохолком, помятый. Людвика не было, он возвращался из конторы только вечером. Катася свернула на кухню.
– Я призываю вас, господа, – начал Фукс в столовой, – к откровенности. Несомненно, здесь происходит что-то неладное.
Дроздовский, все для того, чтобы забыть о Дроздовском, но видно было, что он завелся и пойдет до конца. – Что-то происходит. Мы с Витольдом, как только приехали, сразу сообразили, но говорить об этом нам было неловко, ведь ничего определенного, одни ощущения… Но, в конце концов, пора начистоту.
– Я, собственно… – начал Леон. – Прошу прощения, – перебил его Фукс и напомнил, как мы, впервые появившись здесь, наткнулись на повешенного воробья… феномен, несомненно, многозначительный. Он рассказал, как мы обнаружили нечто, похожее на стрелку, на потолке в нашей комнате. Стрелка или не стрелка, возможно, это был самообман, тем более что накануне вечером нам тоже примерещилась стрелка, здесь, на потолке, вы помните, господа?., стрелка или, может, грабли… конечно, самовнушение не исключено, atenti![1]1
Но внимание! (искаж. лат.)
[Закрыть] Но мы из чистого любопытства, понимаете, господа, из спортивного интереса решили проверить.
Он описал наше открытие, местонахождение палочки, нишу в стене и закрыл глаза. – Гм-м-м… согласитесь, господа… повешенный воробей… висящая палочка… что-то в этом… Да еще как раз там, куда указывала стрелка.
Тут меня порадовала мысль о висящем коте – как палочка – как воробей – меня обрадовала ее логическая стройность! Леон встал, хотел сразу же пойти к палочке, но Фукс его задержал. – Подождите, пожалуйста. Сначала я должен все рассказать.
Однако рассказ у него получился путаный, паутина различных домыслов и аналогий опутывала его, я видел, как он слабел, даже в какой-то момент посмеялся над собой и надо мной, потом опять серьезно, но с усталостью паломника завел историю о дышле, что дышло, мол, нацелено… Почему бы не проверить, правда, господа? Если мы стрелку проверили, то и дышло можно. Мы это только так, для проверки. На всякий случай… Не то чтобы у нас были какие-нибудь сомнения относительно Катаси… только для проверки! И на всякий случай у меня в коробке была жаба, чтобы, если нас кто-нибудь застанет, свести все к шутке. Я забыл о жабе, когда уходил, поэтому Катася и принесла.
– Жаба, – сказала Кубышка.
Он рассказал об обыске, как мы все там осмотрели, но безрезультатно, ровным счетом ничего, но, представьте себе, в конце концов мы натолкнулись на одну деталь, пустяковую, конечно, совершенно, согласен, незначительную, однако повторяющуюся намного чаще, чем это необходимо, вы понимаете, господа, если что-нибудь повторяется чаще, чем обычно… сами рассудите, господа, я просто перечислю… И он начал декламировать, но неубедительно, слишком слабо!
Иголка, воткнутая в стол.
Перо, воткнутое в корку от лимона.
Пилка, воткнутая в коробочку.
Булавка, воткнутая в картонку.
Вторая булавка, воткнутая в картонку.
Гвоздь, вбитый в стену над самым полом. Ох, как же его обессилила эта литания;[2]2
Здесь: перечисление.
[Закрыть] усталый, истомившийся, он набрал воздуха, вытер уголки своих вылупленных глаз и лишился сил, как паломник, которому не хватило веры, а Леон закинул ногу на ногу со всеми признаками раздражения, тогда Фукс испугался, ему вообще не хватало уверенности в себе, ее отнял у него Дроздовский. Мной снова овладело бешенство, что я все время с ним фигурирую, я, у которого в Варшаве с семьей происходит то же самое, неприятие, отторжение, беда какая-то, но ничего не поделаешь…
– Корки, иголки… – буркнул Леон. Он не закончил, но этого было достаточно: корки, иголки, то есть чушь, чушь, куча мусора, и мы на ней, как два мусорщика.
– Подождите! – закричал он. – В том-то и цимес, что, когда мы вышли оттуда, пани, – обратился он к Кубышке, – тоже что-то забивала! Молотом! В бревно возле калитки. Изо всех сил.
Он смотрел в сторону. Поправлял галстук.
– Я забивала?
– Вы, пани.
– Ну и что?
– Как это что? Там все проткнуто-пробито, и пани тоже заколачивает!
– Ничего я не заколачивала, я только по бревну била.
Пани Манся извлекала слова из запасов неисчерпаемого и страдальческого терпения.
– Лена, золотко, объясни, почему я по бревну била.
Голос у нее был подчеркнуто нейтральный, каменный, а взгляд горел девизом «выдержу».
Лена как-то сжалась – больше намек на движение, чем само движение, – подобно улитке, некоторым растениям, всему, что сжимается или уклоняется при прикосновении.
Проглотила слюну.
– Лена, говори правду!
– Мама иногда… Это такой кризис. Нервы. Случается время от времени. Тогда хватает, что под руку попадет… для разрядки. Бьет, колотит или разбивает, если это стекло.
Лгала. Нет, не лгала! Это была и правда, и ложь одновременно. Правда, потому что со ответствовала действительности. А ложь, потому что ее слова (о чем я уже знал) важны были не их правдой, а тем, что исходили от нее, Лены, – как запах, взгляд. Ее слова были половинчатыми, опошленными соблазном, тревожащими, как бы зависающими в воздухе… Кто, кроме матери, мог бы уловить это осложнение? И пани Кубышка поспешила перевести ее показания на более предметный язык пожилой женщины.
– Я, господа, день за днем. Год за годом. С утра до вечера. Как белка в колесе. Вы, господа, меня знаете, я терпелива, спокойна, тактична, у меня хорошее воспитание. Но когда терпение лопается… я хватаюсь за что попало.
Она помолчала и сказала рассудительно:
– Хватаюсь за что попало.
Потом не выдержала и выкрикнула, растопырившись:
– За что попало!
– Золотко, – сказал Леон, она и на него закричала: – За что попало!
– За что попало, – сказал Леон, на что она закричала: – Не за что попало! А за что попало!
И утихла.
Я тоже тихо сидел.
– Понятно, – Фукс рассыпался в любезностях. – Совершенно естественно… столько работы, столько хлопот… Нервы! Да, да!.. Ну, это объяснилось… однако сразу потом раздался другой грохот, кажется, из дома, со второго этажа?…
– Это я, – отозвалась Лена.
– Она, – сообщила пани Манся с безграничным терпением. – Как услышит, что со мной что-нибудь такое случилось, так прибегает и за руки хватает или сама шуму наделает. Чтобы я в себя пришла.
И это объяснилось. Лена добавила несколько деталей. Они, мол, как раз вернулись из гостей, она, услышав, как мать грохочет, схватила мужнин ботинок (муж был в ванной) и била им по столу, а потом по чемодану… Все объяснилось, загадки той ночи оседали на сухом песке комментария – это меня не удивило, я был к этому готов, но все-таки трагично, что пережитые нами события сдувает с рук, как мусор, и все это валяется у нас под ногами: иголки, гвозди, молоты, удары и стуки… Я посмотрел на стол и увидел графин на подставке, щеточку для заметания крошек в форме полумесяца, очки Леона (он пользовался ими при чтении) и другие предметы – пассивные, будто испустившие последнее дыхание. И равнодушные.
Равнодушие вещей сопровождалось равнодушием людей, уже недоброжелательным, переходящим в нетерпимость к нам, которые, мол, морочат им голову. Но я вспомнил кота, и это меня утешило – там, на стене, еще сохранилось немного кошмара, там пасть еще зияла. И я комбинировал несмотря на то, что два наших грохота бессильно пали на землю, ведь у меня за пазухой был еще один грохот, не такой простой для объяснений, даже злорадный, по-настоящему коварный грохот… Как она справится с тем, что я ломился к ней в дверь?
Я спросил Лену… этот шум сверху был в двух сериях, не правда ли?… Одна серия за другой. Я точно знаю, стоял во входных дверях – лгал я – когда началась вторая серия. И во второй раз удары были другие.
Пробиться! Пробиться к ней! Вломиться, как ночью я ломился в ее двери! Я перетягивал струну? Что она ответит? Я будто вновь стоял перед ее дверью и колотил в нее… Догадалась она, кто ломился в дверь? Почему тогда ни разу об этом не обмолвилась?
– Другие удары?… Да-да, через минуту я снова начала стучать… кулаком в раму… Сильно нервничала. Не была уверена, что мама успокоилась.
Солгала.
От стыда, догадавшись, что это я?… Хорошо, но Людвик… ведь Людвик был с ней, он слышал этот грохот, почему же не открыл дверь?
Я спросил:
– А пан Людвик был с пани?
– Людвик был тогда в ванной.
Так, Людвик в ванной, она одна в комнате, я колочу в дверь, она не открывает, – возможно, она догадалась, что это я, возможно, нет, – во всяком случае, она знает, что кто бы ни колотил в дверь, он добивался именно ее. Она испугалась, не открыла. А теперь лжет, что это она сама стучала! О, триумф, счастье, что моя ложь пробилась к ее лжи и мы оба соединились во лжи, ложью я прорастал в ее ложь!
Леон вернулся к вопросу:
– Кто повесил кота?
Он подчеркнуто вежливо заметил, что нет необходимости заниматься вчерашним шумом – ведь все объяснилось – впрочем, лично ему нечего сказать по этому поводу, бридж закончился около трех утра, – но кто повесил кота, почему кота повесили?… И он спрашивал с напором, который, хотя ни на кого и не направленный, повисал в воздухе:
– Кто повесил? Я спрашиваю, кто?
Слепое упрямство обосновалось на его лице, увенчанном лысиной.
– Кто кота повесил? – спрашивал он с благими намерениями и с полным правом. Он настаивал, и это начинало меня беспокоить. Вдруг пани Манся проронила перед собой, не дрогнув:
– Леон.
А если это она? Если она убила кота? Ведь я знал, кто убил, я убил, – но этим своим «Леон» она обратила на себя всеобщее внимание, а напор Леона определил нужное направление и навалился на нее. Мне, несмотря ни на что, все же казалось, что она могла, что если она колотила молотом в таком бешенстве, то могла с тем же бешенством и кота… и это подходило ей, ее коротким конечностям и толстым суставам, короткому и разлапистому туловищу, переполненному материнской нежностью, – да, она могла– все это вместе: туловище, конечности и так далее – могло задушить и повесить кота!
– Ти-ри-ри! – замурлыкал Леон.
…и тайная радость прозвучала в мотивчике, который тут же прервался… чувствовалось злорадство… злорадство…
Радость, что «кука-реку, Кукубышка» не выдержала его вопроса, что напор ударил в нее, что она привлекла к себе внимание?… Так что же, может быть, он, и никто другой, конечно, он мог, почему бы и нет… хлебные шарики, возня и забавы с ними, перекатывание их с помощью зубочистки, тихое мурлыканье себе под нос, надрезание ногтем яблочной кожуры, «размышления» и комбинирование… так почему бы он не мог кота задушить и повесить? Я задушил. Да, я повесил. Я повесил, я задушил, но он мог… Мог повесить и мог теперь злорадно радоваться, что жена попала в переплет! А если он кота и не повесил (потому что я его повесил), то, во всяком случае, мог воробья повесить… и палочку!
О Господи, ведь воробей и палочка не перестали быть загадкой только потому, что я кота повесил! И они висели там, на периферии, как два средоточия тьмы!
Темнота! Я нуждался в ней! Она была мне необходима как продолжение ночи, под покровом которой я пробивался к Лене! И Леон вкрался ко мне в темноту, подсовывая возможность сладострастного сибаритизма, замаскированной и герметичной вакханалии, взыгравшей на Диких полях этого добропорядочного дома, – все это было бы не так правдоподобно, если бы он не прервал внезапно свой мотивчик из страха, что выдаст себя… Это «ти-ри-ри» было похоже на веселый хулиганский свист, вот, мол, жена подставилась… Неужели и Фукс сообразил, что у добропорядочного папочки и супруга, пенсионера и домоседа, позволяющего себе только бриджик, могли быть за семейным столом, на глазах у жены свои личные частные развлечения… И если он забавляется с хлебными шариками, то почему бы не мог инсинуировать стрелки по потолкам? И устраивать исподтишка другие развлечения?
Мыслитель!.. Ведь это был мыслитель… он думал и думал – и мог что угодно придумать…
Зашумело, затряслось, грохот, грузовик, огромный, с прицепом, по дороге, проезжает, кусты, проехал, рамы успокоились, я уже отвернулся от окна, но это вызвало пробуждение «всего остального», всего, что вне, за нашим кругом, я услышал, к примеру, лай собачонок в соседнем саду, заметил графин с водой на маленьком столике, нет-нет, ничего серьезного, но вторжение, вторжение того, что снаружи, всего внешнего мира, как-то смешало наши ряды, и мы заговорили более сумбурно, что, мол, никто посторонний не мог, потому что собаки, они бы учуяли, вот в прошлом году ворье разгулялось и т. д., и т. п., это продолжалось довольно долго, бестолково, а до меня все еще доносились отголоски «из глубины», будто кто-то где-то шлепал, хлопал, ляпал, и отголоски с медным привкусом, как из самовара… опять собачий лай, я устал, мне это надоело, но вдруг показалось, что вновь что-то замаячило…
– Кто это сделал с тобой? Почему он с тобой это сделал? О моя дорогая!
Кубышка прижала к себе Лену. Они обнялись. Это объятие было мне неприятно, казалось, что оно против меня направлено, и я стал внимательнее, но только затянутость объятия на какую-то миллиардную долю (что выглядело как излишество, преувеличение, демонстрация) заставила меня удвоить бдительность! Что это, почему? Кубышка освободила Лену из своих короткопалых объятий.
– Кто это сделал с тобой?
Что это она? В кого метит? В Леона? Нет… Значит, в меня? Да, в меня и в Фукса, она этим объятием с Леной выманивала на свет дня все темные страсти кошачьей морды, ну как же: «кто это сделал с тобой?», значит, «с тобой это сделали, а если с тобой, то только со страстью, и кого же подозревать, как не двух недавно прибывших молодых людей?» О блаженство! Блаженство, что кот становился причастен любви!.. но осторожно, опасность! Я засуетился, хотел что-то сказать, но тупик, провал, я ничего не мог и тут услышал голос Фукса. Фукс говорил спокойно, как бы вне связи с Кубышкой, как бы размышляя вслух: «Сначала повесили цыпленка. Потом воробья. Потом палочку. Постоянно то же повешение в различных вариантах. И это уже долго длится, воробей, когда мы его нашли, тогда, в первый же день, уже сильно попахивал…» Правильно, Фукс, однако, не так уж и глуп, это сильный аргумент, казни через повешенье начали свирепствовать задолго до нашего приезда, то есть мы были вне всяких подозрений… увы… какая жалость!
– Верно! – буркнул Леон, и я подумал, что мгновение назад и он должен был нас подозревать.
Внезапно заговорили все хором. «Катася, – говорила Кубышка. – Исключено! Какая там Катася! Невозможно! Она сама не своя от горя, так этого Давидека любила, ходит как в воду опущенная, я ее с детских лет знаю. Боже ты мой, если бы не мои заботы, не мои жертвы!..» Она говорила, но говорила слишком обильно, как обычно для этих паничек, хозяек пансионатов, и я думал, не слишком ли она такая, какая она есть, но доносился шум воды из крана и где-то, кажется, гудел автомобиль… «Кто-то к нам залез, – говорил Леон, – но кота вешать… Залезать, чтобы кота повесить? И ведь соседские собаки… не дали бы…» У меня заболело плечо. Я посмотрел в окно, кусты, ель, небо, жара, в оконной раме вставка из другой древесины. Опять Леон, хотел бы, мол, палочку посмотреть и другие знаки…
– Знаки? Вы и отсюда можете их увидеть. (Это Фукс сказал.)
– Что, простите?
– Кто вам поручится, что нет других знаков, даже здесь, в этой комнате… которых мы раньше просто не замечали?
– А вы? Вы, пани, никого не подозреваете? – спросил я Лену. Она сжалась… – Никто, наверное, мне зла не желает… (В то же мгновение я понял, что зла ей не желаю… ох, умереть! Не быть! Какое бремя, какой камень! Смерть!)
Леон обратился к нам с плаксивыми стенаниями:
– Как это… Как это… неприятно, господа, тяжело… Какая… злоба! Хотя бы понять, с какого конца уцепиться, но ничего не понятно, ни через забор, ни изнутри, потому что некому, ни справа, ни слева, странное дело я бы полицию вызвал, но зачем, чтобы болтать стали, ведь это смешно, посмеялись бы, и только, даже полицию нельзя вызвать, однако, господа, кот или не кот, дело не в коте, дело в том, что сам факт какой-то ненормальный, сдвинутый, аберрация какая-то, что ли, достаточно того, что здесь открывается простор для размышлений и можно думать и выдумывать, что кому угодно, каждого можно подозревать, каждому не доверять, потому что кто мне поручится, что это не кто-либо из нас, здесь сидящих, ведь безумие, сдвиг, аберрация с каждым может случиться, а как же, и со мной, и с моей женой, и с Катасей, и с вами, господа, и с моей дочерью, если уж аберрация, то вообще нет гарантий, аберрация fiat u bi vult,[3]3
Бывает там, где хочет (лат.).
[Закрыть] ха-ха-ха, как говорится, может с каждым приключиться, с каждым лицом и с каждой личностью, ха-ха, гм, гм! Такая гадость! Такое… свинтусово рассвинятство, чтобы на старости лет у меня были дом и семья и чтобы не было даже капли уверенности в тех, с кем я общаюсь, в окружении, в котором нахожусь, чтобы в собственном доме я стал бездомной собакой, чтобы не мог доверять никому, чтобы мой дом превратился для меня в сумасшедший дом… для того я всю жизнь… для того все мои труды, усилия, заботы, страдания, баталии все моей жизни, которых ни счесть, ни упомнить, целые годы, годы, побойтесь Бога, а в них месяцы, недели, дни, часы, минуты, секунды, бессчетные, забытые, гора моих секунд, пропитанная трудами… для того, чтобы я никому не мог довериться? За что? Почему? Можно подумать, что я драматизирую и кот – это ничего страшного, но, господа, дело очень неприятное, очень, кто мне поручится, что котом все и кончится, что после кота не наступит очередь более крупного зверя, если безумец в доме, ничего нельзя гарантировать, естественно, я не хотел бы сгущать краски, но о покое уже и речи быть не может, пока все не объяснится, человек в собственном доме будет жить из милости… из милости, я говорю…
– Замолчи!
Он с болью взглянул на Кубышку: – Хорошо, хорошо, я замолчу, но думать… Думать я не перестану!
Лена процедила в сторону «уж перестал бы», и мне показалось в этом ее бормотании нечто новое, то, чего раньше в ней не было, но… что я мог понять? Я спрашиваю, что тут поймешь? По дороге проехала дребезжащая машина с людьми, я заметил только головы за последним кустом, собаки лаяли, ставни наверху, ребенок хнычет, шум в глубине, глобальный, всеобщий, хоральный, а на шкафу бутылка, пробка… Могла бы она убить маленького ребенка? С таким кротким взглядом? Но если бы и убила, то это сразу же сплавилось с ее взглядом в совершенное целое, оказалось бы, что у детоубийцы может быть кроткий взгляд… Что тут поймешь? Пробка. Бутылка.
– Ну, что там опять?… – закипятился Леон. – Может, вы присоветуете? – смиренно обратился он к Фуксу. – Идем смотреть стрелку и палочку…
Жарко, один из тех часов в маленьких комнатах на первом этаже, когда душно, и заметна пыль в воздухе, и охватывает усталость, у меня ноги болели, дом был открыт, и постоянно что-то там, где-то там, птица пролетела, вообще звенело, Фукс говорил: «…здесь я согласен с паном директором, во всяком случае, хорошо, что мы поговорили, и, если кто-нибудь заметит что новое, мы сразу, господа, должны об этом узнать…» Дроздовский. Дроздовский. Все это – с трудом выползающее из вязкой тины, заплутавшее во тьме, как некто, уже сумевший выбраться до половины, уже вставший на колени, чтобы вновь провалиться, о, сколько, сколько деталей нужно иметь в виду… Я вспомнил, что еще не завтракал. Болела голова. Я хотел закурить сигарету, сунул руку в карман, спичек не было, спички лежали на другой стороне стола, рядом с Леоном, попросить или не попросить, наконец я показал ему сигарету, он кивнул, протянул руку, подтолкнул коробок в мою сторону, я протянул руку.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































