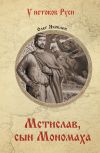Читать книгу "Из Магадана с любовью"
Украдкой гляжусь в зеркало. Такую красную рожу поискать. В детстве, в пятом классе после оперы целую неделю болел. Какой был спектакль? «Отелло»? Нет, «Царская невеста». Там тоже ревности и убийств выше крыши. Бедный Петропалыч, за что тебе на твою седую голову!
Я твердо вознамерился встретиться с ним вечером, но Елена вновь воспрепятствовала. И назавтра то же самое. Я посмеивался над роковыми страстями, но это себе дороже. Не сносить мне головы.
Петропалыч ничуть не кривил душой, когда выступал в роли оптимиста-шапкозакидателя. Но это была эйфория, связанная с принятием алкоголя. На трезвую голову он сник, присмирел и даже растерялся. Столько, казалось бы, сделал добра, а никому не нужен. Соседки, которым центнерами переносил рыбу, ремонтировал бытовую технику, братья-художники, рыбаки-любители, бывшие сослуживцы от него не то чтобы отвернулись, но у каждого своя поспешная суетная жизнь, успеть бы, натешиться, уж не до тихого пенсионера, склонного к мудрствованию и морализаторству. И тогда появились новые знакомцы, располагающие неограниченными запасами времени и умением слушать, не перебивая.
Петропалыч охотно рассказывал истории из жизни: то военные, то мирные. Пока оставались деньги. Встречи эти происходили в кафетерии, который имел в народе выразительное название «гадюшник». Пили там, не закусывая, поскольку сладковатая бурда отбивала аппетит. К концу дня у Петропалыча бормотуха подступала к самым связкам. Чтобы говорить, приходилось долго откашливать бурую саднящую слизь.
Зато он обрел, пусть не надолго, иллюзию дружбы и приятия таким, какой есть. Кроме того, было уже не страшно и не стыдно появиться дома и выслушать Валентину, если она, конечно, удостаивала прервать презрительное молчание. Алкоголь давал анестезию. В этом состоянии он был готов согласиться на операцию, потому что иногда ему казалось, что боль имеет причину в виде какой-нибудь внутренней порчи.
– Я пока что до дома сам доползаю. Вот если меня на носилках нести потребуется, тогда записывай в алкаши, – шутил Петропалыч, когда я случайно встретил его сидящим на пороге шашлычной. Я заходил туда во время очередной своей вечерней прогулки. Елена улетела в командировку, и я воспользовался свободой и тем самоощущением победителя, которое она мне дала. – А вообще-то сведи домой. Не бросай меня, Кольша. Не надо меня бросать. Ты скажи, почему бабы над нами такой верх взяли? Хоть всю жизнь вкалывай, до смерти, в доброе не войдешь. А копейка заваляется, так отнимут. Разбойницы, а? Предательницы.
…Утро выдалось ясное, улыбчивое, теплое. Петропалыч не скрывал своей радости, выражалась она большей, сверх обычного, суетливостью. Когда только такая появилась? Отвык быть действующим лицом. С этой пьянкой у него не только руки, все тело вибрировало, не находя точку внутренней опоры. Доехали на автобусе до бухты Гертнера, я высматривал ее из окна, чтобы не проехать остановку, совершенно забыл, что нам на конечную.
Не терпелось спуститься к морю. Сырой волнующий ветер налетал от воды тугими волнами. От запаха соли и свежести, от прохлады слегка кружилась голова. Мы подошли к обрыву. Открылся огромный массив воды, я отшатнулся и схватился за ствол лиственницы, искореженной ветром, хотя нужды в этом не было никакой: до края обрыва с десяток метров. На лиственнице проклюнулись свежие хвоинки. Пахло смолой и молодой травой. Слева на берегу в километре виднелись серые корпуса рыбозавода, а справа, на выходе из бухты высились скалистые островки. Петропалыч принялся объяснять мне, что сюда иногда заходят нерпы акибы, а чаек несколько видов, из них бакланы – самые крупные. Закрой глаза, и ты, будто на базаре. Громогласные! Они как воплельщицы – всю тоску твою выкричат.
– Короче говоря, для тебя это просто море, а для меня, – Петропалыч лихорадочно что-то искал в карманах трясущимися руками, – не слово, а, может быть, обычный свой карандаш, чтобы не тратить столько трудных слов. – То есть… жена моя первая. Мы здесь столько с ней бывали, что каждый камень ее напоминает. Ты бы мог вот эти валуны запомнить? Я-то художник, запросто. Как она по ним прыгала, походка легкая, как у артистки. Чайки кричат, а мне ее смех чудится. Веселая была. Понял теперь? Она рыбалила лучше любого мужика. Как воскресенье, мы здесь. И дочка с нами. Я тебе когда-нибудь фильм покажу. А помнишь, фронтовую книжку делали, на форзаце узор из камней – так это она сфотала.
Петропалыч словно не верил в возможность выговориться. Уселись на валунах-стульях, за стол-валун, я понял, это их стоянка. Он достал термос с чаем и пирожки с картошкой, испеченные Валентиной. Когда перекусили, стряхнул крошки с колен и словно очнулся.
– У моря сидим и не рыбалим! Давай-ка лодку надуем. Приходилось с лодочки на блесну? Тогда завидую: впервые, значит. Как первый поцелуй.
Он накачал лодку с помощью «лягушки», и я поразился, насколько это азартный человек. Он отдавался работе весь, не только спина или руки, у него мышцы глаз тянули рыбу из воды. Первый короткий замах полуметровой удочки, и из моря выдернута бледно-зеленая наважка. Это нечаянно, дуракам везет, но вот еще один бросок, и опять рыбешка.
– Навагу нельзя, – вспоминается мне.
Петропалыч улыбается, как ребенку. И я забываю обо всем. Две секунды на рыбку, еще меньше. Тридцать, сорок, сотня наважек, налимов, камбала. В руке усталость. Можно левой попробовать. Тоже небывалый результат. А он уже не ловит, смотрит на меня, сопереживает. Когда выбрался из лодки, меня слегка покачивало, будто во сне.
– Говорят, на уху можно не чистить. Пусть сами с соплями едят.
Он надрезал складным ножом голову и вместе с внутренностями отделял от рыбьей тушки, без замаха сильно бросил над водой. Ближайшая к нам чайка бросалась за угощением и схватила его в сантиметре от поверхности воды. Все громче крик чаек и плеск волн, свист ветра в волосах. Чудится, что перебивать голоса природы бестактно, говорю шепотом. Может быть, ему и впрямь уехать куда-нибудь в дальние края, как большинству из нас, устремившихся на Крайний Север, к черту на рога начинать с нуля? Мы просидели на берегу до вечера, и когда двинулись к автобусу, у меня очень прояснилось в голове. Настолько, что я, казалось, вот-вот начну понимать чаек.
– Живы будем, не помрем, – сказал на прощание Петропалыч.
… На кухне горел свет. Володя вышел мне открывать в одних трусах. Я хотел ему рассказать о рыбалке, но он зевнул.
– Ужинать будешь? – Небрежно спросил, и, ничуть не интересуясь моим ответом, добавил сквозь зевоту: – Приехала… твоя. Не одна. Что молчишь?
Вдруг до меня доходит: а ведь в голосе Володи нечто похожее на зависть. Чему, казалось бы? Однако это едва уловимая его неуверенность возвращает мне душевное равновесие, и я принимаюсь рассказывать о рыбалке. Пусть кратко, но разборчиво, не съедая в спешке окончания слов. Заставляю его слушать, не перебивая, хотя и с недовольной миной.
– Кстати, Олег надумал с Севера линять. Потолка, говорит, достиг, а что на потолке делать, чай не муха.
– А Валентина что?
– Валентина? Заладил. Обычная, каких тысячи. А тебе понравилась?
– Петропалыч женился, значит, что-то разглядел в ней.
– Да он, как теленок, только большой. Он их поэтизирует, баб. Боится обидеть. Расплескать. Ну, знаешь, всякая мура. Вот и страдает. А ты молодец. Но сегодня не дергайся, выдержи характер. Пусть позовет. А ты скажи, что занят. Потом своди в ресторан. Денег дать? – Я молчал, не желая посвящать Володю в то, что его не касается. Но он мне польстил. Чего мне не хватает, так его наглости, выдаваемой за решительность. Человек должен через все пройти. – А хочешь один в комнате пожить? Женя в отпуск уезжает на все лето. Или от Лены не оторвешься?
– Причем тут это? Где эта комната?
– В центре, возле областной милиции. Один из первых каменных домов. Понюхаешься с магаданской коммуналкой. Когда-то люди одной семьей жили, а нынче нравы пожухли. Петропалыч тоже в бараке обретался. Очень уживчивый тип: всем помогает, услужить готов. А ведь кого-то хлебом не корми, дай прокатиться на чужом горбу. Во, анекдот, запиши.
… Двое суток дрых, просыпался, глядел в потолок, засыпал. Даже не ел. Один в комнате, никто не войдет, не ворвется, даже не постучит. Впервые сам по себе. В пятницу Женя собрал мальчишник по случаю отъезда. Мы с Володей заявились с белым импортным вином, вспоминали студенческие времена, когда на последние деньги любили попировать в ресторане, ощущая собственную значимость на грешной земле. Володя любил пустить пыль в глаза, заставить позавидовать бешеным, как я теперь понимаю, мифическим деньгам. Сманивал ребят на Север, и я один, наивный, купился.
Женя улыбнулся, мне вспомнилось, что на материке он живет, чуть ли не в одном доме с моей матерью. Более того, год назад Володя уже знакомил нас, когда ходили в театр и пили там полусухое шампанское. Я вспомнил его жену Галю, крашенную блондинку, но тоже симпатичную, и сам спектакль.
– Если тебе что маме надо передать, так не стесняйся, я запросто.
– Ты, Жека, отвези кетину от моего имени, – попросил Володя. – Мама его мне очень нравится. Да и тебе тоже, помнишь? А денег не хватит, вышлю.
– Само собой. Кстати, знаешь, у меня в тот отпуск приятный казус произошел. Деньги кончились, вина выпить не на что. Надеваю с горя другой пиджак и нахожу в нем сотню. Пустячок, а приятно.
– Ты вон ему расскажи. Хохмы записывает. Хочет книжку издать.
– Да, такая бы вмиг разошлась. Был у меня один знакомый, тоже в тетрадь заносил секретным кодом. Две тысячи собрал.
– Есть такие, что сами сочиняют. Я такие ищу.
– Не все понятные. А вот был на Атке, знаешь, двести кэмэ от Магадана. И Рыркайпий есть на Чукотке. Так вот анекдот. Встречаются в порту двое. Ты откуда? С Рыркайпия. Знаю, там ветры-южаки, а ты? Я с Атки. Знаю, там люди задом наперед ходят. Можно смеяться. То есть гораздо южнее, а ветер не приведи господи. Граница географии, Колымское нагорье там начинается, вот и ветер, там бы ветростанцию поставить. – Женя слегка рисовался, но меньше, чем мы с Володей. Приедет, буду его навещать. В комнате такая тишина, что я вспоминаю вчерашние реплики громко и отчетливо, будто записанные на магнитофон.
Могло же так случиться, что так бездарно провел два выходных дня, а уже ночь, не поправишь, не нагонишь. Как там поживает Петропалыч? Ничего, встречусь в конце недели. Но столкнулись через месяц. Он оброс неровной рыжей бородой и нацепил черные очки. Устроился дворником при новой гостинице. Была у него крохотная служебная комнатка, убежище. Звал его один дачу на Гертнера сторожить, корм задавать его свиньям. На эту работу обычно бичей за бутылку нанимают.
Следующие три года, за которые мы с женой создали свой хрупкий, не дай Бог, сглазить, мир, наш мальчик научился ходить и говорить, Петропалыч жил, смирившись со всем, что ему предлагали обстоятельства. Равнодушно прошел через развод, в результате которого Валентина получила комнату в своем тресте и выменяла на получившиеся метры двухкомнатную, поставила Петропалычу лежанку.
Однако он сутками кантовался в своей конуре, варил суп из пакета, а то и вовсе обходился без закуски. Научился говорить сам с собой и для себя рисовать. Альбомы с фотографиями и пакеты с кинопленкой перенес в сторожку, но распечатать так и не решился. Однажды посетил Валентину и увидел на кухне незнакомого мужчину в майке и шлепанцах. «Ты, папаша, извини, мы с Валей тут поженились, а разрешения у тебя не спросили». Петропалыч напрягся, свекольно покраснел, но не проронил ни слова, напился воды из крана и ушел.
Вскоре он умер от остановки сердца. Когда хоронили, Валентина была в строгом черном платье, красивая и строгая, как икона. Должно быть, суетливое мелкое сошло с нее, обнажив затаенную тонкую суть, которую Петропалыч, поскольку был художником, видел всегда.
Рыбаку укор, укорище – не берется
споро– скоро, кора-корюшка…
Навага… на Ваганьковском,
Нет, Марчеканском,
Сраженный коварством,
И отчасти пьянством,
Рыбак возлежит.
И чайка морская,
Рыдая навзрыд,
Нервно кружит
Над пространством,
Где он зарыт.
Где горели старые скаты
И звенели кайла и лопаты,
Извините,
Тишины и безмолвья раскаты…
Ну и ветер соленый бежит
Кособоко,
Пепел скорбно кружа,
Над могилой его неглубокой -
Как межа.
Тонкой сажи бегут завитушки,
По грязным сугробам -
Как посмертные почеркушки,
Из соснового гроба!
Я молчу и цежу, не дыша,
Из большой закопченной кружки
Спирт.
Ша! Упокойся, же с миром, душа! -
Слышится голос бомжа…
Да его не разбудишь из пушки -
Спит!
Я не знал, что буду так горевать о нем. Сколько было потом могил в моей магаданской жизни, это первая. Кто бы знал, что скоро умрет в Москве Елена. И что в собрании анекдотов мне захочется сделать главу «Магаданский мартиролог», чтобы сохранить хоть крупицу памяти о каждом, кого знал, о нас, смешных и неуклюжих. Которые имели наглость и дерзость любить и ошибаться, мелко подличать и крупно великодушить, сокращать кому-то жизнь и себе, и так короткую, как у мотылька однодневки. Самое забавное, хоть год за полтора идет, жизни хватает не на пухлый роман, а лишь на короткий анекдот, чтобы не успеть надоесть другим. Я так и не узнал, как называются ее духи. Когда появились в городе кришнаиты, (голодранцы и шпана с колокольчиками), они завезли какие-то индийские курения, которые многое напомнили, я даже два раза пробовал читать их книгу о переселении душ.
Кто же знал, что лет десять спустя, получу передаваемую из рук в руки свою книжку, которую дарил Петропалычу. На титульном листе он пририсовал мой шаржированный портрет и накалякал дрожаще: «Будешь сладким, заклюют, будешь кислым, заплюют». А ниже еще более неразборчиво: «Они хотят тебе помогать. Не верь им. Сначала они порежут тебя на куски и съедят, а потом оплачут слюнявыми, сопливыми слезами». Захотелось встретиться с Валентиной, но она, воинствующая трезвенница, говорят, умерла от цирроза печени.
О Петропалыче напоминают неожиданные вещи. Вот мы в гастрономе стоим с приятелем Валерой, стараниями его была добыта каска, в которой так повыступал Петропалыч в мастерской своего друга. У меня дела в типографии, но есть часок, который можно с пользой провести, отстояв в очереди за субпродуктами: так называются сердце, печень, мозги. Мне хочется поговорить с Валерой о скандалах с пересадкой внутренних органов, якобы похищенных у магаданских покойников, но он перехватывает инициативу:
– Ты тоже толстый. Небось, тоже ливер шалит. В самолет не пускают. А ведь смотри, какие подлецы, печень на продажу выставили, а оленьи языки куда дели? Вон мешок лежит, а из него, убей меня, он самый торчит! Девушка, взвесьте мне, пожалуйста, килограмм языков!
– Да это пересортица. Случайно попало.
– Вот случайность и взвесьте. Пересортицу. И нечего мне спину морочить.
И я туда же, надуваю щеки, строю из себя. Под шумок впервые за многолетнее пребывание в Магадане получаю порцию языков, прощаемся, историк грузно шагает к своей «Волге». Больше я его в живых не увижу.
Елена, рассказывал Петропалыч, однажды примкнула к небольшому возлиянию после работы и довольно резво выдула бутылку армянского коньяку, голос ее становился все выше и выше, доходя до щенячьего визга. Она вспоминала больших писателей местного масштаба, кому дала путевку в жизнь и в искусство. Потом открыла верхний ящик стола и вытошнила туда всю бутылку вместе с закуской. Конфуз, но женщина вспоминается именно в этой ситуации. Возможно, из-за ущербности моей натуры. Одно утешает, что, возможно, такое восприятие свойственно не только мне. Человек раскрывается и в конфузе, становится милее и ближе, не всем же подвиги совершать.
Главбух тоже умер, оставив на черных юморных скрижалях свой анекдот. Вызвали его в военкомат. Прозвучала команда: «Товарищи офицеры!» Всем надлежало встать по стойке «смирно» перед большим начальником. А вы что сидите? А я стою! Из-за малого роста это вовсе никому не заметно.
Самое, быть может, потрясающее, как умер заместитель ответственного секретаря газеты Костя М. Прямо на рабочем месте. И тогда его начальник – ответсекретарь Б.Н. – один из самых остроумных людей Магадана того времени, кстати, вскоре также поглощенный ненасытной колымской землей, сказал: «Извини, Костя, нам газету делать надо. Она ждать не будет». Отодвинули мертвого и продолжили чертить макеты и читать полосы. Газета и впрямь не могла ждать, фабрика слов дымилась и плевалась раскаленным свинцом. А шутка, согласитесь, достойна уст Нерона.
Фотограф тоже умер. Да, молодой, но что поделаешь. Уснул и не проснулся. Бывает. Довольно веселый малый, очень жаль.
Друг у него был – Алик. В гараже задохнулся. Помню, шли мы, довольно бухие, к нему домой. Он на площадке между третьим и четвертым этажом стал медленно оседать. Я его за руку тяну, а он все тяжелее. Ладно, думаю, хрен с тобой. Может быть, сердце, пойду «Скорую» словлю. Нет, сполз и нежно погладил темное пятно на полу. Кис-кис! Это пятно он спьяну за кошку принял.
А вот второй друг фотографа, Юра, чем и запомнился, так блеклыми глазами навыкате и шрамом на брови. Не оставив о себе анекдота, он ушел в тундру, пропал без вести, когда летал к оленеводам. Говорят, был голубым. Никто не спросил, куда он идет.
Один потенциальный автор, который чуть не издал потрясающую историческую книжку, весельчак с глазами навыкате, запомнился тем, что вытащил с материка свою маму, наладившую ему питание. Он резко похудел, а перед этим сломал ребро на трамплине, а за день до того застраховался, а когда выздоровел, помогал нам переезжать на новую квартиру и строил сливоглазки моей жене.
Быстрое похудение – признак надвигающегося рака, и это настораживало окружающих. Однако сам он объяснял это явление иначе. Мама этого весельчака хорошо готовила. Нажарит кастрюльку котлет, он одну – две съест, а шестую нет, а десятую нет. Вот и похудел до благообразности. Пускаясь в откровения, он смешно топорщил щеточку усов и выпучивал фиолетовые глаза, похожие от блаженства на баклажанчики.
Стал болеть и уехал к себе в Черкассы, опять набрал вес и однажды, задремав у газовой плиты, пропустил момент, когда кипяток залил конфорку, а газ продолжал струиться. Он был легкий, говорливый человек, интересовался творчеством Лермонтова, нашел в архиве ценное письмо и даже получил благодарность знаменитого Андронникова. Отравился газом, большой, грузный, забавный своими речевыми ошибками и жизнелюбием. Недавно я выбросил пришедший в негодность стол, который он втащил один, балуясь силой. Состарился уже и стол, столько вот лет прошло. Я выставил стол на площадку, и через пару недель его украли.
Один шутник салом подавился. Засосал, как анаконда, а проглотить не смог, поскольку пошло не в пищевод, а в дыхательную трубку. На его счастье за столом сидел доктор, сын того главбуха, который чинил у Петропалыча микрокалькулятор. Доктор, не будь трусом, схватил столовый нож, и безо всякой дезинфекции по хрипящему горлу чик! Вынул сало, спас чудака.
На следующий год тот поехал на материк в отпуск и попал под поезд, ему отрезало ноги, но тем самым избавило от раковой опухоли. А до того он строителем работал, и по роковому стечению обстоятельств в аварии лишился восьми пальцев на руках. По мизинцу осталось. Работал он на нулевом цикле, фундаменты возводил, и если дело было зимой и клали с электроподогревом бетон, он никогда не пользовался вольтметром, не любил и контрольную лампочку искать, поскольку она всегда терялась. Чтобы понять, где фаза, а где нулевой провод, прикладывал к контактам единственные оставшиеся живые пальцы, если шарахнет, то бетон греется, и товарищи по работе могут быть спокойны за высокое качество монолита.
А умер мужик все-таки от рака печени, вызвав возмущение бригады, поскольку он опозорил как слабак весь коллектив перед соперниками по социалистическому соревнованию. Похоронили его в железобетонном гробу с железобетонным крестом, в сырую погоду над верхушкой его из-за пролегающей рядом линии электропередач возникает фиолетовое свечение.
Четвертый был экспериментатор. Купил себе компрессор – накачивать колеса «Жигулей» и вдруг, в каком-то озарении помутнения вставил себе шланг в задницу. Ловил, кайф, пока не лопнули кишки. Умер от заражения крови.
Пятый, то есть пятая упала с трапа самолета, но осталась жива, даже не сломала ничего, но похудела на 23 килограмма, долго рассказывала об этом как о чуде, пока более близкое знакомство с историей болезни не открыло ей глаза на истинное положение дел. Оказывается, будучи в гостях у сестры на Чукотке, она заразилась от собак особым видом гельминтов – таких паразитов, которые образуют колонии из миллионов особей в теле, а удалить хирургически этот червятник, так сразу и похудеешь.
Спустя некоторое время у нее умер муж. Гостеприимный был дом, ели-пили в нем богато. Хозяйке тоже наливали в рюмочку – наперсточек. А она хитрющая, незаметно в цветок выливала. Это был розовый куст, и цвел он на удивление зимой и летом. Цветы, красные, крупные, имели какой-то особый сказочный запах. Муж любил подносить свой большой нос к самым цветкам, нюхать и даже шептаться с ними. А казался грубым и неотесанным человеком. Заболел, умер. Похоронила его хозяйка, поминки отвела. И куст опал и засох напрочь. Почему? Явно, от острой алкогольной недостаточности.
Эту историю мне еще Петропалыч рассказывал. В бараке, где жил, случилось. В том же бараке на улице имени Скуридина, который грудью амбразуру закрыл, жил один чудик синий. От сердца маялся. Вроде подфартило мужику, дали направление в Новосибирск к доктору Мешалкину. Сколько людей с того света вытащил тот профессор – тысячи. И этого спас, клапан вживил. Как заново родился. Женщину хорошую полюбил, женился, она потом от рака скончалась. Сынок у них родился, здоровенький, не урод, и ручки на месте, и ножки. Сердечко здоровенькое, не передалось по наследству. Да и не должно вообще-то, а все равно боязно. Года три прошло, уж забывать стали, какой он был синий. Однажды босой ногой на пол стал, простыл. Там пол в бараке такой, что, того и гляди, провалишься в вечную мерзлоту. Якобы разлом земной коры и патоген сильнейший. До больницы дошло. От простуды и умер. Зло берет на такую смерть. Анекдот!
А вообще– то из этого барака трое женщин умерло от рака груди. А сыночка того сердечника посторонняя тетя, как родного внучонка воспитывает. Квартиру наконец-то к пенсии получила, барак тот под снос пошел. Иногда мне казалось, особенно, когда похоронили подружку моей жены Лару, тоже барачницу бывшую, что эти люди вместе с земляком-героем закрыли грудью какую-то невидимую миру, но страшную амбразуру. Но не до конца. Хватит и другим закрывать.
Горько, признаваться, но иногда мне в кошмарном сне видится, что благородство и самопожертвование неотделимо от своих антиподов – подлости, трусости и предательства. Поэтому, прежде чем закрывать амбразуру, подумай, не способствуешь ли ты, по закону равновесия, раскачиванию весов природы, не вызовешь ли равный по силе твоему подвигу антиподвиг. Выплеск темных сил сквозь пробитое благородное сердце.
Куда ни сунься в Магадане, с кем ни разговорись, такими проблемами закидают, будто гнилыми яблоками, и на всякую твою боль найдется боль побольнее, на черный твой день такая жуткая тьма, что искры из глаз. Один магаданский поэт сделал это открытие, сломав ногу, когда его неудачно пересаживали в сетке с одного судна на другое. Он плавал в Охотском суровом море, накапливая впечатления, поскольку недобрал их в юности, учась по морской части, если бы не обстоятельства, быть ему минимум контр-адмиралом.
Пока лечился в больнице, таких насмотрелся страданий, что воспринял свою проблему как великое везение. У нас любимая фраза «Могло быть хуже». И так был веселый заводной человек, любитель шутки и розыгрыша, а тут настоящий фейерверк. До того натурально рассказывал по телефону, как резал на кухне мясо для шашлыка, отчикал себе палец и бросил Шарапову, то есть песику своему, который тут же съел подарок и зализал хозяину рану. Я сам видел, что это неправда, но стоило закрыть глаза, верил этому комику. Пока срасталась нога, написал новую книгу стихов и однажды позволил себе быть откровенным, посетовал на жизнь, назвал несколько знаменитых имен, с кем жил в общежитии литинститута, получивших широкую славу, и тогда я подумал, что не только каждый солдат должен мечтать стать генералом, но и каждый генерал – маршалом.
Настолько бываешь обескуражен, когда такой железобетонный, казалось бы, человек, как Гора вдруг прорывается признанием. Фамилия, прозвище и случай из жизни слились воедино, а рассказал Иван, как феноменально не везло на фронте. Вдвоем удерживали высотку до прибытия подкрепления, оно пришло, да вот незадача: братья по оружию решили по очереди отлучиться к подножию по нужде. Очередь Ивана. Вернулся, а уж командир оставшегося представил к геройскому званию. Надо же, про…рал свою золотую звезду.
В мирное время Гора обнаружил литературное дарование, написал книгу об одном незаурядном человеке, прошедшем сталинские лагеря. Что из этого вышло, лучше описывать геологическими терминами. Прошел подземный гул до небес, и все стихло, а спустя полгода накрыла его волна новейшей истории, руководство страны и весь единый народ стал избавляться от очередных перегибов, на сей раз в разоблачении тоталитаризма.
Ну и попал человек в жернова, получил разрыв психобомбы. На лоне природы, в Лисьем распадке, в неформальной обстановке, у костерка, вдруг вставал, удалялся с гримасами, как бы давя страшенный кашель. Минут через пять возвращался, пил из ручья, улыбался покрасневшим лицом, будто приняв допинг. Это псих из меня выходит, говорил довольно весело, и беседа продолжалась. Он сумел сохранить в себе интерес к другим, особенно пишущим, людям и многое сделал, чтобы защищать их от наиболее острых углов жизни. Когда он уехал, один из его преемников так сказал мне: в Москве писатели работают дворниками, так мы можем помочь с трудоустройством. Даже сейчас, спустя пятнадцать лет, я все еще не могу отсмеяться на эту шутку.
Да, юмор есть не только у рыбаков и шоферов. Одна руководящая дама с неподражаемой улыбкой шутила так: «Я вас уволю». Ртом, полным темных золотых зубов улыбался мне один пожилой магаданец, похожий на бульдозер. Когда-то он наверняка гнул подковы и пятаки, да и, постарев, был сильнее кого-либо из тех, что я знал. «Не рассчитал! Он не рассчитал! А меня на четвертак!» То есть он кулаком нечаянно, как муху, лишил жизни обидчика. Сидел в лагерях, в частности, на территории нынешней макаронной фабрики, был поваром. Эта должность повыше любой генеральской. Соответствующие шутки.
Неподражаемый тонкий юмор жизни виден в поступке общественной деятельницы областного масштаба. Когда-то паспортистка напутала с датой ее рождения. И это дало возможность неподражаемой дважды отметить 50-летие, у ее друзей и начальства хватило юмора с разрывом в полгода одаривать ее подарками и памятными адресами. Ну и правильно. Хоть так скрасить неумолимый ход времен.
Да, Магадан не терпит серости, серединности, и когда-то начинаешь задумываться, кто ты есть такой, замечательный или дерьмо, ищешь оправдания своим словам и делам, полагаешь, что обманулся или тебя обманули, заманили и бросили в мышиную ловушку времени. Ну да, поскольку и занимался год за годом мышиной возней вокруг бесплатного сыра, который в мышеловке. И гора родила мышь.
Можно было бы сказать о великом соблазне начать с нуля, уехав на край земли, но здесь и так край. И соблазнов и иллюзий нет. Вот моя мать перед смертью пожгла свои фотографии и письма, квитанции, весь архив. Почему? Возможно, она не хотела, чтобы у тех, кто прикоснется к листкам бумаги, навернулась слеза, или же опасалась передать между строк какую-то непостижимую беду, наговор, я не знаю. А может, тоже хотела начать с нуля, решилась наконец-то переезжать в Магадан? Верно и то, что мы все имеем право на забвение, без которого, быть может, нет полного покоя. В жизни она сделала не менее пятнадцати капитальных переездов по стране – со скарбом, детьми. Я с небольшим семейством сменил три места жительства, правда, в пределах Магадана, а уезжать на материк мне некуда.
Один мой старший друг обставил к шестидесяти годам девятнадцать квартир, построил три десятка сараев, дач, подвалов, избушек и говорил на последней своей даче, на берегу Вуоксы, рядом с Финляндией, в названии этом мне слышался Фин-иш, матерясь и плюясь, мол, сдавать стал, нет прежней мощи возводить туалет и крыть крышу, вот бы перенести сюда все, что по белу свету своими рученьками сотворил. Зато, сказал он, и голос его ушел в бас, я знаю, где буду похоронен. Он имел в виду место, зарезервированное рядом с могилой его погибшего сына.
Говорят, наш магаданский характер обусловлен климатом и необычными просторами страны. Так вот климат меняется, тайфуны идут по земле из Азии до Америки. До Магадана докатился парниковый эффект. Недавно новорожденную девочку назвали Эльнинья, как то сокрушающее течение, которое, чую, не минет Магадана. Вот уж какому-то мужику дитятко достанется, а! Кстати, и просторы стали не такими уж преодолеваемыми, как прежде. Все меньше охотников пересекать страну. Не пешком, не на велосипеде, как было ранее, от избытка сил, а на самолете. Я пять лет не был на материке. Отмотал добровольно 25 и вышел на второй срок. Тоже мечтаю начать с нуля – градусов Цельсия, дожить до новой весны.
Что у трезвого на уме, а у пьяного на языке, то у чудака жизнь, хотя бы и иллюзорная. Были в свое время психи – космонавты в бреду, а теперь донимает меня один старик по прозвищу Дервиш – большой, заросший до бровей, с двумя сумками (все свое ношу с собой) и суковатой палкой. Сильный, громкоголосый. Давай, говорит, пойдем пешком по всей стране, до Крыма. Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо в Ялте или в Сочи. Только напишем устав, зарегистрируемся в юстиции и попросим ссуду. Такое землячество, наподобие цыганского табора из добровольцев. По дороге, где понравится, будем останавливаться, то сена покосим, то за скотиной ухаживать станем. Заработаем на хлеб, и опять в путь. Песни будем петь, сказки сказывать. Время убьем весело.
Такое зло меня взяло! Не сдержался, голос повысил. Все мне кажется, постричь-побрить Дервиша – вылитый Петропалыч! Да и сам я уже очень немолодой! Почему же я тогда так гневаюсь на невинного человека – может быть идея его больно уж заманчивая? В пьянице алкоголь плачет, а что же во мне плачет и смеется, что оторваться от Магадана не дает? Горечь горькая, прилипла, не прокашлять. Затея, скажу вам, больно уж светлая да хрустальная! Потому и зло берет. Где ты раньше был, милый? Где ты был раньше!