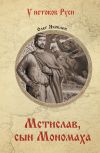Читать книгу "Из Магадана с любовью"
– Алкоголик мне цветы подарил.
– Ты говорила.
– Так не просто подарил. Предложение сделал.
– И ты растаяла, конечно? – покровительственным тоном произнесла Надя. – Что, тебе нормальных мужиков мало?
– Спасла, говорит, новую жизнь хочу начать.
– А она в нем есть, жизнь? Одни лекарства.
– Да ладно уж вам, – примирительно сказала Любушка. – Ты нам его покажи хоть. Зови, Володя прилетит, устроим маленький сабантуйчик.
– А ты нам своего кошатника предъяви, – подхватывает Надя. – Что, слабо!
– Да, Володю не хочу расстраивать.
– А он и не узнает. Если бы, допустим, Женька знал всех моих школьных друзей, что б было?
– Ты же говорила, он со школы за тобой бегал? – с ехидцей спросила Любушка. – Если так, то школьных друзей он как раз и должен знать. Ты, наверное, другое имела в виду?
– Ладно, нечего меня допрашивать. Чуть что – и пошло-поехало…
Тогда вот и раздался телефонный звонок, от которого Люба вздрогнула и побледнела.
– Девочки, это, кажется, меня.
– Здравствуй, Люба. Кто, думаешь? Мучитель кошек.
– Ну, привет. Где ты?
– В непосредственной близости. Выходи, поговорим.
– Ты знаешь, я через полчаса должна выгуливать сына…
– Вот и прекрасно. Напротив вашего дома есть скверик, как я заметил. Я буду ждать. Собственно я уже жду.
– Ну и что? – шепотом спросила Надя.
– Да погоди ты, егоза! – Любушка нервничала.
Был холодный декабрьский день. Мороз чуть-чуть за тридцать. Лев Тычков легко бы перенес его, если бы не влажность. Сырой пар – это еще, куда ни шло, но сырой мороз – слишком. И ребенка тащить в такую холодрыгу… Отчего это подумалось о ребенке? Никогда ведь сентиментальным не был.
Последний разговор вспомнился – в университетском общежитии. Она, как обычно, ничего не подозревая, пришла в комнату, где Лева жил с Борей, и не удивилась отсутствию младшего.
Лева достал бутылку сухого вина и стал решительно ее откупоривать предусмотрительно заготовленным штопором.
Люба сказала, что без Бори пить не станет, и стояла на своем, сколько не увещивал ее Лева. Тогда он выпил один, вино показалось ему ужасной дрянью, замолчал, словно дожидаясь, когда хмель ударит в голову. Он обнял Любу, не так, как прежде, не делая вид, что это у него невзначай вышло, а подчеркивая особый характер своих намерений. Люба не хлопнула его ладошкой по руке, не заговорила и не шелохнулась. И это, должно быть, испугало Леву, последовали не действия, а слова. А значит, как ни старался Лев «заострить внимание» и «подчеркнуть глубину», разговор свернулся в привычное русло, Люба назвала его занудой, аморальным типом, а также сказанула, что Борька в сто раз лучше – это уже просто убийственно, такие словечки просто выслушивать нельзя, и словом на них ответить тоже, только поступком. И Лева – этот дважды воспитанный и трижды деликатно тонко понимающий человек, ударил любимое существо по щеке с возгласом «дрянь!»
Потом он, десятки раз прокручивая этот эпизод в памяти, краснея и бледнея, шептал, что лучше бы бросился с пятого этажа, чтобы она знала, эта бесчувственная и безмозглая пустышка, как он ее испепеляюще любит. Да лучше бы он… далее в воображении Левы наступал черный провал, и он опять представлял себя летящим с пятого этажа и умирающим с именем Любы на устах. Он клял себя, достигая в этом немалой изощренности и изящества, но что поделать, слово – не воробей, не поймаешь. Так слово же! А тут пощечина.
Пощечина! Эта пощечина, которую он припечатал любимой девушке, розами вспыхивала на его щеке, жгла до костей. Если бы он не представлял собой какую-то ценность для науки, то, наверное бы ушел из жизни. Эта мысль возникала сама собой и заставляла краснеть. Хорошо хоть, люди не научились читать мысли и никто не знает, сколько ценен для человечества научный работник Тычков. Впрочем, размолвка с Любой в чем-то даже помогла Леве, дала ясность ума, остроту восприятия, и учеба у него пошла в гору.
Лева пытался вымолить прощение, правда, желание это шло от рассудка, а не от сердца. Если знаешь, что поступил нехорошо, то почему бы не исправить ошибку?
Люба намеривалась его простить, но не сразу, пусть попрыгает, будет знать, как себя вести. Волю дай, так и тебе череп просверлит, как кошке. Зануда. Ей вообще не хотелось встречаться с этим грубияном, но видеть, как он страдает и раскаиваться – в этом удовольствии было трудно себе отказать. Таким образом, процесс искупления затянулся на столь длительное время, что Любе до чертиков надоела эта канитель, и сам Лева осточертел хуже горькой редьки. Леве, как ни странно, тоже все надоело, и он вздохнул с облегчением, когда перестала почему-то звонить.
… Лева Тычков прохаживался по скверику, крохотному и сиротливому. С деревьями-маломерками, – Север. Академгородок стоит под сенью соснового бора, там хорошо думалось и мечталось с Любой. «А она ничуть не изменилась, сказала, полчаса, а прошло сколько уж, – Лева посмотрел на часы и удивился: – Двадцать минут».
Люба вышла в норковой шубе невероятной стоимости, и по тому, сколько естественности было в ее походке, видно было, что надевалась эта дорогая игрушка не от случая к случаю. Лева задрожал от радости и разочарования: Люба никогда не блистала красотой, но то, что было неопытностью, лукавством, живостью, стало брезгливостью и самодовольством. Она улыбнулась ему, и эта улыбка в какой-то мере рассеяла первое неблагоприятное впечатление, но Леве пришлось преодолеть этакий барьерчик, чтобы с ней заговорить.
Что же Люба? Заметив Тычкова, она подумала: «Володя, может быть, не находка, но и Лева не потеря». Да, он возмужал, но еле заметный землистый налет на лице, и веки набрякли под очками, должно быть, не очень здоров научный работник, а с тех пор, как она причастна к летающим, привыкла иначе относиться к здоровью. Нездоров – ну и сиди себе на земле!
Они остановились в двух шагах друг от друга. Вадька, в меховом комбинезоне похожий на медвежонка, только чрезвычайно тощего, присел и стал лопаткой накладывать снег на грузовик, комментируя по ходу дела свои действия. Лева скосил на него глаза, потом посмотрел в открытую, может ведь он разглядеть сына своей пионерки, ведь это не столько тяжкий проступок…
– Мне так удивительно, что у тебя ребенок.
– А я привыкла. Кстати, муж тоже есть. А ты как живешь?
– Ты знаешь, как трудно пробиваться. В науке – особенно. Много нас стало. Сегодня тебе пришла идея, а завтра о ней читаешь статью под чужой фамилией. Кого-то осенило раньше. Понимаешь?
– Не женился?
– Выбирать надо было – женитьба или аспирантура.
– Ясно… Как твой замечательный папа? Я его очень люблю.
– Папа умер.
– Извини.
– Да что уж. Боря меня обошел, кандидатскую защитил. Мама очень болеет, правая рука отнялась, как с отцом это случилось. А я вот в командировку к вам.
– Как адрес узнал?
– Секрет фирмы.
– В гости к нам придешь? – Люба пристально, даже жестко глянула ему в лицо, и тон ее был жестковатый, сквозь вялые черты проглядывала прежняя Люба, которую он любил. – Ты не думай, я тебя не назову. Инкогнито.
– Водопроводчиком, что ли, нарядится?
– Почти…
***
… Положив телефонную трубку, Володя глубоко вздохнул. Больше всего на свете он хотел бы оказаться дома, увидеть Любушку, родного человека. Хотя авиация и самый быстрый вид транспорта, разлуки от этого не становятся короче.
Дорогая, желанная женщина! Некоторые, уходя из дома, неделю, а то и больше, не вспоминают жену. А те, что прожили совместно с десяток лет, иначе, как кобра, не называют. Он начинает думать о возвращении, захлопнув дверь квартиры. Володя, если бы можно, вообще бы не уходил.
Люба – это чудо, он ее как в лотерею выиграл. Маленький поселок был горняцкий, а значит – мужской. Женщины, которые почему-то туда приезжали, казались необыкновенными красавицами, за них дрались.
Люба прилетела в поселочек с подружкой Верочкой, в одиночку на такое не отваживаются. Девушки окончили пищевой техникум и устремились туда, где труднее.
Верочка получила предложение еще в самолете и, потупив глаза, почти согласилась. Любушка решила не пороть горячку. «Жаль только, нет Левки! Пусть бы посмотрел», – шептала она, когда к ней подкатывалась «пилотня» – веселые могучие ребята, добряки. Они казались ей наивными, поскольку на самом деле были одержимыми и на первое место ставили самолет, как в той песне. Этим они походили на Леву.
Ей же нужен был такой, чтобы ни на кого не походил, это первое условия. Володя Добриенко, радист – был не такой, как все, правда, тощенький, как котенок, но ведь можно и откормить. «Стань таким, как я придумала», – поется не даром. Зато не курит и не пьет. Формально все не пьют, летный состав, а этот на полном серьезе. У него нет многочисленных родственников, которым приходится помогать. Ну, и вполне интеллигентный человек, Люба уже привыкла к интеллигентности, и обратной дороги нет. Зарплата у него, правда, поменьше, чем у летунов, но тоже весьма значительная, и он сразу сможет делать шикарные подарки. Правда, он еще плохо понимает, что такое шикарность, но это дело поправимое.
Скоро, благодаря изобретательным подсказкам Любушки, весь ассортимент поселкового магазина был исчерпан, осталась лишь норковая шуба, но такой подарок ко многому бы обязывал обоих.
Любушка так старалась на работе, что личный состав прибавил в весе. Лучшие куски доставались Володе, он говорил комплименты поварихе и водил ее на виду у всех завистников в кино.
В порыве чувств он написал матери о намерении жениться. И получил ответ – крупные дрожащие буквы на выцветшем тетрадном листке. Мать благословляла предстоящий шаг Володи и полагалась на его выбор, потому что в жизни он всего добился сам, без чьей-либо помощи и подсказки. Мать вложила в конверт двадцать пять рублей – как подарок на свадьбу, бдительная почта вынула из конверта деньги и оформила почтовый перевод.
Родители Любы узнали о Володе значительно раньше и все, вплоть до размера воротничка его форменной рубашки. И потребовали предъявить жениха лично. В один из полетов в родной город Любушки она попросила Володю занести посылку родителям. Икру да балыки.
Приняли хорошо, будто важную птицу. Володя не смущался ни капельки. Чья только в этом заслуга – его самого, или так было подстроено? На него глядело две пары глаз, не затуманенных влюбленностью. И он в глаза сказал все, что думает о творении рук Любушки, ее поварском искусстве. Впервые в жизни он произнес речь, небольшую, правда, но построенную по законам риторики.
Вдохновение привело его к иносказательности, которой пользуются критики, исследуя произведения искусства: если речь идет о музыке, они применяют термины живописи, и наоборот, картины у них звучат симфонией цвета, а симфонии блистают красками. Володя произнес и это слово – симфония, даже испугался, но тут же обрел равновесие и повторил, что обеды, приготовленные Любушкой – симфония пищевых красок и ощущений. Родители растрогались. Знает, должно быть, толк в жизни, скромен и прост, не пьет, к тому же, сами убедились, как ни умоляли, как ни гремели хрусталем, – ни капли.
А потом разговор пошел на отвлеченные темы – о погоде, науке, смысле жизни. Будущий тесть упрекнул горе-ученых, которые, вместо того, чтобы вплотную подумать о человеке, в бирюльки играют. Зачем кошек уничтожать, когда проблема долголетия повисла в воздухе. Человек бьется-бьется, чего-то добивается, казалось бы, живи, – не хочу, а пора умирать. Стрессы эти выдумали. Раньше жили, и никаких стрессов.
Высказался и Володя.
Я считаю, главное – базис, чтобы был. Тогда и требуй. А если в дом сотню несешь, то, что требовать, какого уважения, какой любви? Смех. Я болтовню всякую не уважаю, мне руками дай потрогать, тогда поверю. Вот у меня, к примеру, слетал, и есть результат. Отдохнул хорошенько, и опять слетал. У меня арбузы зимой. И билет в отпуск – бесплатный.
Серьезный молодой человек и честный, решили родители и подарили на свадьбу тысячу рублей. Мечтали вместе, будущие молодые муж и жена, и – крылато: «Клуб путешественников устроим. Клуб свадебных путешествий».
– Куда полетим? – размышляла Любушка. – Давай в Гагру.
– Ценная мысль. Ты уже там бывала?
– Нет, но хотелось. Название заманчивое.
– Я тоже – ни разу. В голову не приходило.
Любушка жмурилась от удовольствия. Она откроет ему целый мир, этому белобрысому преданному парню, своему мужу. Ведь это же надо – такая преданность, просто-таки пугающая. В наше время редкая черта, особенно у мужчин. Ей просто повезло. Только бы не сглазить…
Они сняли комнату с банановой пальмой под окном. Двухэтажный железобетонный дом понравился Володе: умеют люди жить! А комнат сколько, а курортников, и каждый денежку тащит, добровольно, никто его не просит, никто из него не вытрясает. И не надо летать в жестком, как рентген, северном небе, когда можно больше иметь под ласковым южным.
Многочисленные квартиранты с удивлением и даже почтением приняли северян, стремились добиться для них каких-то привилегий и всячески втянуть в квартирантскую солидарность. По простоте душевной давали советы, которые вызывали у Любушки конфузливо ироническую реакцию. Она решила покрасоваться – знай наших, – купила хрустальную вазу, чтобы было, куда ставить подаренные Володей розы, а на пляже выцыганила импортную косметику (торговали ею цыгане).
Затем последовали джинсы с бляхой и маечки с надписями. Сосед перевел с английского, Люба смутилась, а потом рукой махнула: пусть. Сосед, учитель иностранного языка, заметил тогда, что не квартирантского роду-племени эти птахи, на что его жена ответила, что Любушка ни разу не подошла к плите, а ведь приготовить на вольном воздухе, в тени мандариновых деревьев для мужа обед – это же романтично. Может быть, она попросту не умеет? Теперь ведь такие девицы пошли – ничего не уметь по дому для них вроде хорошего тона.
До Любушки дошли эти разговоры, она не без жеманства заявила, что Володя водит ее в ресторан. Три раза в день.
– Но ведь это равносильно покупке билета до Москвы ежедневно! – воскликнула жена учителя.
– Стала бы я в отпуске заниматься кухней! – скривила губы повариха, чем окончательно противопоставила себя квартирантскому братству. Зато хозяйке это понравилось, между ними возникло нечто похожее на дружбу. Иной раз, отлучаясь, хозяйка просила Любушку присмотреть «за этими», и Любушка присматривала, умудрялась сдавать койки выгодным клиентам, а уж по манерам больше походила на хозяйку, чем та.
Вот если бы еще ее приняли за иностранку! Хохма! В Гагре-то может не получиться, а в Пицунде, там, говорят, их много. Любушка с Володей туда ездили на такси слушать органную музыку. У Володи, правда, маловато лоска, хоть и откармливала его Любушка, старалась, но интеллект гастрономией не заменишь. Слишком уж явно написано на его белесом, не загорающем лице самодовольство, а требовалось пресыщение. Вон как эти – в первом ряду – уж явно иностранцы – откинутся в кресле, глаза закроют… Нет, закатят глаза. Кресла мягкие, лучше, чем в самолете. Того и гляди, уснешь.
Сверху смотрел на них Бог – произведение художников какого-то века, а с второстепенных куполов проглядывали лики еще более древние, уже совершенная мазня. Концертный зал был православным монастырем, орган – атрибут католицизма – обосновался тут не понятно, на каких правах, оскорбляя чувства верующих. Но не всем приходят в голову такие тонкости. Первые аккорды напомнили Володе рев автомобильных клаксонов на оживленной улице, да и музыкант уселся за инструмент, словно шофер, даром, что во фраке, так на педали и давит. Мелодия была простая, как гамма, и Володя пожалел, что отдал деньги за такую муру. «Бережет себя, хмырь толстомясый, – подумалось Володе. – Что ни жизнь – фрукты кругом, два раза в неделю понажимай на клавиши, выслушай аплодисменты. А тут кувыркайся в холоде, тряске, неуюте, и никаких тебе аплодисментов».
Но когда органист осмелел и врубил полный газ, Володя стал моститься в кресле и смотреть в потолок, на нарисованного Бога, ощущая свою сопричастность с высокими сферами, ведь и его место работы – небо!
Вышла певичка и смертельно испуганным голосом стала выводить «аллилуйя», напомнив Володе какой-то анекдот. Он с явным превосходством глянул на Любу, а она на иностранцев смотрела, как те реагируют, развалилась еще вальяжнее, нарочито скрипнула креслом и слегка кашлянула, чтоб уж как истинная ценительница. Володя устроился поудобнее и задремал. А что может быть лучше волшебного сна под органную музыку!
Любушка не стала его будить и в перерыв пошла побродить по монастырю. Она принимала самые изысканные позы, и ничто уже не мешало ей сорвать восхищенный шепоток, если бы не Лева, откуда-то вынырнувший навстречу, веселый, отдохнувший…
– Ты где пропадаешь? Я вот с отцом решил прошвырнуться. Отец болеет, а я за компанию лечиться. В пещеру слазили и вообще. Ты-то как? Почему не приходишь?
– Здравствуйте, я же говорила, что в техникуме учусь?
– Говорила.
– Так вот я его окончила.
– Поздравляю. Но это не означает, что надо исчезать.
– Я же говорила, что уезжаю по зову сердца на Крайний Север?
– На полюс! Кривлялась, как обычно.
– Оставь свою дурашливость и послушай.
– Даже так. Растешь. Взрослеешь…
Свойский тон Левы показался ей нестерпимо фамильярным. Надо было осадить нахала. Мерзавец, он так ничего и не понял.
– А мне хочется! Ну и что! Взяла и уехала! Захотела и замуж вышла.
– И куча детей…
– Не веришь? Пойдем, покажу.
– Давай-давай, – Лева посмеивался, не желая верить. Этот? – кивал он на спину толстяка, примеривающего взглядом толщину кирпичной кладки. – Этот? – показывал взглядом в дальний угол, где коренастый горец цокал языком, рассматривая вход в усыпальницу.
– Вон он сидит, – сказала Любушка уважительно, как примерная жена.
– Поздравляю, поздравляю, Любушка, ты делаешь несомненные успехи по части розыгрыша.
– Хватит! Не все такие гении. Между прочим, человек сам всего добился, без помощи папиньки. С семи лет подрабатывать начал, не то, что некоторые. А сейчас в небе трудится, и зарплата у него выше министерской.
– Так ты серьезно? В голову не приходило. Ты с ним счастлива?
– Еще бы! Ты бы знал!
Она впервые произнесла вслух, что счастлива и выдохнула с облегчением, словно набедокурившая и прощенная девочка. Надо было именно ему сказать, Леве, она это поняла. А тот последний вечер в общежитии ей и вспоминать-то неловко. Сам виноват. Даже хорошо, что так все вышло, иначе бы не встретила в жизни Володю.
– Пойду я, пожалуй, – глухо сказал Лева.
– Счастливо! – У нее было такое чувство, что провожает Леву в стужу, сама оставаясь в тепле.
Певицу и органиста она слушала притихшая, с особым интересом вглядываясь в рисунок облаков на куполе храма и в изображенные там лики. Минутная робость охватила ее сердце, но скоро звуки пропали, музыка проникала в ее существо помимо слуха. Вспоминались осенние сопки возле поселка с простудной синевой неба, и ей становилось зябко в летнем наряде. А певица распелась, как назло, словно воспрянув от сгущения ночи, уже видной в бойницы, тянула вверх за исторгнутыми руладами красивые руки в мерцающих перстнях.
Володя проснулся и удивился, что она все еще поет, деловито посмотрел на часы и подумал, что свой хлеб ребята отрабатывают честно.
После концерта захотелось в бар, тут же, у ограды монастыря. Интерьеры под старину вызывали приятную реакцию узнавания. Взять бы в поселковой столовой что-нибудь этакое вытворить. Отделать торбасами или деревянными истуканами стены. Розами оленьими… В баре вертели модную песенку. Слушать ее было дико, будто долго-долго ходил на лыжах и с удивлением ступаешь без них, не доверяя собственным ощущениям.
Поскольку быть в баре и ничего не выпить, – не престижно, заказали по сто граммов французского коньяку. И когда они, выпив и потанцевав, вышли, Любушка, поеживаясь от ночного ветерка, ласково спросила, купит ли Володя ей норковую шубу. Он ответит «да», и они, остановившись для вящей картинности под кипарисом, сочетались долгим законным поцелуем. «Надо же везде проявлять свою индивидуальность, особенно в покупках, – пришло в голову Любушке. – И вообще, любовь – это не что-нибудь однажды и навсегда. Ее нужно подтверждать, как, например, спортсмены подтверждают свои рекорды».
Она часто вспоминала это первое путешествие и, разве же кто знал – самое прекрасное. Конечно, и теперь они летают, оставив Вадьку старикам, да разве сравнишь – хоть, и надоедает он хуже горькой редьки, хоть и отдаешь в родные руки, а душа начинает ныть сразу, едва за порог. То с мужем разлука, то с сыном. Ждать мужа она уже научилась. Сначала разлука выматывала ее, как изнурительная работа. Тот, кто хотя бы одну ночь провел в аэропорту, легко ее поймет. Бесконечное откладывание рейса – с часу на час, бессмысленное сиденье, совершенно бесцельное хождение, разглядывание оцепеневших и отупевших физиономий, медлительнейшая буфетчица, забывающая каждую секунду о том, что она – существо живое и, более того, – работающее, серая очередь прощает эту неповоротливость лишь потому, что всем все равно стоять, а простоять у стойки час или проболтаться в зале – эффект один, хоть какое-то занятие.
Бессмысленно брать с собой в аэропорт книгу, прочитано будет не более двух страниц, на третьей неведомая сила поднимет и понесет в неизвестном направлении. Аэропортовское радио объявляет отложенные рейсы и усиленно приглашает посетить парикмахерскую, словно сидение в кресле -замена бреющему полету.
У Любушки-голубушки, конечно же, масса средств для отвлечения от неприятных мыслей: телевизор, кухня с готовкой и беседами, магазины и снова кухня. Смена дня и ночи, времен года. Сын, которого можно брать на руки, прижимать к груди, тихо вздохнув. Но все же душа не может быть спокойной, пока нет дома мужа. Ведь его подстерегают опасности, он терпит лишения. Она научилась стоять свою вахту. Секрет такой: не нужно заглядывать далеко вперед, а жить моментом, в нем своя радость и своя трагедия. У Володи летные часы, часы высшего блаженства, ради них он во многом отказывает себе на земле. Но у него есть часы, когда он с Любой вдвоем. Наверное, тогда он более счастлив, чем в небе? Может быть, когда он в небе, он в силах забыть о своей Любушке, отключиться, ведь работа, ответственность?
У нее нет летных часов, нет звездных. Она не может забыть о Володе, будто в ней сторож какой-то электронный: «Внимание, сейчас позвонит!» И раздается телефонный звонок! «Ну, что ты там, Любушка-голубушка? У нас-то по расписанию. Скоро встретимся». – «Уж побыстрее бы. Возьми подтолкни его, самолет свой» – «Хорошо, подтолкну, жди. Целую!»
И опять ждать до назначенного часа, но без паники. Еще часок сверх того. Погода, может быть, пропала. Еще часок, если на запасной аэродром, но это другая песня. У нее запасные вон как друг от друга отстоят. Может быть, на посадку уже пошел, а туман пал, тогда – лети в Петропавловск. Оттуда он позвонит. А может и не позвонить. Если в Охотске сядут, так это сложнее – связаться. А там санитарная норма кончилась, не выпустят, пока восемь часов не поспят.
И вдруг шаги по лестнице. Она слышит их сквозь метровые стены старой кладки. Чуют кошки и собаки шаги хозяина, бегут к двери, их кошка Лаура встречая отца, тянулась лапой к ручке двери. Как ее понимает Любушка. Ей хочется усмирить дыхание, а не получается. Быстро в зеркало глянуть, волосы поправить. Да глаза какие-то странноватые. Отчего – не плакала ведь. И горло подводит всегда. Прокашляться надо.
Звонок! Это он! Вдруг не он. Вдруг принесли телеграмму! Вдруг беда – с родителями! С Володей! Нет, нет, не может быть!
У него есть ключ, но все равно звонок – ее вызвать, а то пока докричишься! Он отпирает ключом, распахивает дверь. Она бросается на шею. Не покачнется, не хлипкий. Да и миниатюрная. Летная шуба с капюшоном, унты. Она в черном бархатном платье с золотой подковкой на груди. Когда надеть успела? – сама не знает. Туфли на высоком каблуке. На одной ноге стоит, а другой в воздухе болтает. В балете каком-то видела такое. По телевизору.
Володя должен немедленно выдать нечто эквивалентное. Он роняет на пол туго набитый портфель, коробку с фруктами примащивает на телефонную тумбочку и кружит жену на вису.
– Моя мама! – из-за двери робко выглядывает Вадька.
– Нет, моя! – отвечает Володя, и задор его столь силен, что Вадька хлюпает носом, кряхтит и закипает слезами.
– Господи, – Любушка не скрывает досады. – Всю душу мне вымотал, и еще мало. Да твоя мама, твоя. Папа же прилетел. Неужели ты не рад? Иди в комнату, а то он холодный. Будет тебе сюрприз.
Вадька недоверчиво затаивается за дверью. Любушка, прижимаясь всем телом к мужу, крепче смыкает руки у него на шее и долго, зовуще целует в губы. За дверью раздается жалобный трубный звук – прелюдия к очередному плачу.
– Уж не даст и встретиться, – лукаво говорит Люба. – В кого он только у нас? Ты давай в ванну. Папа у нас пойдет в ванную, Вадинька, запылился немного в небесах. Там же космическая пыль, говорят. Мама папе помоет головку, а ты поиграй. Договорились? Хочешь, я тебе тоже помою головку? Не хочешь, боишься. Ну ладно, поиграй минутку в одиночестве.
Вы любите отгадывать мысли? Мысли любимого человека, – есть ли занятие интереснее? Упредить желание, вычислить, интуицией дойти? Ну, тогда вы понимаете Любушку…
Распаренный, умиротворенный, погруженный в роль отца семейства, Володя восседает за столом. Если сказать, что блаженство разливается по его лицу, то это будет соответствовать истине только на одну десятую.
Говорят, Андрей Рублев две недели постился перед тем, как взяться за новую икону. Владимир Добриенко, безусловно, понял бы гениального предка, если бы художник набросился на гастрономические арабески Любаши. И вообще… ее общество.
– Я так ждал, так ждал… – Володя умолкает, не в силах подыскать слова для окончания фразы.
– Я поняла, – мурлычет Люба. – Я тоже ждала. Устал? Подремлешь?
– Что я, спать сюда пришел? – бормочет Володя и зевает.
Но через минуту бодр и ищет, к чему бы приложить руки. Он обдумал еще в самолете и наметил несколько дел. Надо только окончательно решить, какое первостепенное. Между кухней и ванной есть крохотный коридорчик. Метра полтора квадратных. А потолок уходит в неоглядную высь. Зачем такая кубатура? Кому она лично нужна? Никому. Значит, набиваем доски, делаем антресоли, а на них можно будет полмашины вместить.
– Ну и правильно, Володюшка! – одобряет Люба. – Мыслимое ли дело все в комнате держать! Давай сюда чемоданы составим! Я буду подавать…
– Ты не беспокойся, я сам. Ты пацаном займись.
– Да что им заниматься, я же его спать уложила. Тихий час же, забыл? Знаешь, операцию ему делать надо. Гланды рвать. Я хочу, чтобы ты дома был. У тебя неделя найдется без полетов?
– Может и две найтись, только что тогда получать станем? Сейчас самые полеты. В начале месяца у нас учеба будет. Терпит это дело?
– Терпит. Женя говорит, сам проследит за наркозом. И потом нас пустит в палату. Никого вообще-то не пускают. – Люба видит, что Володю огорчило известие о сыне. А ведь не хотела его огорчать, не омрачать праздник возвращения. – Ты не расстраивайся только, это совсем не страшно.
– Я ничего. Это ты сникаешь. А знаешь, какую я тебе обновку сейчас сочиню? Сапоги-чулки не надоели? Хочешь взамен перламутровые?
– Хочу!
– Будут перламутровые.
Володя поставил Любины изящные сапожки на развернутую газету в прихожей, достал металлический флакон и затряс его так, что внутри забились металлические шарики.
– Вадьку не разбудишь?
– Нет. Хорошо, что спит, я тут немного побалуюсь, запах будет сильный.
Володя нажал на кнопку, и светлая струя брызнула на сапог. Через минуту он сверкал расплавленным серебром.
– Слушай, здорово как! Я бы до этого никогда не додумалась. Как ты сообразил?
Володя самодовольно замялся, и смущение на лице сменялось радостью. И вообще ему слишком хорошо становится от похвал, он меняет тему.
– Кран я привез. Обратила внимание? Смеситель для кухни. Шланг и душ маленький – тарелки споласкивать. Только чтобы не мы одни платили. Все же будут пользоваться, на троих нужно поделить расходы… А летом мы знаешь, что закатим? Квартиру нужно всю обновить, всем колхозом. Проводку поменяем, побелим, покрасим.
– Жаль, что не вся наша…
– Еще не вечер. Будет и на нашей улице праздник!
Только они разговорились, хлопнула входная дверь, это Надя вернулась с работы. Посторонний человек, даже соседка, – будто гири на руках.
– Прилетел, наконец-то. С возвращением! – В голосе Нади вибрирует неподдельная радость. – А запах! Явно не «Диор». Сапоги, что ли, привез? А-а, это ты лаком покрыл, да? Мне покрась, а?
– У тебя свой муж есть, – Любушка жеманничает, а в голосе торжество. Не удается перевести в шутку слишком горячий клубок чувств.
– Да, есть! Его допросишься! На что его хватило, так на стеллаж. За восемь лет семейной жизни. И то не сам строил.
– Ему же некогда, – Люба искренне защищает Женьку.
– А твоему есть когда? Есть? «Диора» привез? Когда покажешь? Не тяни душу!
– Смотреть-то нечего. Флакончик, как из-под пенициллина. Я пока и открывать не буду.
– Почему это? – в голосе Володи возмущение.
– Сабантуйчик организовываем. Маша замуж, наверное, выйдет.
Володя обрадовался и не скрывает этого. Он и так намеривался посидеть за праздничным столом, а здесь повод готовый, не надо голову ломать. Володе хотелось выпить, но зарок давал – только за праздничным столом, не иначе!
– Готовить вместе станете?
– Может быть, из домовой кухни принести? – хитрит Надя.
– Еще чего не хватало, -тон Любушки более чем жесткий.-Тогда можно в забегаловке все устроить. Кухню беру на себя. Только мне одной не справиться. Пусть девушки помогают.
– А спиртное? – нерешительно спрашивает Володя, будто размышляет вслух.
– Да ты знаешь, товарищ-то этот, жених будущий, непьющий.
– Ну, шампанского давай. Пива.
– Ему вообще ничего нельзя, ни капли.
– Понятно. Значит, купим, а выставлять не будем. Кому надо – марш на кухню, наливай и пей.
Все молча согласились с Володей.
– Придумать бы что-нибудь необычное. А то собраться вместе, поесть, – много ли радости? Что-нибудь памятное, – мечтательно говорит Люба.
– Викторину, что ли, – улыбаясь, говорит Надя. – Как в пионерлагере?
– Хотя бы.
Стол решили накрыть и прихожей, так сказать, на ничейной территории. Вообще-то у Маши надо бы, но не одна гостей принимает. Это, так сказать, общая заслуга, если уж уточнять детали.
– Давай, сервируем по высшему разряду, – нерешительно предложила Любушка.-Сервиз наш хочется обновить, три года не распакованный. Володя с полуслова понял и сразу одобрил. Знай наших! Жаль вот, подходящего платья у Любушки нет. Такого бы, как их норковая шуба: надеваешь, и нет вопросов. С платьями сплошная морока: мода, шить надо. Попробовал заикнуться Любаше, так она сразу отбрила.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!