Текст книги "Война и воля"
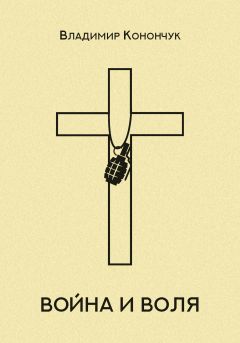
Автор книги: Владимир Конончук
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
А вырастал впереди лес густой, и наш парень холостой пошёл туда – не зная куда; кругом щебетали птички, иные чудно пели. Дорога, заросшая цветами, скоро сузилась до тропы и наверняка сама забыла, куда она ведёт и вообще ведёт ли. Лес вздыхал, кряхтел и хрустел, напоминая утро старого человека, вставшего с кровати и разминающего свои члены. Вот бы ещё разговаривать умел и поведал, есть ли надежда на удачный исход этого пути в никуда. Но не подумал красный конник, что ведет его сама нечистая сила, по причине живущей в его крови заразе атеизма, а то бы враз родил мыслишку, а не дурак ли он идти дальше. Но не было сомнения в голове Мамалыгина, одна только маленькая досада, что не ухватил на равнине сладкого памятью гуся. И всякую встречную ягоду клал он в рот, желая утолить голодное настроение, и рад был обилию ягод. Взять же в ум, куда таки он прётся, на ходу не получалось. А получилось, что сел он меж цветков и ароматов, будто в лепёху коровью, в самую что ни на есть печаль. Или грусть – разницу Фёдор не знал. Какая тут разница, когда жизнь рушится. К чертям собачьим, дорогие товарищи красноармейцы, к самим что ни на есть чертям.
Наверное, не «угу» промычал встречный житель, или же доверился наш теперь печальный путник обману местного населения, и с конями в окрестностях полный швах. А коль жизнь без коня впереди не наблюдалась, положил Федя шашку на колени и сказал ей, что, любовь моя, придётся с тобой проститься, и парой капель из глаз сияющую щёку сиятельной подруги оросил. А потом заплакал в голос, зашёлся от души, потому что давно и тайно хотел этого.
А потом уже подумал, что не зря в глушь забрёл, отвёл-таки сердце, дал ему волю с птахами вместе поплакать, ведь не можно думать, что те одно петь только, а плакать не живут. Да тут сами камни заплачут, дай им волю.
Сказать, что Федя дал душе слабость от жалости к себе, будет неверно. Не жалел от себя никогда, а по характеру желал быть беспощадным, и теперь знать не умел, откуда нашла на него такая блажь, а себя что толку долго пытать, коли ответить не можешь.
Положил он сабельку на цветки – решил снять сапоги, дать роздых ногам и проветрить портянки, уж больно духмяно было кругом, больно природно. Да и сподручней о судьбине горевать, бедные босы ноги свои наблюдая, пальцами усталыми поочерёдно, медленно травинкам кланяясь.
Прилёг. Небо цвета маминых глаз посмотрело на него, и стало стыдно о своём плакать, потому что живой он пока и пташек-мурашек любящий в теплоте светлой, а мамка вдруг уже померши и, не приведи Господь, с голодухи – страсть как тяжко тогда померши. Одно утешительно, если при хорошей думке за мировую революцию. А если не при хорошей?
От представления, что уже мамка померши, стало Фёдору как-то даже бесстрашно, и стал он согласный на любую от эскадронного кару. И такой отваги достиг в разговоре с собой, что наган извлёк и в ствол ему заглянул, представил, как пулька вылетает и как она, быстрая и горячая, кончает все его переживания. При, конечно, имении на то желания или хотя бы радостного представления, что на том свете его ждут и обнимут.
Помирать же здесь, среди запахов чистой окрест красоты, ни за что не хотелось, одно бы всю вечность лежать меж нежности цветов под поющим небом.
Но вот что случилось: пришёл к Фединой памяти в пыльных хромовых сапогах комиссар, какой никогда и нигде поминаться не имел жажды, а тут – как живой пред очами! Алая во всю грудь звезда шевелила своими острыми конечностями, ибо речь держал комиссар и руками водил вверх и разные стороны света, ладошки то растопыривал, то в кулачки сжимал, как бы хватал и кидал в бойцов удивительные фразы, а затем объяснял словом и жестом, какого это он тут им понакидал. И хотя будто снова высоко летала мысль, что есть рай подлая выдумка эксплуататоров, явный ёпиюм пролетарскому мозгу, чувство не дало Мамалыгину убить догадку, что именно в сей момент пребывает он не иначе в раю, нехай ещё пока в натурально живом виде. Больно хорошо стукало сердце, и голод перестал урчать в животе. Где доставала рука, пощипал он разнотравия, подушечку соорудил. От сырости. Голова не нога, резерву не имеет. Снял конник гимнастёрку, дал ветра груди и загляделся в небо цвета мамкиных глаз, покусывая сорванную ромашку. Горчила. Полезное вкусным не бывает. С этой мыслишкой в зубах и уснул…
Меж высочайших ромашков и сочнейших клеверков убегал и оглядывался сытый, белый, откормленный, длиннодлинношеий гусь, свинье не товарищ, но лучший друг снов. Поймал Федя друга, открутил ему бошку глупую и уж костерка затеял огонёк, как зашёл на слух звучок интересный. Отвлёкся конник от костерка – высмотреть, откуда прёт звучок, окол себя вкруг огляд произвёл и не обнаружил. Одне поля да дерева, меж них одно несчастье ходит да скалится человеку, вроде как улыбается вечно. А звучка не издаёт. Под ноги глянул конник, а там? – имейте любезно! Голова! Оторванная гусиная голова самовольно открывает клювец и ржёт, как любила боевая подруга Клаша. Гадюка-змея поползла меж его лопаток, склизкая и холодная. Во сне же про сон что можешь подумать, кроме, что это жизнь натуральная, страсть как тогда потеешь, и мураши по ногам осязательно толпами шастают. Страх!
Рождённая и воспитанная войной, пружина опасности у Фёдора имела место жить. В позвоночнике, внизу. Сжатая страхом до свойства дремлющей бодрости, в миг опасности она распрямлялась, взводя мозг и тело к ответному действию, ровно затвор к выстрелу. Сейчас она стремглав выбросила Фёдора из сна, вернула ушам звуки реальной жизни, где из щебетаний, шелестов, шорохов и жужжаний вычленила звук тихого лошадиного фырканья, всегда и всюду тревожносладкий. Шёл он из глубины леса, сопровождаемый странным для райского местоположения шумом.
Шестью годами войны на перемену обстановки тренированный, вскочил красный боец, и вот уже наган в руке, зоркий глаз подозрителен и остр. Никакой не застанет врасплох Мамалыгина враг! Не на того нарвался!
Буквально через минуту наш герой уже улыбался своему пружинному состоянию: случилось чудо, какому и надлежит быть в райских кущах. Счастье запело в душеньке: из лесу показалась лошадиная морда, удивительными глазами просто в самое нутро заглянула, зуд в руках вызвала, ресниц хлопанье. Зачарованный, смотрел человек в глаза животному, пока оно двигалось навстречу, и не сразу обнаружил, что позади, в телеге, полулежал на сене человек. Определил он себя тем, что на ветру болтал ногой с грязной ступнёй, явно не избалованной обувкой, а ещё озвучивал окрест происходящую мировую революцию наплевательским храпом.
– Ну не сукин ли сын? – в уме спросил себя безлошадный конник. – Совсем никакого внимания на обстановку! Мы тут, можно сказать, историю производим, а этот дрыхнет и в ус не дует.
– Куды на человека?! – уже в голос рявкнул он на лошадь, чем оборвал храп ездового. – Тпр-ру! Я кому сказал, наглость буржуазная?! А то я тебе счас! – и размахался на все стороны наганом.
Лошадь – а то была Ласточка – послушалась, замерла, морду опустила, совсем недоуменная. Ну что за суматошный случается человек. Не любит жить без возмущения. И что хочет от жизни? Пойми попробуй. Орёт. Ему стой. Могу и постоять. Могу так постоять, что ему тошно станет.
– Х-ха! Здоров будь, мил человече. Кто ты есть такой, куда добрый путь держишь и пошто поперёк нашего пути выражаешься? – проснулся тоже быстрый Петрусь и сидел уже вертикаль башкой, вопрос ставил, округ живо зыркал, грудь пятернёй слегка скрёб.
– Четвёртой бригады боец за свободу товарищ Фёдор Мамалыгин!
– Здоров будь, боец. А кого в наших лесах собрался освобождать, ежели не секрет? Зайца из волчьих зубков? Али заблудился? Али цветков местных понюхать сподобился? Далеко забрёл, легко подумать, что в дезертиры. Опять кобыле пистоль суёшь под ноздрю. Так разве это сахарок?
Освободитель посмотрел на наган, повертел и за пояс заткнул. Вроде и в самом деле без надобности. Поднял с травы сабельку, приладил на ремень и, босым оставаясь, к путнику в телеге подошёл близко за разговором, неся в уме применять убедительные слова. Подошёл и обнаружил деревянной его вторую ногу, и очень удивился ей. Красиво нога была сделана.
– Освобождаю, дорогой товарищ местный житель, – известное дело, – трудовой народ от гнёта и ярма.
– Иди ты! Какого такого?
Гнёта безудержной эксплуатации, – вспомнил комиссара Бориса Аркадьича конник. – Ярма непосильного труда.
– Ух ты! Неужто от работы!? А и хорошо! Нехрен пот лить по всей жизни! Освобождай, мать твою! Нехай народ лежит на печи, пьёт чарку и жрёт калачи. А ты подавай, братец, коли подрядился при свободе. Много должно быть у тебя калачей, не Христом ли новым ты здесь, твою ж мать?
– Не-е. Религия – ёпиум, попы – коварные вруны.
– А ты – честный вояка? В лесу за тыщу вёрст от своего войска. С наганом и сабелькой. Ай да Илья, чисто Муромец! В нашу глушь припёрся. Ищет, кого бы и от чего освободить? Дорогу переходит, ровно разбойник. Ладненько, твоё это дело, мил человече, а нам беседы недосуг говорить, мы в уезд поспешаем.
– Докладаю! Кобыла моя, Клаша по имечку, приняла смерть геройскую за дело мировой революции, трагически вышла из строя. Три дня не евши, имею я одно расстройство и гуляю искать коня. Эскадронный зверем рычит, вострит сабельку меня рубать и велит вернуть потерю в ряды. И вот когда всякий человек, тем боле конь, должон отдать жизнь за счастье трудового народа, объявляю твоей кобыле мобилизацию на службу, а тебе – пролетарский почёт. Как добровольно и сознательно отдающему её на славное дело кровавой и беспощадной борьбы. Повезло тебе, мужик.
– Ты… это… белены не…
– Никак нет! С чистой революционной совестью. Кто не за нас, тот совершенно против нас! – опять вспомнил Фёдор комиссара. Восторгом пело его сердце, гордостью раздувалась грудь. Мнилось, как улыбчиво встречающие боевые товарищи одобрительно обнимают его, похлопывают по плечам, дарят свои пролетарские рукопожатия, а эскадронный… Тоскливо этак смотрит эскадронный на сабельку и говорит печально, что зря её точил на сей раз, ну да дурак ещё найдётся, найдётся дурак; дурак – причина вечная…
– Вот оно какая хреновина! – вторгся в мечтания Петруха. – Решил, значится, освободить местного жителя от лошака, несмотря что тот калека и без ней не умеет жить и двигаться вдаль. Во имя, говоришь, общего, в той части и моего счастья. Давно ли так грабёж именоваться стал? Чтобы всем настало удовольствие проживать, надобно всех грабить, – так получается.
– А-а-а, вражина! Я тебе разве грабёж объявлял? Клевета на советскую родную власть! Контрреволюция, твою деревенскую мать! – рука Фёдора заспешила в поисках рукоятки нагана. – Не для себя старание, не для буржуазного грабительского хозяйства мобилизую. Я на дело революции, несознательная ты дремучая личность. Беспощадно! И не перечь, пока я добрый.
– Господи! Да где ж ты глаза выронил? То не для строя кобыла, она в галоп не годна, старуха, под седлом сроду не бывала. Она войне твоей без толку, один только вред. Она под тобой в первый день падёт. А на третий я без неё помру.
Сердце у тебя есть? В семнадцатом, слышь, оккупант немец по своему сердцу не стал меня, калеку японской войны, лишать лошадки, а ты…
– Не серди. Сердце моё, пока в груди стучит, принадлежит уже не мне, а мечте народной. Я кровь свою клялся не жалеть за нашу светлую жизнь! Так нешто чужую жалеть стану?
– Так ведь грех невинного-то лишать живота. Ни по вере, ни по совести людской, коли не веруешь с больной-то головы. Бог! Он всё видит, за всё воздаёт.
– Ох, болотный ты человек. За него Бог всё видит, всё делает. А слышал?: «Никто не даст нам избавленья, ни бог, ни царь и ни герой, добьёмся мы освобожденья своею собственной рукой.» Слушай, слушай правду настоящую. Ты Бога своего, разреши спросить, в небе видел? Нету его там, и нигде нету, потому как выдумали его богатеи для обмана бедных, именем его прикрывают делишки свои подлые.
– А в своём глазу бревна не видишь? Свой грабёж не прикрываешь? Отдай коня за ради общего счастья, говоришь? Ты вот себя счастливым сделал? Что-то не вижу, коли три дня голодуешь. А кто тебе сказал, что меня сможешь? И как? Меня же лишив кобылы?! Интересно получается: для общего счастья грабь того, кого ещё другие не успели. А кого успели, скажем, германцы, тот должон уже в полном счастье пребывать и радоваться жизни. Который гол до нитки, тот выходит самый у тебя счастливый. Только вот всех обчистить – труд великий будет, как тут армию не собрать? А ещё усмирить тех, кто не хочет нищенствовать. Вот и всё твоё освобождение. Голый бандитизм.
– Ах ты контрреволюция одноногая! – вскипел красный конник Мамалыгин, оскорблённый и обиженный, и наган на Петруху направил. – На сене мягком устроился, жопа кулацкая. Слазь. Телега тебе ни к чему, а обозу вещь радостная. Как тебе ни будь обидно, а счас ты у меня на травку ляжешь, именем мировой революции. Приговор тебе выношу неотвратимый, вражий потрох. Слазь! Не хочу пачкать имущество поганой твоей кровью.
– Что тут возразить, мил человек, коли есть ты убивец? На этой хреновине, – постучал Петруха ладошкой по ступе, – по болоту ходить не могу, а только помереть мучительно. Так что давай мне пулю в лоб, оттуда крови не грязно, а то надоел ты мне пропагандой. Зараз только поудобней приспособлюсь.
Стал он здесь разворачиваться поперёк телеги. Ногу свою деревянную схватил при том руками и с помощью их водрузил поверх перила, затем туда и здоровую ногу пристроил. Смотрела его ходилка в небо, а Петруха нагреб под себя сенца духмяного, возлёг барином и ну жмуриться на солнышко, улыбаться, приводя к возмущению мыслительный процесс красного освободителя, просто пунцового от подобной наглости.
– А ещё, милостивый, хотя бы опосля дай мне счастья, – продолжал тем часом калека, – отвези, Христа ради, до церкви, будто случайного, ведь есть я православный, да небось твоя матерь и в дурное нынче время креститься на иконку рада, потому за ради мамы своей найди совесть, – а сам красивейшую свою ступу удобно располагал да шнурками-завязками перебирал как бы от нервов рук.
Фёдор же был голодный и имел злость на себя и на дурня в сене, какой слезть и самостоятельно утопнуть в болоте не хочет, а просится на расстрел за ради отпевания. Сбрендил со страху? Или когда жилище – болото, смерть сестрица? И всё бы ладно, и хрен бы с человеком во имя цели великой, да в лоб стрелить – это вам, господа, не фунт изюму. Никому ещё не пулял в самый что ни на есть разум девять граммов смерти товарищ Фёдор, вот до какой страсти довела его беспощадная мечта, и теперь играла с ним в растерянность. Похоже, обыгрывала. Не имея духу подойти в упор, кричал слазить и всякий мат пущал в ход, да только улыбался дурень на сене, будто в гробу уже возлегал и рай чувствовал. У всякого своя мечтишка в глазах плавает, но зачем поглядом смущать людей, плювать на жизнь так-то? О-ох!
– Да вот бы лучше миром отдал-то, да и шёл себе, – только и сказал вслух.
– Не выходит, – сказал в ответ Петр. – Тогда сожрут меня волки, а с того света печаль смотреть, как тебя жрут. А в церкви хорошо, там в рай снаряжают. Стрельни меня, мил человече. И вот ещё вопрос: тебе-то как самому помирать сподручней, с отпевкой чи без?
– Я в твоих поповских бреднях уже не разбираюсь, мне смерть есть смерть. Когда тебя нет, тебя нет, и всё. Мёртвому без разницы, где ему валяться.
– Понятно, – сказал одноногий туземец. – Ты настоящий большевик. И ты сумеешь дать мне пулю промеж глаз.
– Слезай!
– Не слезу. Отвези до церкви опосля за ради своей мамы.
– Слазь нахрен, контра!
– Пошёл в жопу! Иди стреляй мне сюда! – показал пальцем Пётр меж глаз место, где желательно ему иметь ещё одну дырочку.
Не ожидал Федя от местного населения такой жуткой упёртости, никак не ожидал. Прежде кому стволом указывал, тот враз шелковел до полной мягкости и гладкости. Этот упёрся. Придётся стаскивать на землю, а то ведь и дотемна доторгуешься. Подошёл красный конник, встал напротив глаз инвалида, в ступу грудью едва не уткнулся, последний уговор стал давать.
– Хрен с ней, с кровью. Кончу тебя, контра, прямиком здесь, потом наземь сволоку, и не видать тебе отпевания при таком раскладе. Лучше слазь добровольно и думай шанса за жизнь. Не шути, не шути-ка со мной!
Твёрдо говорил боец революции, и дрожащее чёрное пламя плясало вкруг его зрачков, и скакал в руке наган, будто в небо рвался, крылатый, но цепко схваченный птенчик. Решился-таки, гад, – определил Петруха, никакой смерти себе не желающий, потянулся к шнурочкам вверху ступы, потянул их на себя, и прошептал: «Прости меня, Господи».
Смерть кувалдой ударила по сердцу Фёдора Мамалыгина.
Надломился освободитель людей от избытка имущества на путях к радости, обнял планетушку, и дёрнулось напоследок его тело, провожая освобожденную душу в полёт, и поднялася та над брошенной своей оболочкой, весьма удивлённая тому, что может видеть, слышать, думать, но поднять сабельку и рубануть коварного классового ворога – не имеет уже руки, и всё тут. Кончилася Федорова земная судьбинушка и пришла ему ясность, какой он на покинутой земле был бесконечно бестолковый, захотелось ему поплакать и пожалиться мамке, да нечем стало голосить и негде брать слёз. А ещё подумалось, что мамка на земле осталась, не встречает коль, померши с голодухи. Но, может, ещё и найдётся.
И стал он смотреть, а смотреть ему интересно было, как слез с телеги инвалид непокорный, встал на колени перед прежним его телом, провёл со лба ладонью, закрывая стекляшки глаз, и вдруг зашевелил губами, отпуская на щёки слёзы и крестясь. Жалеет, – понял Фёдор, и стал летать по небу подобно орлу.
Петруха, вынужденно приняв грех страшный, досадуя на себя, просил Господа о прощении, ибо в глубокое сомнение впал, прав ли он был, убив, дабы не быть убиенным.
Молиться не прекращая, взял он сабельку, стал резать матушку землю, готовить могилу в ней страдальцу, искавшему и нашедшему истину, уснувшему совсем, безучастному теперь ко всем своим сражениям и болезни идеей всеобщего счастья. После верхнего слоя из корешков, распаутиненных в травяном перегное, пошёл жёлтый песок, прохладный в торопливо сбирающих его ладонях, успокаивающий сердце. Жалко было сабельку, идущую в негодность, но куда больнее было за человека; не собака таки, дабы хоронить его в мелкой ямине, небось крещёный и, значит, какой ни есть, брат. Потому, сняв дубовую свою «стреляющую ногу» и на колени став, выбрасывал руками Пётр из будущей могилы песок до тех пор, пока не одолел его испуг самому в ней остаться.
И когда плюнул на свой испуг, и выбрался наверх наш невольный впервые могилокопатель, ветеран Японской в тридесятую задницу войны, то отчаянно, будто в остатний раз, задышал на полесскую прелесть природы, что щебетала птичками самозабвенно и на кой-то чёрт радостно, слегка глупая, потому сильно искренняя. Совсем ей, то бишь природе, было плевать, что тут глупого человечка с его светлыми мечтаниями в темень закопают и не вспомнят, потому как дай ему лошадь во что бы то ни стало. А кто без ласки даст? Без ласки – токмо за выгоду, мил человек. К примеру – за самобеглую колесницу вроде германского автомобиля. А кто здесь, меж проживающих пока, иначе соображает?
Устал Пётр телом, душой же отмяк и сенцом дно подостлал бывшему бойцу какой-то революции, сволок и мягко уронил тяжкую плоть брата своего, на лицо его поглядел равнодушно-печальное и опять же сенцом прикрыл, наган при сём у покойника забравши и за пояс ткнувши. Револьвер в хозяйстве вещь безусловная, кто хочет поспорить – ступай сюда и немного поспорь.
– Кто здеся супротив? – запросил он деревья и травы, да громко так, что птички на чуток уважительно смолкли.
– Эх, мама Япония моя! Никто не хочет самовольно в царствие небесное, – ответил он сам себе. – И червяк от лопаты прячется, и комар ладошек бежит. И дерево плачет, когда его рубят. Так не заплачу я разве по живой душе?
И заплакал щедро, и, слезами исходя, работу исполнял. А уж вечер в глаза дышал мутным перегаром дурного дня этой жизни. И надлежало поспешать, ибо легко ли затемно издавать скрип на дороге, в тревожном уме кишащей татями, злючими до чужих лошадок; и затем было грустно, что не споро давалась молитва, когда хоронить не по православному возможно токмо при гневе совести. Крест требовался, это ж никак – без креста, а того рубить из берёзы способом сабельки – не изюму фунтец при одной-то ноге на всю хреновину жизни.
Вот дарует господь человеку света, а тот самостийно понять не смекнёт, зачем, а тут ему лукавый по смутную душу. Для счастья народного – так смущает разумишко. А и ладно, а и не зазря проживу, – думает человечек, и вот над ним уже холмик из золотого колеру песочка, в головах крест от добрых людей, веревкой образованный, с подторкнутым под неё именем раба революции.
А ведь скоро дожди… скоро нам всем дожди.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































