Текст книги "Война и воля"
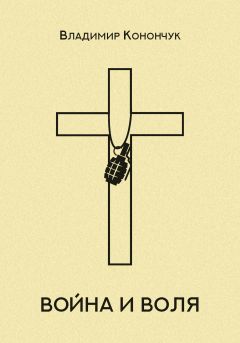
Автор книги: Владимир Конончук
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Так, направо да налево крутя головой, из главного леса и выбрались; дальше начинались поля и перелески. Вскоре двинулись по большаку – гравийной сухой дороге, что вела из уездного городка в Свары, соседскую, считай, деревню. В Свары, прикинул Петр, версты с две, но как бы в сторону удаления от конечного пункта, до какого по гравийке шесть с малым гаком. Оно бы и к соседям завернуть не худо, много там добрых людей, (сватов немало в Радостино приходило и девок на выданье уступлено), хоть и называется странно, в переводе на русский означает «много ругани». Однако исключительно славные там люди проживают, в чем состояла главнейшая опаска: трезвым у этих сварынцев возможности быть не существовало, очень не любили они, когда гость слабо выпивает, считали, верно, не уважает хозяина. В наличие на этом свете непьющих не верили, болезнь признавали причиной отказа, но лечили опять же настоями на травах. Какие то были травы, неизвестно, на чем настаивали, ясен черт. На том самом сварынском, лучшем в свете самогоне. Не-е, нам туда нельзя, решил Петрусь, и без того лошадка косо смотрит, как бы крепко не осерчала, дьявол ее забирай.
Город стыл тих и мрачен; в редком окне мерцало.
Найти ночлег не представляло труда: предоставить путнику кров было святым делом для простого жителя, сродни спасению утопающего. «Гость от бога». Все мы гости… Луна была слабовата, тучки на звездах паслись, опять же мешая видимости, собак слыхать мало. Гавкнет, подбежав к забору, и наутек. Странные, отметил Петр, собаки стали.
Не желая стеснять бедных, высмотрел путник домишко посолиднее соседних, остановился, слез и поковылял отворять калитку. Навстречу выбежал пес и залаял, неся службу, нервно и взахлеб. Отворена была створочка окна, судя по тонкому скрипу петель, и мужской голос негромко спросил: «Будьте ласка, кто это пришел до нас?»
– Заночевать нужда принесла, – ответил Петр. – Очень простите за тревогу, из Радостин иду, зовут Петром. Кульгавым еще кличут.
– Одну маленькую минуточку, – послышалось в ответ, оконце закрылось, а вскоре отворилась дверь, осветив ступеньки порога: со свечой навстречу вышел, по ходу осадив лай, невысокий, но несуетливый мужичок при огромных светлых усах. – Приятно знакомству. Казимир я. Пожалуйте до нас, уважаемый, будьте как дома. Коня сам во двор поставлю. Класть ли коню сена, дорогой человек? Распрячь ли?
– Ой да спасибочки! Не надо лишних трудов. Моя дамочка привычная ночевать в разном положении. Прошу прощения за вопрос, но имя Ваше мне любопытное, у нас в деревне нет таких; очень интересно, польской ли Вы нации или невероятным для меня гостеприимством жидовской?
– Православный я. И батька и мать белорусами были, меня только не спросили, какое имя хочу. Вот и получаю вопросы.
– Не обижайтесь только. Из уважения спрошено.
– Ничего страшного, мил человек… Места у нас в достатке, – продолжил хозяин, вводя под уздцы лошадь внутрь изгороди, – и экипаж разместится, и пассажир. Никак, дорожка Вам непростой выдалась. Сейчас дам коню свободы; вижу, мне это куда попроще, нет в том труда, кроме удовольствия. Нашего коника, на жаль, уж год как вспоминаем. Маленькую минуточку терпения и пойдем отдыхать.
В доме хозяйка уже чистила картошку, бросив в печь дровишек сухих и потоньше, дабы быстрее разыгрались; пока хозяин пил встречную с гостем и приглашал закусить квашеной пополам с антоновкой капустой, маринованными маслятами из подпола, а еще моченой брусникой и всякими другими припасами. К третьему лафетничку жареная картошечка уже испаряла аромат над столом, а рядом в сковороде, с луком обжаренные и травами осыпанные, в сказочном озерце золотистого цвета плавали шкварки, как бы в полном удовольствии, что сейчас их будут сильно хвалить. Шкварки частенько ведут себя как румяные и доступные хохотушки.
Дело у мужиков не ржавело, скоро пошли песни, обнимашки и целования. Гость в доме – праздник в доме…
Постелили Петру толстенную перину в горнице, на полу у окошка; рядышком банку рассола поставили, дабы не искал в жажде похмельной, где не знает, спокойно почивать велели. В превосходном состоянии он и уснул, сначала будто в небытие провалился, потом сны стал видеть совсем к моменту ненужные, мать честная, про то, как он по лугам на двух своих бегает и японца воюет, потому винтовка в руках и вроде враг навстречу пуляет. Характерно пули гудят, живым образом. «Ты мне про баб вынь да положь», – приказал кому-то во сне переключить тему Петр, плохо ему стало с непривычной беготни. Пришлось для того проснуться, как уж не единожды на сущий миг бывало, для прогона вон непрошеного господина Кошмаровича. Дальше случался новый сон или пропадал конечно. Здесь нашему герою, еще с нетрезвой головной мутью пребываемому, прогнать его захотелось прочно прочь, желая прекратить издевательство над своим превосходным, как уже отмечалось, состоянием души, да странная вещь приключилась: видение пропало, а звук, – что за черт? – тихий, но не позабытый вой пуль, летающих в поисках краткой жизни, возникал да возникал. Петр протрезвел и стал думать. Или стал думать и потому протрезвел? В любом случае процесс принес плод. Или наоборот, что, впрочем, никому не важно. Мужик приподнялся и выглянул в окно; в редких местах проглядываемый сквозь сад горизонт мерцал частыми сполохами, будто там, где давно закатилось солнце, неведомая нечистая сила обратила его вон и предвестила свой, убивающий время рассвет. Но, только распахнув затем окно и вслушавшись, он задумчиво осознал надвижение сюда смертельной линии войны и с удивляющей самого покорностью воспринял происшествие будничным, потому совершенно безразлично; даже утешила мысль, что окончательно сброшен дурной сон. Тревоги, вызываемой обычно смутой неясности и разбродом дум, здесь – ясен случай – и не возникло. Чему быть – того не минуть.
Не желая потревожить ночь людям, Петр закрыл окно вместе с плохими звуками, дополз до стола, где в бутыли оставлено было на опохмел, употребил славно и вернулся утонуть в перине. Сквозь дрему он еще слышал некий со стороны шляха (тот надвое делил городок) отнюдь не природный шум, но подобный то шипению гадюк, то непрерывно раскатистому глухому стуку от мимо бредущего громадного табуна потерявших подковы коней. Но скоро окрест мир утих и обычным способом затем свет стер ночь.
Разбудили ранняя детская трескотня. Деток, как выяснилось, прежде себя не выказывавших, на полатях существовало трое и теперь они, сдвинув занавесь, развернулись разом в сторону Петра и с интересом на него глядя, вели живое обсуждение; а то как же: лежит на их полу дядька бородатый, а рядом – ай да любопытно – деревянная хреновина, по виду большая бутыль, и многие ремешки при ней прочные из сыромятной кожи. Вышел тут из спаленки глава семейства, как прояснилось, дедушка «этой шкоды», устыдил шепотом, но, увидев, что гость проснулся, пожелал ему здравия и получил ответно. Полюбопытствовал сразу Петр о том, слышал ли «добрый дядька» большой в ночи шухер, далеко ли отстоит кайзер от родимых мест и «неужто сволочь решил нас взять»?
– А возьмет так возьмет, – махнул рукой хозяин. – Третьего дня верстах в двадцати стоял. Нехай себе и возьмет, лишь бы по хатам не стрелял, не вел войну супротив таких вот (показал рукой на детей) сопляков. А нам уже ни хуже, ни лучше не будет. У нас уже без того почти все отнято. Немецко-ж войско, слыхивал я, поменьше таки грабительства себе позволяет, чем родненькие наши охранители, архаровцы голодненькие наши. Коли не врут, то и нехай себе. Выживем! А куда ж нам на хрен деваться, мил мой человек? Если не будет грабежу, легко выживем!
– Случаем как бы нас уже не взяли, дядька добрый – произнес гость. – Ночью такое чувство было, что пули в саду гуляют.
– Не впервой гуляют. Сам знаю, – не сегодня, так завтра германца встретим. Так что – не спать? Аппетит от оскомины такой истратить? Любовь запретить? Деток кормить перестать? Бежать? Куда-а-а-а?
… Утро лежало в тишине. Сады истекали запахом созревших плодов, упавших и согревающих своим гниением землю. После завтрака всегда имея нужду закурить, не стал на сей раз крутить самокрутку Петр и дал волю себе надышаться. Так пахнут сады, взращенные для детей и внуков, так пахнет тоска по родным местам, но понимать это способен лишь унесенный судьбой в далекую от родины даль, тот, кому этот запах пусть единожды воплотил сладкий яд ностальгии. «Наверно, никогда не забуду Китай потому, что там никогда не забывал этот запах», – думал Петрусь. – «Ежели существует магнит, прилепляющий душу, так только тот это край, в каком дал ее тебе Господь».
Неспешно двигаясь по проулку сквозь грустно-веселый запах под успокоительное щебетание созданий для неба, достигли Ласточка с Петром главной улицы и загрохотали. Громкий лязг железных обручей и цокот подков не заставил, однако, ни единого пса бежать к забору и лаять, что было бы нормальным; нежданно гулкая громкость тележного хода вдруг насторожила Петра и дала понять, что улицы городка этим утром странно пусты, – ни человечка, – лавки, прежде бодрящие звоночками входящих посетителей, молчат, прикрывши свои зазывные взгляды веками ставней. Вывески пропали. Где торговля Ёси Матусевича? Из какого места старый Изя Гриндберг «имеет к предложению теплые, белые, сладкие булки»? Тишь да гладь. Ой не к добру – пришло на ум – явно проснулись жители, да замкнули хаты и в окно боятся глянуть, будто на свежем, до синевы чистом воздухе прогуливается невидим страшный дед Кондратий и душит каждое живое сердце своей костлявой, мерзлой своей ручонкой.
Лошадка тоже пребывала в неважном самочувствии и шла неохотно, вяло реагируя на понукания. Почта размещалась в здании управы, после единственного на главной улице поворота и, уже достигнув его, закричал в сердцах Петр: «Не замерзай, дура этакая, чуток осталось!» – и осекся, посмотрев подальше своего носа. Страшно удивительная имелась перспектива: что первое, не висел над крыльцом державный стяг; во вторых, стояла там необычная хреновина, по виду телега на дорогом резиновом ходу при полном отсутствии оглоблей. Автомобиль, – смекнул начитанный Петя. В другой час он рысью помчался бы изучить только по картинке известное чудо техники, но сейчас… Люди в незнакомой военной форме копошились, страх пришел от них, и сказал Петя Ласточке: «Тпр-ру, скотина слепая! Куда на немца прешь?!» «Ах ты мать моя честная, – пронзила последовавшая мысль, – Георгия снять не успею. И почто цеплял, задавака? А и хрен с ним. Где бог скажет, там и ляжем».
Остановились. Разворачиваться нельзя, пальнуть могут. Вперед, на рожон, дурных здесь нет. Вон, один уже винтарь с плеча дернул. Холодок ножом вскрыл грудь и встал близ сердца, съедая тепло его беспомощного трепыханья, а затем сноровисто распространился вниз, к паху и дальше, так что здоровая нога сама собой стала деревянной. Кровь как бы не удержала своего градуса.
С трудом он слез на землю родную, когда помахали ему ручкой, мол, родной ты наш дурак ты наш наиполнейший, слезай, свинья русская, ручонки чисты предъяви – и убедительно винтовкин мертвый глаз промеж его двух очень желающих жить издаля вонзили. Убедительно так, ознобно. А как вспомнил Петруня о своей винтовочке, в телеге под сеном дремлющей, едва устоял вертикально.
– Ком цу мир, – бравым, показалось, веселым голосом прокричал бдительный немчик и, в правой содержа оружие, левой рукой воздух к своему рту стал подгребать; подойти требует.
Ну так ежели «мир» говорят, отчего ж не подойти, не захромать по призыву да приободриться отчего-то и выпалить неожиданно для себя же все из немецкого языка, что в знании имеешь.
– Вас ис дас, – заорал он громко, выступив за край телеги, – вас, япона мать, ис дас.
Значения этих слов он не знал, но где-то слышал и что по-немецки теперь сказал, имел уверенность. И мы не лыком пошиты.
Ой как солдатики иноземные рассмеялись, ну меринами заржали, ладошками на землю замахали; стой, значит, не ходи. Сами, смех неся, двинули к Петру, к Ласточке погрустневшей, к винтовке под сеном, спаси и помилуй, к военному, пронеси господь, оружию. Подошли, трое, с какой-то радости захлопали по плечам инвалида, благодушные до ужаса, еще чуток, – и поцелуют. Дас ист унзере лайд, – говорят по-своему, – унзере лайд. Как позже узнал Петя, объясняли ему, что земля эта теперь в их владении, а он, как дурак, ничего не понимая, кроме сберечься от обыску, разулыбался, выясняется, вредному такому заявлению, засмеялся аж, если по секрету; быстренько взял да пошарил ручонкой под сеном и извлек ворогу – во до чего дожил! – предпоследнюю бутылочку первачка, на травах, редкого вкуса. Закусь не зажилил, вытащил всю-всю, даже резерв на обратный путь – а и пропадай, шкура дороже будет. И так что вы себе думаете? По слухам на водку слабые, тут немчики из горла в легкую выдули почти литр, мало оставив Петру, и захрустели малосольными огурцами, одобрительно жестикулируя и просто дружелюбными глядя. По очереди трогали легонько георгиевский крест, и каждый счел обязанным палец большой вверх затаращить, восхищаясь. Приятели, да и только, сбоку если глянуть. Хорошо, не русские люди, – на одной бутылке угомонились, меру знают. А если б самовольно отправились под сено искать следующую? – страх подумать. И коня отняли б, и героя шлепнули б, ровно муху. Такая вот содержалась перспектива в этом эпизоде и без того волнительной Петру жизни.
– Почта! Почта! – закричал он, воротясь умом к цели приезда и ткнув пальцем в сторону управы, отвлекая оккупантов от возможной мысли на предмет дополнительно выпить.
Следом прокричали в ту же сторону молоденькие его собутыльники, мальчики безусые, и стоявший на грузовике солдатик извлек невесть откуда русский державный флаг, замахал им торжественно и, гад, бросил святыню наземь, спрыгнул и пустился на распластанной ткани плясать иноземный – на взгляд Петра – танец. «Ай да говнюк», – никак не выдал оскорбления русский инвалид.
– Пост фиють, – объяснили собутыльники, изобразив лет птиц. – Дайке, кароши камрад. Водка кароши, камрад.
Еще бы не рады, подумал Петя. Водка с неба в рот упала, как тут не порадоваться; не солдатска, чай, каша-малаша. Миленькие, однако, сволочи. Не грохнули для забавы.
А когда все трое взяли да помогли забраться инвалиду в телегу, вручили ему поводья и погладили бережно Ласточку, как обычно пугливые дети, даже жалость прищемила Петрово сердце: люди ведь они, таки ведь белые люди, тоже им война не мать родна; с ними будь по-хорошему, и они не станут сеять пустую злобу. Но, отъехав немного, в предчувствии неутешной встречи с земляками, подумал и постановил, что все-таки волки они поганые и сукины дети: почту закрыли, какой никакой, а работы, нужной работы лишили. А женщинам бедненьким без весточек каково в тоске? Убийство одно…
Возвращались. Петрусь весь путь в голове, что в котелке каком, варил кислые думы, выходила одна безотрадность. Лошадка бодро ступала по августовскому, отошедшему от ночной прохлады дню, несла в себе радость скорого и полного успокоения.
Осень тысяча девятьсот пятнадцатого года уже наливала листья осин кровью.
7
Обреченным и неспешным, ровно жертвы по пищеводу удава, был скорбный путь эшелона.
Отдохновения люди искали в беседах, словно вырастали у разговоров руки, ворующие скудно сыплющийся из мешка проходящих мимо жизни унылых и жадных веселья суток песок золотой минут.
Православный Степан Соловейка и бывший католический священник Богуслав вдруг обнаружили себя в общем для них приходе, и было у них равное здесь право говорить и мыслить свободно, во всю ширь разума.
Третьим утром от начала пути подсел Степан к Богуславу, имея вопрос.
– Ты, наверное, вполне и хороший человек, – обратился он к поляку, когда тот, пустив росу в глаза, кончил крестить грудь, – но правильно ли я узнал тебя под обросшей твоей мордой? Не ты ли заезжал как-то в Радостино, в церковь нашу беседовать с батюшкой? Не после твоего ли посещения у нашего священника лицо посерело, как от печали. Так вот не сволочь ли ты? Извини за любопытство.
– Помню, уважаемый пан, – ответил ксендз, – скрывать не собираюсь. Был в интересном вашем местечке, очень интересном. Я тогда и представить себе не мог, что в смиренную вашу глушь какая-то сволочь, когда-нибудь, пся крэв, вломится со своей классовой борьбой.
– Вломились, вломились. А ты сам тогда не вломился? Это теперь я тобой – сам сказал – уважаемый, когда в одном дерьме заседаем, а тогда ты, видать, по дороге сгубил уважение к нам. Ввалиться в храм божий во время службы, троих уланов с винтовками ввести, оборвать слово. Почему такое оскорбление?
Разговор шел на польском. Для всех присутствующих был он понятен, а польский священник, скажи ему кто раньше о нужде знать по-русски, оскорблен этим, быть может, был бы безмерно. Получив пять лет школы на языке Речи Посполитой, Иван, Степанов сын, беседу понимал без напряжения.
– Не моя, пан Степан, на то воля имелась, – с досадой в голосе сказал поляк. – Работа. Приказание. Долг, в конце концов. Не своеволие. Политика. В Польше где политика, там религия. Служение господу когда оборачивалось службе государству. Однако же и слово божье иногда ложилось поперек политической линии, мы могли говорить о всех несправедливостях властей, что не прибавляло аппетита уже гражданской власти. И на всякие уступки нам власть требовала уступок для себя.
– Умом да языком всякое дело, любую пакость не трудно обелить. Я, к примеру, твердо знаю, что чем умнее человек, тем для большего числа народу способен он подлость изобрести. Да еще сам рук марать не будет, вперед погонит целую рать бесчестных и слабых перед соблазном облегчить себе жизнь. Умно ты мне объясняешь, а дело в чем? Что за службу ты произвел, батюшку нашего вогнавши в хворобу, важную – я видел – при этом морду себе соблюдая? Как бы ты судил меня, если бы я так вломился в твой костёл?
– Справедлив твой гнев, пан Степан, понятна обида, – согласился ксенз. – Но иногда обстоятельства более властны над нами, чем наши желания. Не одну, видит всевышний, далеко не одну вашу церковь я посетил…
– За бесплатно? Во имя одной токмо веры? – миссионер, мать твою, непрошеный. Мы тебя звали? Мы вообще когда-нибудь что-нибудь у кого-нибудь просили, кроме оставить нас в покое?
– Пан Степан, позволь мне быть с тобой совершенно честным; не время и не место лукавить, понимаешь. И хотя обещано мне было управлять новым костелом в Лодзи, не именно это определило желание, с которым пришлось мне исполнить столь неприятную вашим приходам и, само собой, их священникам, миссию. Да, я доводил им приказ о ведении служб на польском языке, как никак прихожане церквей – подданные польского государства. В оправдание могу еще заметить, что заменить меня при несогласии было кем, я это понимал, как и то, что попаду в немилость. Помнил о семье. Никто не пожелает своим детям скудного быта и голодных глаз. Но любые бы соблазны отверг я, не чувствуя своей правоты…
– О матерь божья! В чем же правота? – не сдержавшись, перебил Степан. – Мало вам было? Ладно ребеночка, что от мамы русский язык принял и до семи лет только на нем говорил – в польскую школу отдай, ладно иди в ваше войско и забудь родной язык – так войско польским и зовется, терпимо; ладно всякие там бумаги государственные, справки-пиявки, тут вообще понятная штука, ладно книг на русском хрен сыщешь. Плохо, но не страшно. Так вот ведь что выдумали: родись от родителей и господа русским, а на тот свет отходи при молитве на польском, при молитве на том языке, каким создатель при рождении тебя вовсе и не наделял. Не грех ли? Никакое доброе сердце здесь не сдюжит. И, если я правильно знаю, в пребывание ваше под царевой властью мы вашим священникам никаких указов о переводе службы на русский не сочиняли, не трогали святого. То была большая ошибка от вас и ненужное для нас огорчение.
– То была еще и политика, пан Соловейка.
– Для убиения души, пан Богуслав!
– Всякому взгляду – свое сказание. Я бы на твоем месте, вполне возможно, думал бы не иначе. Но о какой политике можно было знать тебе вдали от нее, одни леса и болота наблюдая, только слухи о творящемся в мире имея? Вижу перед собой доброго и умного человека, таким охотнее и быстрее достаются горести мира. Вместе с твоими мои слезы, с горем тебе и мне горе. Поверь и радости моего сердца, если наблюдал я улучшения в жизни людской, что касалось и всех белорусов, а значит, и тебя. Ты можешь сказать, что это только мое мнение, а у политиков наших на уме было одно насилие. Смотрю с твоей стороны: да, понуждение говорить на чужом языке есть путь ассимиляции, унижение достоинства нации, небрежение ее желаниями инородной властью. Здесь сам по себе любопытен протест твоего народа, давно и вполне добровольно связанного с Россией до той степени родства, что и говорите вы по-русски, и называете себя русскими.
– Большая разница, по доброй воле делает это человек или когда его заставляют, – заметил Степан. – Насильно мил не будешь. Есть такая поговорка.
– И здесь я тебя понимаю. Но, думаю, тебе будет интересно взглянуть на все это глазами тех самых политиков, а мысли их мне в достаточной степени были известны, верь, ибо меня им пришлось много убеждать в целесообразности вторжения со своим уставом в церковную жизнь Малой и Белой Польши. Обрати внимание, что именно Польши, то есть власть считала вас своими. Без лукавства Варшава желала видеть белорусов и украинцев частью общей и дружной семьи, желала всем сердцем свои новые земли иметь лояльными к ней. Но главный фокус состоял в том, каким образом нам, получающим верную информацию, в какую бездну безбожия погрузилась Россия, понимающим коммунизм сокрытым в нарядных одеждах мёртвым идолом, уберечь многострадальный народ от тех, кто обещает свет, но творит тьму. Ибо нет горше плодов разочарования, красивых таких яблочек, румяных, внутри которых яд, впрыснутый лжецом. Кушай, человек, наслаждайся красотой!
– Ты хочешь сказать, что ваши политики света нам не обещали, но и травить не собирались? – спросил Степан.
– Не собирались! Податков вы не платили никаких! Несмотря на порой бытовавшую средь людей надменность, – я знаю, знаю, иные называли вас не иначе, как «быдло з-за Буга», – власть понимала, что обманом не подружить народы. Наоборот, возникла потребность бороться с насаждаемой Советами через агентуру сатанински циничной пропагандой своего мира якобы свободы, равенства и братства. Теперь ты видишь, какую они принесли свободу, а тогда, тогда все, что мы писали в своих газетах об истинных их целях, с пользой использовалось вами разве в сортире.
– Твоя правда здесь. Не было веры ни власти вашей, ни газеткам, хотя они и редко к нам доходили. Все больше слухами питались и, знаешь, по ним выходило, что на востоке сказка деется, а мы под гнетом квасимся. Но по части колхозов в нашей, например, деревне было большое недоумение, какую такую они свободу предоставляют, с полным переживанием, что это вроде нового крепостного права, в коем и прадеды-то наши отродясь не живали. Правда, в других селах сомневались, вдруг нет в том большого зла, но по большей части люди ленивые или кто в долгах, как в шелках. Хорошо, говорили, трактором землю пахать.
– А о тех жалели? кто за этот трактор скотины своей лишится, свою единственную корову в общее стадо ввергнет, с родимым домом разлучит несчастную и станет ждать, когда она там подохнет от недоедания, потому как командовать хозяйством станет какой-нибудь вечно пьяный бывший слесарь с револьвером. А чтобы тому самому трактору было где развернуться, землю у тебя оттяпают по самое крылечко. О молочке от своей коровки детки твои будут обязаны забыть, жалеть по ней означит враждебный новому счастью частнособственнический инстинкт, и коли заплачешь ты – по тебе заплачет тюрьма. Ночью можешь скрежетать зубами, днем обязан быть голодным, но выглядеть счастливым. Такая перспектива.
– Да это почти конец света, – согласился Степан. – Страх один и подумать, что люди с людьми могут творить. Вправду, выходит, нет зверя страшней, нежели человек.
– Иногда лучше понять позже, чем никогда. Увидеть яму прежде, чем упасть в нее. Пусть у края, но открыть глаза. В твоем случае, пан белорус, это случилось, когда ты уже летишь вниз и не знаешь даже, сколь далеко тебе до дна и не станешь ли мокрой лепешкой там. Ладно бы один. Так ведь семью прихватил. Подтирал, говоришь, нашими газетками задницу? Мы тебе там о терроре болыневичков, об арестах и расстрелах, даже детей, ангелов божьих, а ты? Мы о взорванных церквях, о тюрьмах в прежде монастырях, казнях священников, а ты? Мы о насилии над крестьянами, коллективизации, высылках сотен тысяч семей в Сибирь на погибель, об организации голодоморов для насаждения колхозов средь пустынь рукотворных, а ты? Все с дерьмом смешал? Брешут поляки, что последние твари! Врут, пся крэв! Так было, пан Степан?
– Ох, пане Богуслав. Нет ума – считай калека.
– Значит, не напрасно мы думали, что свела вас с ума сладкая ложь, пытались образумить, как детей малых. От нелюбви ли? – сам подумай. От нелюбви ли родитель охраняет дитя свое от заблуждений, иногда наказуя больно. Угнетает при том отец своего сына, или должен сын уважение к отцу хранить и любить его? Что о сем в заветах пророков, брат мой, не забыл ли?
– Эвон ты как повернул. Даже сообразить трудно. Вы нас, значит, как бы под оккупацией содержите, а мы вас за это почитай, ровно родителей? Что-то в уме не помещается, – искренне удивился Степан. – Даже сейчас, когда мне добавляется к разуму.
– Руки отбили от дела, – голова стала иметь час думать. Так бывает, особенно с людьми, уткнувшимися в соху. Так бывает. Так устроена жизнь.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































