Читать книгу "Война и воля"
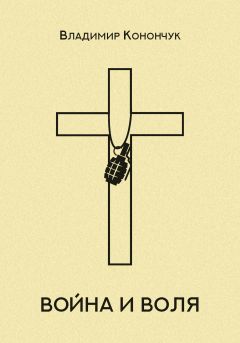
Автор книги: Владимир Конончук
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
10
Кратким сроком позже, аккурат на сердцевину месяца марта семнадцатого – в напоминание – года, выпало на село наше Радостино, будто снег на летнюю голову, пребольшое удивление.
Дезертирство.
В образе Егора Воронца.
Великий пост имел место в полном соблюдении своем, потому в табачном дыму посиделок наблюдалось смирение и некая торжествующая грусть. Много молчали.
Так вот, когда отворилась дверь, и в хату сперва шмыгнул воронцовский постреленок Гришка, затем осветлила стены сиянием глаз мама его Марина и, наконец, в пропахшей сыростью или смертью рваной шинельке ввалился сам глава семейства Егор, произвелось такое бурное оживление, будто кто из гроба восстал. Сам виновник при том вроде как был застенчив, уж больно долго очи свои с пола на народ переводил, ровно украл что-то и покаяться норовил.
Покинув позицию под Пинском вьюжной ночью, он ушел в безлюдье родимых болот с трёхлинейкой и котомкой сухарей, минуя позиции немца по оледеневшей после дневного таянья корке снежного наста. Дойти или подохнуть. В понимании подохнуть, но дойти! С вариацией мысли попутно: дойти, жинку с дитём поцеловать – и славным образом на земле родимой помереть. Попутная мысль теперь считалась Егором стыдной и не сказывалась супруге: как же, выдумал явиться, чтобы очень огорчить. Самое смешное, что так едва не случилось. Хорошо, разбудило что-то жену, толкнуло за порог выйти, чему потом она изумлялась.
Пока подымал Егор очи с пола, светлая личностью Марина радостно объявляла, что нашла мужа улегшимся подле крылечка без соображения и сил, но, дурня, с винтовкой. На винтовку и клался грех нехватки мужних сил в дверь стукнуть. Три дня уже минуло, но ведь был человек в большой неопрятности, нужда имелась в изведении с него грязи и насекомых, – очень они его кушали. Словом, вшей прогнала, вернула память, и вот мы вам рады.
Тут слово забрал Егор.
– Не хило жили, тыловики – половики, – странным манером и хриплым голосом поздоровался он и низко поклонился, снявши из кролика шапку, да так в поклоне и оставшись.
То ли онемели земляки лишку, то ли поперед старшего говорить не велели себе, но в ответ получилось молчание. Все только в сторону деда Макара внимательно засмотрелись.
– И тебе здравия, Егорушка, – нарушил тишину ветеран Шипки. – Мы, оно, конечно, грех жалиться, может, и не дурно, слава отцу небесному, живем пока. Пока… значит… и вроде как душ своих под ноги не роняем. Рады за живого тебя, конечно. Но чтоб из наших кто с фронту драпанул, отродясь не упомню. Шутка ли – честь засунуть в жопу. Кто Россию сбережёт, Егорий, коли солдат об одной своей шкуре думать станет? Так что к батюшке с покаянием пойди, человек, прав ты иль неправ, а нашему вот удивлению удружи, по какому такому соблазну клятву преступил?
Надо упомянуть, что повёл Егор ответ, перемежая фразы такой не принятой в Пост матерной грубостью, что узнать в нем прежнего, хорошо воспитанного юношу, было почти нельзя. Видать, окопная вошь своё дело знала туго и до того изъела мужику нервы, что они ходуном ходили по его истощавшему телу, тряся руки и судорогой сводя уста, отчего говорил он рвано, будто выталкивая из горла застревающие куски речи.
– По гроб земли. Задолбло. Не жисть. Без мечтательной перспективы. Берлин повидать. Хотелка. Сдохла. Целиком сдохла. Анархия в душу, змея, влезла.
– У-у-у-у, – выдохнули слушатели.
– Слово по окопам пошло. Измена в державе, полный блуд. Одни одно болтают, другие другое, третьи всех шлют на три буквицы. Была армия, стало стадо. Пастухов много, и каждый, знамо, на свой выгон гнать норовит. Не война, одна пропаганда. Слыхали такое слово? Раньше трепачами кто звался, стали пропагандистами. Мутят людям головы. Особенные до такого дошли, что бога, говорят, нету, врут о нём попы лукавые.
– Да ты что ты говоришь? – загудели старики. – Брешешь, небось, в оправданку.
Закачал головой Егор, с укоризной на земляков посмотрел, пропустил через забитый окопной мерзостью речепровод парочку густых матерщин для прочистки хода доброму слову, тогда как супруга Марина пальцами ласково бегала по его свежеостриженной голове в поисках затаившейся там, быть вероятно, наипоследней вши.
И что вы себе думаете? – сыскала! Может, от этого подобрел мужик, может, по другой причине, но ухмыльнулся, хмыкнул и большую иронию себе позволил:
– Да, мужики, по маковку вас засыпало снегом. Всю зиму в нетронутости поживали? Хорошо-о. Спасителя славили правильно? О-очень хорошо. Грехов избегали? Святых почитали? В радостном смирении крест свой несли? Ай да милые вы мои! А вот батьку нашего царя Николая Романова добрым словом поминали?
– Как же! Долгая лета. Всенепременно. Уповали на заступника.
– Доуповались, мать вашу!
– Ну-у-у? – застонали вопросом мужики. – Не томи, Христа ради, ирод.
– Скинули! Сам три дня не верил. Скинули батьку. Посреди войны. Полная измена. В самом Петербурге. Кому солдат клятву давал? Царю и Отечеству! Кто смуту в Отечестве учинил и царя сверг? Неужели не вороги поганые! Потому как насрать им на Россию и мечту народную. Власть их прельщает, золото глазюки им застит, антихрист гуляет по их душу. Так то мы в окопах рассуждать понеслись. Победил нас германец, братцы, с тылу зашел, через погань всякую. Без царя мы теперь, значит, без головы. Или о многих головах, что змей-Горыныч. Каждая теперь свою думу думает, в разную сторону смотрит, но при том считает, что только она главная и ногам велит только её и слушаться. Вот солдаты и оказались в полной раскоряке, в башках не соображение, а звон один, ноги полную над поступком получили власть и погнали служивых кого куда. Армии – хана.
– А кто с немцем воевать будет? Таки присягу никто не отменял, – не унимались деды. – Мы что, теперь называйся Германией на века веков? Нехорошо получается. Стыдно.
– Сам понимаю. Но слушайте дальше.
– Послушаем, – выразил согласие дед Макар. – А ты к нам садись, дезертир, где в ногах правда? Картошку бери, грибков. Капустки покушай, польза в ней большая. Марфа наквасила. Соли в ней чуть, но клюквы богато, свежа с мороза. Кушай, что бог послал. Дома ты, парень. Поправляйся. А мы послушаем, нам интересно.
– В общем, об измене прознали мы, но сначала сомневаемся, что делать, – продолжил Егор, налегая на постную еду. – Германец стрелять не хочет, да и нам особо нечем. Соблюдаем дисциплину и ждем, что дальше будет. А дальше, отцы, вышел бардак. Каким-то днем приказали нам из окопов вон и в тылу, на поляне, построили. И вышел на глаза пехоте какой-то штабной фрукт зеленый в чистых сапогах и говорит, что никакой измены в Питере ни за что нет и что царя Николая нашего никто не скидывал, он самостоятельно по своей воле с престола слез, и от заботы за Россию. За дурней нас посчитал, козлина. В жизни не бывало, чтоб русский царь Отечество бросал на произвол. Меж собой о том тихо пошептались, но безобидно слушаем. А тот слегка сбренди и ну поздравлять нас, что мы теперь народ свободный, тирании (слыхали такое словцо, деды?) пришел пипец и настала власть выбора, то есть детократия. Тоже новое слово, но что означает, сказать не просите. Бардак, каким его словом не обзывай, порядком не станет.
– Правильно, Егорий, – одобрил один из стариков. – Скажу больше. В каком государстве беспорядку сверх меры, там и краснобайства жуть. Чтоб, значит, людям замазать видение, чтоб они глазам своим не верили, разумом смущались, а только слово слушали. Когда черное долго обзывать и обзывать белым, то поверишь, поверишь… Легко человека на вере поймать, особо неграмотного.
– Не на тех напал! Мы от окопных вшей немало мудрости взяли. Дури тоже, конечно, никак не меньше. Однако, братцы мои, такое времечко подступило, что нынче кто умный, завтра в дураках окажется, а кто по-нашему дурак навек, завтра мозги нам вправлять начнет.
– Ишь как?! Бирюк о том бормочет. Теперь ты. Неспроста. Но нам таки интересно, почему фронт бросил.
– Да здравствует свобода! Так нам фрукт сказал. Выдохните – я запомнил – затхлый душок прогнившей монархии и вдыхайте чистый воздух будущей счастливой жизни, какую обещает вам новое правительство России. «Ура», – сказал фрукт. Хлопцы поняли не очень, особенно кому это «ура» на хрен надо, и давай на чистые сапоги кричать, о чем вообще беседа и когда по причине свободы по домам пойдем, надоело воевать-голодовать. А коль уже батьки царя над нашей душой нет, то теперь мы не царская армия, а как бы и ничья, как бы совсем вольная на четыре стороны. Нет, нет, нет, возражает фрукт, рано на покой, врагов кругом, что грязи. Он, ясен день, чуднее говорил, но я своими словами передаю для общего разумения. Красиво, сволочь, беседовал, так что мало чего я понял. А в конце вдруг взял да и призвал присягнуть новой власти. Присягу батьке царю, объясняю вам, похерить, а тем козлам, кто его скинул, отныне честь отдавать. Такой вот вышел поворот, земляки мои родные. Пехота после этого поворота дорогу видеть перестала и при большой обиде съехала с катушек. Мы тебе что, – закричала, – сучки панельные без чести и радости? Мы что, ложись под кого незнамо? Кто-то аж заплакал, общее настроение стало злым, будто всех удобрили из одной большой задницы. Порешили измене не присягать.
– Вполне правильно, – сказали старики. – Если одному присягай сюда, другому присягай туда, а третий приедет – и тому угоди, что ж это получится? Не солдат получится, а полная сволочь. Хуже плохой собаки, потому как добрая собака с хозяином норовит могилу разделить. Верность потерять, как душу потерять. Зело грешно.
– Случился дальше общий шум, ругань и конец порядка. Потом и вовсе ужас: один солдатик, малышок совсем, с трехлинейку росточком, учудил. Меткий оказался, в лоб запулил несчастному офицерику. А в чем тот провинился? Приказ исполнял, бедняга. И вот упал мертвый, сапоги запачкал. Мамка теперь по нём плачет, жинка черный платок не снимает. Горе. Не от германца получил, от своего русского брата. Не шуточки. Все аж оторопели. А стрелок наш смеётся, бес в его глазах прыгает. Посмеялся, посмеялся и заревел, что дитя. Умом тронулся, ясен чёрт. Одна жалость и вышла… Кто-то штычком ему кишки проткнул от сочувствия…
Ошарашенная, откуда-то сверху, из бездонного безмолвия высот – в освещаемое скудным светом коптящей лучины крохотное пространство избы рухнула и придавила обитателей всей своей массой могильная тишина. Треск пламени долго был единственным здесь звуком, затем возник шепот молитвы и шорох одежд, вызванный движениями рук: все трижды перекрестились.
– Каково вам, отцы? – тихо спросил дезертир.
– Нам то что? – вразнобой отвечали ему. – Нам помирать скоро. А каково молодым вперёд смотреть, коли в отечестве братоубийство началось? Забыли, для чего на свете живём, всё святое к дерьму прислонили. Этак германец Россию съест, или ещё какой супостат, пока мы друг дружке морды мутузим.
– Кайзера, доложу я вам, мало опасаться надо. Как токмо в Питере измена к власти пришла, так немец по нам ни одного снаряда не запустил. Мы это тоже приметили.
Рассудили старые, что времена впереди грозят быть мутными, желания людские непонятными, а коли начнет каждый свою правду штыком доказывать, никакой и нигде правды не настанет. От такой перспективы вполне оправданно дать дёру, дабы в грех не впасть. За большой плюс посчитали иметь на селе справного мужика с винтовкой на плохой случай.
Почём завтра будет жизнь человечья, размышлять не решились.
Пост.
11
Отец
– Хочу попросить прощения твоего, сынок. Неудобно сказать, но что-то сильно я мучаюсь. Нисколечко за себя. Вырастешь мужиком, поймешь, каково это – горе детей твоих. Будто вся жизнь – ни для чего. Такая вот тоска. За вас, деток моих любимых, за мамку вашу. С радостью бы умер, чтоб только слезы ваши навек сгинули. Каюсь, вдруг вина моя в том. Дашеньке, как вырастет, известишь мою вину перед ней, пока же она маленькая, не поймет. Не доживу если, передай ей мои слезы и просьбу простить отца. (Здесь отец, подле Ивана присевший на нары, уткнул локти в коленки, широкими ладонями закрыл лицо и на какое-то время смолк).
Ты у меня уже самостоятельный. К добру ли только совпало, что лет тебе столько, сколько мне стукнуло, когда дедушка твой, мой то есть родитель, сгинул от немца? Один я мужичок в семье остался; справился. Так справился, что в этот вонючий вагон вместе с вами попал. Прости меня, сынок… Не-не, не успокаивай батьку, слушай меня и в память клади. Все ли ты понял от пана Богуслава? Слушал прилежно, как я наблюдал. Знаешь теперь, что нам может быть уготовано? Все, что им угодно, а нам и в страшном сне не виделось. До этой беседы не ведал я, в чем виноватый, за что же такое мучают нас здесь, а теперь вот боюся, что по причине моего понимания правильной жизни, что в труде и совести она. Знал бы, где упаду, – подстелил бы. Знал бы, что придет и по нашу долю такая вот собачья власть – не рвал бы жилы, парил жопу на печи, гнал самогон и махорку сеял, тебя к труду с малых лет не звал. Сам ведь все помнишь, много ли тебе, сынок, доставалось времени на забавы. Виноват, – не понимал по другому. Если по другому – думал – пойдут мои дети с сумой по миру, а за ними и дети моих детей, голы-босы, в мешках вместо рубах, с тремя дырками – для рук и головы. Случалось мне такое видеть. Ну да не мне судить, где я грешил… Неисповедимы пути твои.
… Не допускал и думать, что уж таить, чтобы росли мои дети босяками и грели свои ноги по холодной росе в лепехах коровьих, подобно как их родителю доводилось. Бывало, подойдет колейка нашей семье пасти, а вот осень на дворе, по инею порой выступаем, а с обувкой – одно расстройство. Лапти на носок вязаный натянуть – недолга радость, скоро одна на ногах вода, таскать ее потом до вечера ужас как зябко. Сапоги? Снились. Вообрази только: твой папа в четырнадцать уже лет, мужик уже почти, сапоги во сне обувает и радуется, радуется, ровно дите забавке. Вот просыпаюсь, а сапог нет как нет; морда на мне тут же хмурая, и мама, бабушка твоя, покойница, очень удивляется: «Степушка, – говорит мне, – ты так хорошенько во сне смеялся, уж я за тебя такая была довольная, а встал – запечалился». А че ей ответить? Не огорчать же. Вот босой иду коров пасти, а ноги коченеют, не приведи господь. Дожидаюсь. Где какая коровка лепеху на травке изобразит, я уж там, двумя ногами забираюсь, – хорошо, твою ж мать, душевно. Стою, значит, греюсь и наблюдаю, не подняла ли где другая скотина хвост для нового сугрева, потому как остуда приходила быстро; пасут у нас, сам знаешь, до морозов. Вот уже скоро сорок мне, а из детства одну работу и помню, а еще то, что неразрывно по малолетству решал, какая пора года мне больше по душе, в какую, то есть, живется мне легче. Думал и так и этак, просто измучился. И что? Да не сыскал я такой поры, хоть ты тресни, не обнаружил. Не придумано для меня. В зиму скука. Валенки – по очереди. Сестер как обидеть? С весны работа сплошняком. Очень учиться любил, потому еще, что отдыхал в школе от земли, от скотины, ну да сам знаешь, сколько дел по хозяйству. Вкалываю каждый день и говорю себе: уж все сделаю, чтобы дети мои на себе не пахали, мордой в грязь рухну, но детей выучу не в четырех классах при церкви, на город отправлю, даст бог, науки получать и важные профессии. Еще не поженившись, о таком думал, скажу я тебе. Оттого, кажется, что и себя таки жалел, без выхода себя чувствовал, но терпел и радовался тому, что так нужен маме и сестрам, любят они меня со страшной силой, не зазря, значит, на свет прибыл.
Ты вот родился, – опять одна радость. Улыбаешься когда, мне тепло на душу льется, сердцу хорошо, сил прибывает. Андрейку вот, братика твоего, не выходили, сильно простудился. Он только ходить стал. Больно стали мы радоваться и с дурных-то голов дали хлопчику по полу побегать, уж очень рвался. А зима! Пол глиняный! А мы придурки.
… Схоронили. Помнишь братика? Помнишь? – до церкви на телеге гробик везли, ты сзади сидел, все смотрел на Андрейку. Три годика в тебе было… И ладно, что помнишь, и хорошо. Память к душе прилепляется. Увеличивает. Если не злая. На теле вот память не остается, ну если шрам какой только. Вот вспомню для тебя: маленький когда я был, часто мы с отцом дрова пилили, лет с моих семи, пожалуй. А кто еще ему поможет? Взялись однажды, и пилим, пилим… Скоренько уж и приустал я, маленький, а не сдаюсь. За ручку пилы своими двумя ухватился, плавно к себе повести силенок-то уж и нет. Батя к себе легонько ведет, а я рывком, значит, из последних, считай, усилий. Тот улыбается, мужика во мне воспитывает, как сейчас понимаю, ждет, когда выдохнусь. А я упираюсь, не хочу сломаться, что пацан худосочный, злостью себе помогаю, рву на себя пилу; рву, будто помру, если остановлюсь; пот глаза выжигает – руку не могу отнять, чтоб смахнуть. А он со лба прямо льет горько. Улыбается батька, смотрит, какой я мужик. И вот себе представь, вдруг решил бревнышко поправить или что еще, да и отпустил пилу, руку снял молчком. Я не то, что это, я уж света белого не видел, глаза от нетерпения давно зажмурил и обыкновенно рванул пилу на себя. Та, ясный образ, из бревна выскочила, а я на спину валюсь и ее за собой тащу. На батьку при том смотрю и вижу у него в глазах натуральный ужас. Упал я на землю, пила на меня сверху, и как укусит зубами в ногу правую! А еще, воткнувшись, плашмя упала, когда я от боли ручку-то отпустил, для полнейшего моего удовольствия кожу с мясом вывернула наружу. Больно, твою ж мать! Но вот что я скажу тебе, сынок. Когда вспоминаю тот случай, то вся эта боль в памяти моей полнейшим пустяком отложилась, уж и совсем той боли не вспомню, даже на шрамы глядя, а вот то, какое за меня переживание у папы случилось, каким на лицо его взошел страх, забыть не получается. Так думаю: зубья пилы той мне только в тело вошли, а жалость отцова, боль его за меня, а, значит, любовь ко мне – прямиком в душу. Так сильно я это событие запомнил, что с тобой дрова-то пилил очень внимательно, не отпускал пилы, научен. Но главное, понял с тех малых лет, что тело, Иван, не хранит боли. Поранится, заживит рану, успокоится и забудет. Душа, душа рану возьмет и носит, ровно груз. Не обижай никого напрасно, просьба у меня к тебе. Не тяжели душу.
Болит сердце. Никогда не было хуже, даже когда деда твоего не стало, вечная ему память. Спокойно все на себя я взвалил. Первой же зимой, помню, корову мы съели – не ходит беда одинокой. От грусти по хозяину, вдруг вот так я подумал невесть почему. Доилась, доилась – и… батька убитый, мама в переживании, корова – без молока. Одномоментно. А как жить? Без молока сильно трудно. Вот здесь приходит к нам Настя Шевчук, – помнишь тетю Настю? – мужик на войне, двое деток малых; просит помощи и телочку обещает, иначе не совладает с хозяйством, мочи нет больше. Разорвался я на две семьи и – от петухов до петухов, с посева до урожая. Помог я тетке. Она нам помогла. Так и жили. Из телочки коровка вышла добрая. Ты застал ее молочко, лет до трех твоих жила она у нас, Рябухой звали. Потомство давала, – растили бережливо. И когда призвали меня на службу, до польского войска, пошел я исполнить закон с легкой душой: семья, считай, о двух теперь коровах и телке, пять свинтусов исправно хрюкают, куры-гуси ходят-бродят, мясо нагуливают, индюки песни поют. Трудно ежели будет по хозяйству, говорю я маме и сестрам, наймите кого-нибудь в помощь, телочку обещайте взамен, и себе и человеку хорошо сделаете. А хоть бы из другого села, тоже годится, мир не без добрых. В письмах извещали, что порядок дома, потому служить было легко. В уланах я состоял, в красивой форме, в сапогах на завязках, при кормежке дармовой. Отдохнул слегка, поправился. Малость мир повидал. Варшаву, Люблин, наш Брест, Белосток. В городах, ясное дело, народу поболе, водку пить стараются в кабаках, при музыке и певичках, с танцами, – любят люди в городах веселье, как бы меньше у них вопросов к этой жизни, заботы как бы попроще. В армии первую с меня большую фотографию сделали. Польский вояка в польской столице, ядрена вошь, – ну красиво. В общем, врать не буду, мне в ихней армии понравилось, но класть свою жизнь за дело их великой Польши хотения особого не получил. В случае чего из меня вышел бы хороший, обученный стрелять и всячески маскироваться дезертир. Ребята они неплохие, но есть у них к нам гонор, будто мы слегка похуже, от другого, что ли, создателя. По мне же почти такие, как мы: крепко работают, потом крепко выпить могут; если вдруг задаром, – так и вовсе до отказу организма. Обычные люди. Один, видать, шибко умный, обозвал меня как-то «быдлом». Не могу сказать, что я обиделся, но в морду пану стукнул хорошо, от души. Наверное, помнит свою оплошку. Сил у меня и сейчас запас есть, но в этом вагоне, в этой стране, где нас, сынок, совсем не на словах сделали быдлом, чувствую такую свою ненадобность, что просыпаться горько…
Вот пришел домой, на мамке твоей женился, тебя родили, новый дом поставили, лошадь купили. Наладилась жизнь потихоньку, в наймы нужды идти не стало, хватало на себя работы. Спасибо польской власти, – дорогу к нам отсыпали, мостик через гиблое болото соорудили. Народ продукцию смог на базар исправно возить, деньги в ход пошли на городские товары. Опять ежели кто просился тебе помочь, то за злотые. Удобнее стало. А ведь был момент, под немцами когда пребывали, боялись люди деньги в руки брать. Вдруг завтра в другой стране проснемся, куда девать бумажки будем, а? Не пожуешь ведь, не убаюкаешь голод.
Земли добавил. Смотрели за этим теперь построже, податков добавили, но не скажу, что в невозможность. Справлялись. Нужды править лень особой не было, но людям не отказывал, кто помочь хотел; все честь по чести – главное тому место за столом, лучший кусок мяса, первому – тарелку борща, стакан на сон – до краев обязательно. Обижать работника – большой грех. Два раза ко мне просились, как не помочь в нужде. Очень были благодарны, за деток своих говорили спасибо. А и как не понять – сам вчера иным ли был? Так что не чувствую я к себе плохую память.
Никому, сын, слова плохого не сказал, – да услышит мои слова Отец небесный, – избегал греха, как мог; лишнего выпить не позволял себе. И почто я дурнем не родился али пьяницей горьким не стал?! Получается, что работал, пахал всю жизнь ровно конь, а стал по этой причине злодеем и по всему моему семейству очень тоскует Сибирь, если не вовсе пустыня Каракумы.
Никак от вопроса не избавлюсь: что за власть к нам пришла от имени трудящихся, каковой эти самые трудящиеся на хрен не нужны? Она лентяя и лгуна возводит на престол, а честный труженик ей годится только как раб. Сначала она обзывает поляков, при которых мы спокойно и честно кормили свои семьи, угнетателями; рисует картинки своего рая, потом объявляет себя долгожданной освободительницей и… делает рабов из поверивших ей. Сынок, коли дадут нам выжить, никогда, ни за что не верь словам этих безбожников. Никогда и ни за что! То воры! Если от чего они нас и освободили, так только от нажитого праведным трудом. Воры! Они, чтобы в дом твой войти, любое обличье примут, любые тебе слова скажут, до всех твоих добрых чувств доберутся, сердце и душу твою изранят сочувствием к ним, только чтобы грабить твой дом, даже запросто убивать тебя, если вдруг пойдешь супротив их дела. А дело их страшно людям, дело их сатанинское и без веры божьей противостоять ему нельзя. Одну свободу мы от них получили – свободу выбрать смерть вместо жизни.
Что поют, слышал? «Смело мы в бой пойдем за власть советов и как один умрем…» Лихо. Это же кем надо быть, чтобы такое вот сочинить?! Это же какая сволочь при белых ручках и ясно сытой харе дала себе право призвать других помереть?! И за какую такую истину? Ты думаешь, этот гад сам пойдет на смерть? Не идиот он, совсем не идиот. Он других норовит соблазнить жар загребать голыми руками, он других хочет видеть идиотами, он мечтает, чтобы мы с радостью и бегом – бегом спешили в первых рядах поднести свое сердце острому ножу во имя солнечного сияния его жала. Подобно скоту. Ужас в том, что те, кто сочинил нам эту песню, себя к стаду не причислят ни в жизнь, ибо как они тогда порадуются нашей смерти? Наша смерть во имя их власти для них ничего, кроме счастья, и не означает. Наша погибель во имя продолжения их воровского промысла есть залог их существования, потому велят они отнять нами взращенный с сосочки скот, наши построенные горбом и здоровьем дома, сгребают в свои сусеки наших трудов урожай, сытостью переполняют животы своих деток и лакеев, и снова и снова воюют наше доверие своими словами, завтра суля и нам скорое благо, но завтра, снова завтра и опять завтра. А пока мрите за нашу власть и в мечте о том завтра пребывайте.
Грешно иль нет, не знаю, но возьму и думаю: а не поделом ли? Соблазнился таки народ, пускай далеко не весь, антихристу в семнадцатом году, не распознал греха в елейных словах, поддался разобщению и братоубийству, а кто и радостно примкнул к ворам, поставив хлеб выше чести, тело выше души, себя выше Бога. Это трагедия! И мы, сыне, в пасти этой трагедии.
… Больше тебе скажу. Эта власть будет стоять, пока будет способна снова и снова обмануть, и она это знает. Как и то, что привязала обманутых к своим грехам жертвоприношениями антихристу своему. А иначе для чего царя казнили? С детишками и слугами, равно в фараоновы времена, будто Христос и не являлся им, и себе сами они закон и суд.
Главное же коварство устремят они через слово. Позавчера они называли себя социалистами – демократами, вчера – большевиками, сегодня прозываются коммунистами, завтра назовут себя какими-нибудь светлопразничными, потом, коли понадобится для обмана, даже родителями истин, но суть их замысла останется одна: украсть наши души, дабы украсть плоды трудов наших.
Всякий раз, называя себя по-новому, будут неистово хаять дела предшественников своих, обвинять тех во всех прежних народных страданиях, иногда для правдоподобия приносить их в жертву, памятники рушить, вещать, что уж этого никогда не повторится, уж они непременно приведут нас в земной рай, и – опять и опять творить грех.
И уверовавший им народ предстанет обольщенным, тьмой этих словес заслоненным от святых слов писания, и вновь, отторгая заветы Христовы, не станет судить их по плодам их и, слепой разумом, даст украсть свою душу.
И опять будет населена самая богатая страна самыми бедными людьми.
Ибо не стало – так думаю – над ней заступничества отца небесного, прямого его вмешательства в защиту народа на все тринадцать колен от часа убиения наместника его здесь, в государстве нашем; по справедливости своей подверг отче испытанию страну людей, попустивших этот страшный грех.
Страшным испытанием станет оборонить чистоту души своей внутри соблазненного мира, и нет ничего страшнее, чем предстать пред судом отчим продавшим душу. За тридцать три серебряника.
Помни, сын, – смерть сердца не есть конец человека…
По правде признаюсь, – только здесь, среди беды, добрался я до таких раздумий. И хорошо! Понимаю теперь, отчего святые люди затворничества искали и шли навстречу мукам. На кого еще уповать в печали, как не на всевышнего, с кем одинокому беседовать и светом бесед этих полнить разум?
Так те люди сами для себя искали тягот жизни! А нам и искать не пришлось, нас в мученики определили. Так неужели нет в этом смысла? Вдруг то испытание нам? Выдержим ли? Сохраним ли чистыми свои души в голоде и холоде? Останемся ли светом во мраке несправедливости? Достойны ли спасения?
…А эти? Поводыри-лгунишки. Заслуживают ли они нашей ненависти, коли, бедные, сами хотят в ад? А палачи и слуги их могут ли вызвать нашей обиды, коли сами несчастней нас стократ, ибо лишены разума подозревать о справедливости Создателя. Ровно животные. Оттого и есть к ним одна жалость. Потому, сынок, ко всякому гадкому тебе человеку имей сострадание. Ведь не обижаемся мы на пса, попусту лающего на нас. А на змею, смертельно ужалившую тебя, разве можешь ты обидеться? Как обижаться на тварь, лишенную разума? Чем она может понять твою обиду?
А человека, вдруг обращенного волком кровожадным, можно ли ненавидеть, если уже и не человек он? Никак нельзя. Но превратится в людоеда – убивать! Убивать без обиды и ненависти, жалея, что обратился несчастный в зверя. Разве грех изничтожить зверя, нападающего на человека во имя пропитания своего? Если не вставать поперек его пути, одно зверье на земле и останется. Как на войне. Или ты его, или он тебя. Прости меня, боже, если вдруг не прав я, но людоед в человечьем обличье не твой уже сын, но дьявола, он теперь воин врага твоего. А мы – твои! И пусть будет война меж нами, и это будет война за тебя. Так думаю.
Потому что подставлял я уже другую щеку, когда по одной меня били, я просил о справедливости, забирайте скотину, говорил я, забирайте дом, убивайте меня, но не трогайте семью, не лишайте детей родины. Ну и что? Так будь свидетелем, отче, что прошу я прощения у сына и за то, что имел эту слабость.









































