Текст книги "Война и воля"
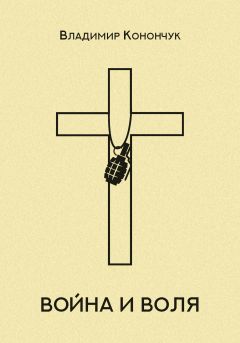
Автор книги: Владимир Конончук
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
13
Никто, никто теперь не скажет и память не отдаст, каким таким боком, дорогой ли, небом пришла в Радостины весть о той всемирной революции, какая началась в Питере-городе и, мужики да бабы сердешные, скорым образом пред наши дворы заявится, красивая, чай.
Запоздала весть на полгода; после зимы, затворившей от мира деревню высокими снегами, явилась с весенним половодьем, от какого всегда то урожай высокий по осени, то срыв посева по причине непросохшей земли получался. Выходило или будущее в довольстве, или довольствование, чем Бог даст, – в сравнении с судьбоносной распутицей какой-то там переворот в столице слабо дышал поначалу. Рассвет и закат наблюдался одинаково и почтительно.
Но тут сквозь испарившийся фронт войны прорвался слух о большевиках, какие замирение с германцем вымудрили, измену союзникам учинили непосредственно рядом, в Брест-Литовске, и что Польша в Россию теперь вхождения знать не желает. То, что Россия землю отдавала в таком беспощадном количестве, не случалось отродясь, потому за Россию сельчане чуток обиделись, но недоумённо. Сошлись на том, что это хитрый ход, потому как шахматы уважали вечерами, и что такое вроде бы в поддавки сыграть, а потом мат врезать, понимали.
Приседали вечерами округ стола ожидать наступления новой жизни для угнетённых масс, тезис об этом деле совместно с самокрутками мусоля и так и этак. До мозгов доходило, ровно дымком хренового самосада, – слабо. Чуток за всех несчастных воодушевились надеждой. Иные, спеша, увидали себя в угнетённом обличии и замечтали поменять долю на счастье, но угнетателя, от коего надлежало по такому случаю резко избавиться, близко себя не сыскали, Обещание крестьянам земли не приободрило: этого добра у радостинцев хоть обожрись! – где рук-то набраться? Фабрики, что рабочим обещались, никаким крылом мужиков не касались, ни радостным, ни грустным, – нехай достаются, кому оно надо.
И так судили, и этак рядили, а вывод, чем таки смогёт облегчить их дела народный вождь Ленин, коли, собака, не брешет, не нашли. К тому же больно издалёк слух шёл, а дорога всяко слово норовит исказить.
Вот сказывали, германец сам мира пожелал, а этот вождь есть не кто иной, как засланный шпиён, – власть забрать и войну кончить на русском фронте. И грошей золотых на эту тему получил от германца полный вагон, а с полным вагоном грошей золотых где хош кто ни попадя власть поимеет, и шо тебе надо, объявит.
А уже дальше рассуждения свелись к тому ясному факту, что при любой власти никуда не денешься, а проживать вынуждайся, хорошо бы она не мешала сеять весной, убирать осенью, а наилучше, чтоб ею тут и не пахло. Представление о власти было единым: сукины бездельники, на чужом горбу норовящие в рай въехать. Ну да поживём – увидим…
К весне восемнадцатого года многие дворы уменьшились числом скотины; сколь следует не накосили коровёнкам и, какие ослабли, ушли на мясо. У иных три коровы зимовало, – две пошли на зеленя; иной две имел, – одну сберёг. Сказалось отсутствие заблудивших на войне, в дали незнаемой и сутолоке, крепкого возрастом мужей. Женам же при детях, пусть истово старательных, да старичью седому мало дала природа дней влажной, годной для косьбы травы, и силёнок, чего греха таить. А ещё по пятку свиней в хлеву, а куры-гуси-утки-индюки, а козы-овцы, – храни нас, мама Богородица, не дай грыжи животу. Не огорчались, конечно, никак; жирку нагуляли, розовыми лицами мартовское солнышко встретили, а скотина – дело наживное, буде день. Два ободряющих момента наблюдалось: мороз и справный мужик Дезертир Егор. Мороз не давал сгинуть несолёному мясу; Егор, хорошо обученный и недавно, ловкач был по части убоя, да такой, что старики хвалили. К весне накололи льду в холодные погреба и, чего съесть не поспели, могли хранить свежим до лета. Всё бы ничего, но вошёл томящий зуд в бабьи души: а где это, ёлки-палки, лес густой, мужья-то наши загуляли с винтовочками в обнимку, ни тебе весточки, ни тебе во сне обещания. Жуть! Вечерние посиделки с чего начинались, тем и кончались, – бабьими охами-ахами и всяческими слезами. Горилка у мужиков в горле тормозилась. Печальное дело.
Вот позволила землица сеять. Кони пред тем пощипали досыта свежей травки и стали скучать по плугу. А иначе зачем, на Луну глядючи, ржать? Никак от избытка сил. Так и хорошо! Пора уже вам хомут позади зубов и всяческое о Луне забывание. Без малого на две тысячи десятин трое вас осталось – до баловства ли?
Война, ясненько, войной, а страда – страдой. Как можешь, страдай, а земельку свою не обиходить – грех недозволительный, наказуемый немедля. Ибо не доброе семя, а само будущее на крошечной части человеческого мира доверялось земле, и попробуй не вспаши её и не удобри, попробуй не избави кормилицу от сорняков-кровососов, – зачахнет. За нею и ты последуешь, как пить дать. Не трудом и потом? – телом напитаешь!
Всё просто. Как со времён сотворения. Однако многие времена минули, в числе каких самые хорошие, где нас никогда не было; многие обстоятельства вкрапились в чистоту рассуждения, потому вся-то простота кончалась временем по осени и местом промежду земельным наделом и миром людей, занятых иным промыслом. Обнаруживалось, что труд без продыха и сна во имя пищи и, значит, бытования людского племени, имеет в ответ ничтожно осязаемую благодарность и оценку, что следующий сев и последующий зачинался опять старой сохой и дедовской бороной, никак не даря облегчение и возможность обработать больший надел. Потому выход из нужды, обретение нужных орудий труда для умаления физических усилий, давался трудом, подчас рвущим здоровье, далеко не каждому. И главная надежда состояла не в прибавлении лошади или там сеялки-веялки какой, а в простом увеличении числа сильных в семье рук, – сынов, чему зимой нужное внимание уделялось.
За добрую погоду молились истово, но случались года томительного, голодного ожидания весны и покаянных за грехи молитв в уповании, что кара небесная два года подряд не попустится милостивым Заступником.
Пребывая год за годом в потугах, натыкаясь с проклятым постоянством на препоны и неурядицы, не сдюживал вдруг иной крестьянин, плевал на всё с высокой колокольни и шёл искать облегчения в кабак.
Ох, везуха выпала женщинам радостинским – далеко от них пускали дым соблазна винокурни и промышляли ушлые шинкари. Иначе бы и сюда добрались, оборотистые, затеяли б обмен водки на урожай, вынуждая деток одурманившего разум свой селянина пухнуть от недоедания, а то и скитаться в поисках милосердия. Нехитра была коммерция, на неукротимой тяге к безудержному веселью души славянской зиждилась. Шинкарям, винокурам, откупщикам, людям чаще не православным, по своему соблюдению правил жизни не пьянствующим и земледелием не страдающим, доставались плоды трудов впавших в рабство змию зелёному хлебопашцев. В долг наливали радостно. Случалось, к весне весь урожай пропит, скот вырезан и… не было куда податься, кроме как взять в долг семян…у шинкаря, ясно, благодетеля. Петли долгов набрасывались на шею слабому человеку и, ругайся он теперь на свою тупость, в яму его столкнувшую, не ругайся, – кто из ямы услышит?
И очень сильно стали удивлены на полесских равнинах трудящиеся тому, что зачинателями новой справедливости, всемирного равенства и братства, стали выходцы из этого самого племени покупателей чужого горя. Богатого, как ни ряди. А тут – всем благоденствие! Поделятся?! Вот тебе поворот! Чудеса в решете!
Давались диву радостинцы и соблазнялись верить, но поддаться не могли. Особливо зазыву на войну дворцам, чтоб тех не стало. Рассуждали таким образом, что вроде бы золотишко у лихоимцев на пользу народному благополучию взять-то и не во вред, а почто имущество пускать на ветер, никак соображению одолеть не удавалось. А тут ещё батюшка усугубил, строго-настрого наказал всякую веру пустому словоблудию прекратить, ибо одно есть слово истины – Божие. А в Писании – делу человека верь, но не посулу, соблазнишься иначе и вляпаешься в грех страшный, хуже какого и выдумать нельзя. Как это? – спрашивали совместно селяне. И не отмолишь? А и нет, – не отмолишь, лоб до мозгов прошибёшь, а не отмолишь, ибо соблазнившийся антихристу есть уже его дитя, никак не Отца Нашего, и есть он смертельно ослушник заповедей его, блуд кого дело и ад его души дом! По плодам их судите их, как бы не пахли цветы их! А пуще всех какой цвет красив? – а сатанинский!
Больших раздумий эпохой стала весна восемнадцатого года, великих сомнений, надежд и умов брожения. От мала до велика, кто умел, ринулись читать литературу, а наперво Новый Завет. Светлый день проводив трудами, вечерами собирались ругаться. Не сразу. Сразу не по-людски как то. Сначала обыкновенно выпивали. Кто чаёк травяной, кто горилочку для оживления беседы. Газета с дивным прозвищем «Правда», белая ликом поначалу, вбирала желтизну и серость, лёжа посерёдке предметов закусывания не подстилкой-скатертью – только глазами трогать позволяла; важная, что девка на панели, гордая, простому человеку – «как это так – задаром?» – недоступная. А сверху этой самой газеты о большущих буквах кричало слово «вставай». Вставай, и всё тут, проклятьем, тебе говорят, заклеймённый! Не худо, однако, коли всяк, кто, значит, вставать должон, имеет клеймо! Проклятого человека из мира голодных и рабов. Стих этот заглавный сумел таки натворить смущения и причинить невозможное доселе всеобщее недоразумение! Случился меж степенных полесских жителей гвалт, доложу я вам, за земляков слегка стыдясь.
– Явный факт имеет здеся метаморфоза, – громко выразился известный прочтением всяческих философий и побывавший в самом Париже Антон Антоныч, лысый со лба и седой с затылка, и все сразу внимательнейшим образом стихли и дружно кивнули шапками; чья-то, – не в размер голове, – на пол скакнула.
Скажу, что вовсе не от резкого изумления, а всего-то по причине купли шапки на вырост, про запас, так сказать, лет жизни. Когда кругом такая катавасия непонятная, как это вон слово неслыханное, разве чему есть сила удивляться? Скажи Антоныч, что приходит в мир интегральное, язви его в двадцатый корень, исчисление, народ согласился бы дружно и немедленно. Вопрос возник бы один: хуже или лучше при ём поживать будем?
Деревянных дел дед Силантий о Спинозе уважаемом господине Бенедикте – ни одним ухом не имел память, не то, что глазом, но словцо новое уважил сразу. Слуху его «метаморфоза» предстала ладно и объяснительно, а в разумении – красивой, крупных форм женщиной, от какой веяло пряным запахом дойной коровы и всемирной теплотой. Антон Антоныч, однако, за словом своим изумительным бабы никакой и тени не видал, однако, если сказать по правде, что на деле означает «метаморфоза», сам понимал крайне смутно и в страхе разоблачения быстро принял на грудь стакан до краёв, понюхал краюху и вгрызся в солёный огурец. Теперь ни у кого совести не хватит помешать ему вольно закусить своим дурацким вопросом. Воспитание – штука вечная.
– Ай да дела. Неужто и тут без баб не обошлось? – всё-таки вырвалось у деда Силантия. – Так и норовят, так и норовят ноги вперёд головы нести, куриное племя.
– Силантий, я тебя хочу охотно понять, но ты не туда гнешь, – закусивший Антон Антоныч почувствовал душевную бодрость. – Бабы тут ни при чём. Тут надо понять, зачем тебя, человек, на смертный бой кличут, клеймом наделяют? А разум твой кипит уже?. Ведь спит, что сытый пёс. Или кипит?
– С похмелья оно, конечно, всякое…
Закивали все головами согласительно, ободрились, внесли шумок весёлый, ногами кто под столом затанцевал, а кто ладошки потирать принялся в знании, что всякий повод к одному приводит.
– А если глядеть у корень? – пропавшим голосом вопрошал пространство в три сантиметра округ себя к тому историческому моменту не покойный ещё дед Макар, но, разумеется, хрен кто его слышал. Скоро, скоро он не сможет подымать стакан и помрёт огорчительно, но в данный исторический момент весны восемнадцатого года, пока в песочке не зарытый, но имущий никакой голос, отчего любящий пустить слезу в бороду, шептал он хрипло, старательно и безутешно. Ибо шум стоял в среде спокойных доселе сельчан, и знать они не думали, что это и есть невинное начало классовой борьбы. В оправдание земляков скажу, что никто тогда не думал.
– А у корень глянуть? – вопрошал своё пространство и грустил дед Макар. – А то стакана брать легко! Без мозгов поживать одна приятность! Голова ни от чего не болит. Токмо ежели пулю ей…
– А когда женщина не метаморфоза, кто она есть? – неугомонен был Силантий.
– Проблема философии есть заглавная в том, как меж божьей да людской правдой пройти жизнь и не вобрать в душу грязь. Потому метамарфоза и есть метамарфоза, – озадачил всех нездешней мудростью Антон Антоныч.
– Какая такая баба? А у корень – никак? – страдал дед Макар и имел бы на это длительную перспективу, не окажись рядом чуткое на беспокойный шёпот ухо Петрухи Кульгавого.
– Цыц! – вскричал тот, наливая опустевшие стаканы эхом. – Делай молчок для уважения неминучей старости и нервов человека, потраченных на страшную силу крепко выпить, в том числе закурить. И нехай нам так не будет! Дед Макар знает про какой-то корень. Ему да в руку!
– Пребывай с тобой Господь наш триединый, Петруня, спаси и помилуй всякого доброго человека, и да избави от лукавого, – услышан стал старче, – а здесь пускай да посмотрит, куда зовут его, овца ли он пастырю и кто этого пастыря назначил. Вот где корень. А эта песенка есть не что, как объявление баталии молитве Христовой, посему и вере.
– В книжках дано – никто не верит – не глядит в глаза свои – быть приходу сатаны – из красного моря – кровопивец в крови – всяк окрыленный обескрылит – всяк праведник оболган – человек станет жрать человечину – ночь названа днем. И отвернётся Господь от Руси на тринадцать колен, – сказал слепой и невозможно старый Емельян Сорока.
Никто из живущих в селе не помнил его безбородым.
14
Ксёнз пан Богуслав.
Часу у нас дужэ. Для дум о былом и судьбах, пан Степан, времени у нас в избытке теперь, слава Создателю и миру. Не в том ли был грех, что внутреннему своему состоянию мы уделяли малую толику раздумий и вот наказаны от души? Забыли о долженствовании самосовершенствования разума и тела? Тогда получите благое воспитание и возблагодарите Спасителя своего за милость быть в нашей душе неотступно. А и впрямь, когда бы только на него что час уповали? Когда бы имели счастье молиться сердечно и непрерывно? Не путь ли к спасению кара людская? Так возблагодарим товарища Сталина за уроки, даные нам. Спасибо, вождь, ты направляешь ведомых к творцу небесному успешнее всякого смертного.
Сейчас вот посадили нас в тюремный вагон, и вот мы даже не идём, а едем, и, имею уверенность, приедем. Куда? – вопрос забавный, но не в нашем положении пилигримов, когда любой вопрос может встать колом в чистом поле или гильотиной на плацу. Тягаться ли тогда сирым нам в тяжести мук своих с муками святых наших? О, едва мы достойны больших! Однако, без сомнения, в судный день и наши малые нам зачтутся.
Ещё недавно, пан Степан, мы на сей счёт думали по-разному. Ты и в страшном сне не допускал, что людей, безгрешных пред братьями с сёстрами своими, людей, невинных душой и плотью такие же божьи твари могут лишить жилища и даже самой жизни. Что я сделал? По какому праву? Наивные вопросы беспомощного человека. Ничего плохого ты не сделал, и ни у кого нет права лишать тебя свободы. И вот пожалуйста. Где логика? В чём смысл? Тебе, до сих пор жившему в среде логичного разума, трудно понять, что существует ум свойства не совсем человечьего, даже античеловеческого в его общем смысле. В частном же, личном для себя, он является как бы таким, как у всех, то есть человек видит других аналогичными себе особями, только во зле своём греха не признавая, злобой как бы борясь со злом в людях. Для пущей, так сказать, эффективности. Оправдывая отсутствие добрых в себе начал, что доброта не есть прогрессивная сила, добротой не заставишь работать в поте лица.
А значит, для такого рода людей любви не существует, более того, для них любовь и есть подлинное зло. Антихристы? Сатанинское отродье? Да, – говорю я. Они и сами этого не скрывают, всю страну покрыв кровавыми сатанинскими знаками. Демонстрируют власть. Демоны.
Твой уклад жизни им странен и враждебен. Страх. Они страшатся тебя, ибо не ведают, что страшиться нужно только высшего судии. Они страшатся, видя в твоём желании жить по закону любви угрозу своему существованию. Им нравится, когда мы разобщены по вере и живём по закону ненависти. Око за око. Ветхий завет обнялся с коммунизмом. Символы напитались крови. По плодам их мы уже познаём их. Жаль только, что розовую пелену с глаз нам снимают вместе с глазами.
Имею я стойкое чувство, что на земле существуют два вида душ. Первый послан сюда в своей телесной оболочке жизнь свою здесь начинать, второй – заканчивать. И вот первый задумывается о путях спасения для воскресения в жизни иной, о грехе и праведности, а другой – живёт в абсолютном убеждении: нет пути на небеса, сколь ни усердствуй, а назначен человеку на земле полный и окончательный карамболь. Разве что птичкой ещё после преставления пару лет пощебетать или кошкой помяукать дадут. Или червячком погулять под травкой. И вот первый учится быть способным принять муки и оправдать мучителя, как носителя воли Божьей, второй же берёт око за око, зуб за зуб, убийство иноверца благом почитая. Для первых грех – быть паразитом и грабить труд других, для вторых – труд физический есть грех непотребный. Ветхий, дорогой Степан, завет алмазами сверкает в их зубах. Новый – греет любовью наши сострадающие сердца. Мы есть два противонаправленных пути бытия, два смысла жизни.
«Так не из праха выходит горе и не из земли рождается беда».
Опять же в русле промысла Божия почему нельзя увидеть глубокий и положительный смысл присутствия вокруг нас того, что понимается злом? Почему Родитель любви и блага небесного попускает тёмным в нашем понимании силам, мерзким их деяниям? А чтобы у нас была свобода выбора, с кем и куда идти, встать ли нам в ряды мучителей за ради земного благоденствия или в ряды гонимых, не предав своего понимания добра и зла, чести не роняя при любых соблазнах лукавого. Пан Степан, мы совершенно свободные люди! Мы не выбирали свою долю, она сама выбрала нас. Так неужели без смысла? Нет, пан Степан, есть в этом великий промысел, чувствую всей душою. Сейчас, как никогда, чувствую свою человеческую свободу. И как я рад, что волею Господней оказался в рядах не посрамивших любви и чести. Думаю, внутри себя и ты меж жизнью и честью избрал бы честь, ибо всякий сеющий оную в прах земной роняет туда и надежду войти в Царствие Отца Нашего. Так не посрамим душ своих!
15
Не ломай мне клюкву!
Утром в ослабевшем зубами рту красного конника Фёдора Мамалыгина имела находиться такая пакость, будто побывал там сам сукин кот для оправления своего насущного удовольствия. Наблюдался в этом самом меж гнилых зубов провале неошкуренной деревяшкой язык, горечь и вонища, в любимый нос прущая, отчего настроение конника существовало противным, поэтому решил он пока глаз никуда не отворять, а, замерши, тепло повспоминать свою бывшую жизнь. А потому ведь никакого тепла ниоткуда в лоб коннику никогда не шло, окромя из времён безгрешного, испоротого ремнём детства. Помогало, и не раз, ибо нынешнее своё неважное существование сравнивалось Фёдором не с чем-то важно радостным, а с одной чернющей печалью своего не больно нужного на свете пребывания.
Всяческое былое горе попёрло в башку коннику, а первей всего третьего дня взад случай гибели любимой боевой подруги – незабвенно гнедой кобылы по имени-званию Клаша, как результат беспощадного ночного галопа и оттого смертельного попадания в канаву или какой окоп, знание о чём никакой теперь собаке не даёт важность.
Ах, каким соловьём лил тогда свою песню вечерний ветер, – слух немел от восторга; как иссушал губы незабвенным пламенем вкус прощального поцелуя, и вон рвалось сердце, дробясь на части и отражаясь множественным эхом от ударов о пролетающие мимо стены перелесков, возвращаясь внутрь груди, чтобы снова выпрыгнуть из неё, как в последний раз, и на тебе: фух!.. бляааа!..хрусь!.. чу-вак! Именно последним словом и был награждён красный конник грязью, ласково встретившей его пьяную морду, и долго затем лобызавшей во все глаза и губы. Как не задохнулся Фёдор от долгого проникновенного её поцелуя, – «иди сюда, милый, бери меня всю», – думать ему не нашлось чем, и здесь мы сами решим, что Бог миловал конника, пусть и забыл поблагодарить вседержителя наш герой, – червяк атеизма уже полюбил его мозг и ласково погрызал разум.
А ещё был Фёдор изрядно пьяным и согласно известному везению здоровья совсем не потратил, а грязь что? – сестрица родная есть нам грязь!
Верно, поломав ноги, обречённо застыла в траншее или неважно какой канаве любимая Клаша и о чём-то стонала, сказать пыталась, но не понимал её речи конник, а стрелять меж глаз не хватило отчаянья, потому выполз везунчик наш из ямины или какой пропасти и побрёл, шатаясь и стараясь блюсти курс.
Сильнейшее сокрушение вызвал тот факт события, что всего ничего оставалось верно знающей путь Клашке до расположения эскадрона, так что свалился Фёдор едва не на головы своих товарищей, иным став любопытным ввиду произведённого шума – не неприятель ли то небрежный? И поскольку оказался Фёдор безлошадным пятном и потому подозрительным, из жуткой впереди темноты крикнули что-то его печальному разуму непонятное и выпустили рядом уха горячую пролетарскую пулю, чтоб не лазила здесь всякая, мать её, контра. Наверное, пытали пароля, но где у Феди на пароля может жить память? Опять же в ночь! Опять же после неимоверно голодной ласки.
Пришлось товарищу красноармейцу от обиды заплакать громогласно и закричать матерно в сторону расположения однополчан, чтоб перестали убивать, а то ведь ещё сумеют нечаянно, гады. А ведь свой он, горе по Клаше горло давит, а тут тебе какая-то сволочуга свистит в ухо пулей, уж доберусь до тебя, не стреляй, паразит, не то убью…
А нехай бы напоили горячее сердце свинцом други боевые, чтобы валялся Фёдор неприбранным в ямине какой с дыркой меж рёбер, чем вот на лавке с печалью близко сердечного бултыханья, но нет – услыхали, признали, дозволили сказать горькую весть о коварной канаве или какой пропасти и плачущей в ней Клаше, – страшно стали веселы, давно с очень слабой надеждой хотевшие покушать. А потому с особым удовольствием побежали стрельнуть кобыле промеж глаз. Седло да сбрую вежливо принесли, но сказать не пожелали опосля, сколько и каких ног изломала дамочка, и не просила ль о чём пред смертью. Настоящие сволочи.
Сволочи – третий день как уже сыты от Клаши, а Феде при сём туго, голодует мужичок. А и где, скажите, валяется аппетит кушать боевую подругу? Нигде нет такого аппетита. Тоска одна везде валяется.
– Чи тя, твою в туды, в пешкодралы, чи тя, в сюды твою, до обозу, – суров был эскадронный, Ванька Корень, в землю цыкал слюной через отсутствующий во рту передний зуб. – А попросись в расход, так с милым удовольствием за страшный ущерб мировой революции буду другом. С-цык. Потому даю тебе своё решение. В три дня не воротишь боевую единицу в строй – одно из трёх тебе и отломится. С-цык.
Вот краткое донесение причины того, почему глаза красного конника третьим уже утром отворяться не желали категорически, а голова охотно приняла воспоминание, как помирал он от тифозной горячки осенью прошлого года, однако чудесным делом остался мучиться среди здесь. И – стало легчать сердцу! И душе в её, конечно, нашем понимании. Моя родная мама, да когда худо приходит к человеку, наиважнейшее дело иметь в прошлом жутко страшную такую страсть пережитую, в сравнении с какой нынешняя ну просто тьфу, ну просто мелкая, дорогие товарищи, пакостишка.
Здесь просто полагается мечту, раньше имевшую быть, взад воротить и там слопать наконец при полном уединении от жадно наблюдательного народа целикового жареного гуся. Обязательно в тесте, в русской печи – категорически… А почему имеете, товарищ красноармеец, непролетарскую этакую блажь? – спроси теперь Фёдора некоторая тусклая сочувствием гнида. Дадим этой гниде сабельного луча объяснением ясным, что происходит сей конфуз от сильно слабого питания жизни во дни злобной эксплуатации трудового элемента классовым паразитом, в рыло какому близко дышит хана.
Иначе б давно – целиком и полностью – я, Фёдор Мамалыгин! – в один присест – антоновки в нутре зашитом – ар-ромат их мать! – ух и беспощадно!
Так не сука ли Верка? Ясно – сука невозможная, и память о ней – бесконечная дорога. Заботой своей сковырнула парню жизнь; угощенье принесла со стола хозяйского, умыкнула для любимого, угодила со страшной силой.
Прилетела на свиданьице с узелком из рушника белого, а в нём… поди теперь забудь, как сладко смотрела девушка на уплетающего гуся парня. Крепко за сладкий этот взгляд Мамалыгин полюбил тогда Верку, искупался с ней голышом в реке по имени Волга, а наутро стал новобранцем мировой войны за Русь Святую, Веру, Царя и Отечество. Врагов ждала страшная смерть! Где-то вдалеке, чувствовал невозможно сытый Фёдор, они его уже боялись, собираясь делать в штаны.
С той поры он и понёс сбоку от службы мечтание слопать на разе целикового гуся, оттого во время вынужденного отказа от поедания боевой подруги кобылы Клаши стал непременно наблюдать сны, чтобы в них этого самого, с яблоками, в брюхе зашитыми, кушать и жрать, жрать и кушать.
Товарищи любезно удивляли Федю, что ночью внутри живота его кто-то громко крякал и тревожил спящих. Желали, мол, штычком отворить животик в подозрении, что откусил таки Федя от Клаши, сожрал в ночь и втихаря кусок любимой, впал в измену верному слову красного конника, пёс.
– Мечтание сна во мне звук производит, товарищи друзья, – отвечал в оправдание Мамалыгин, события оного сна упорно содержа в тайне и вдалеке от соблазна редко сытых бойцов Легки на зубоскальство. Сволочи.
… Разного вкуса мысли изжевал к побудке Мамалыгин и, когда отворил наконец глаза на серый потолок избы, совсем не удивился, что к этому моменту стал подумывать, кому бы и за что беспощадно отдать свою жизнь, чтобы опосля не жалеть. Опять же Корень меж плевками вдруг подумает об этом спросить, прежде чем подарить пулю, и вдруг, получив ответ, он её таки пожалеет.
Мысль о возможности шагать в пехоте тянула конника поблевать, ибо таковской тошниловки откушал он в окопах по захлёб горла, и по гроб жизни простился от всей души. Так что не надо, Корень, этим сильно грозить, там Фёдору делать нехрен при любом раскладе, вполне пускай смертельном или дезертирском. Фёдор революцию поперёд всего за то любит, что подняла она его на коня и дала свист в уши.
– Третий день тебе грянул, Мамалыгин, с-цык. Наипоследнейший для поправки промаха, не то ползать тебе на брюхе, – сказал эскадронный на перекличке, не сгинул ли кто за ночь. – И безо всякой сабельки! С-цык. Вали отсед, ищи, где хош, век Варшавы не видать. В поход завтра, твою мать! Кру-гом!
Во всякой неприятности замешана баба, – в сотый уже раз решил безлошадный красный конник. Одна гусем нутру спать не даёт, из-за другой Клаша получает гибель. Однако ж и без баб разве жизнь? – чисто смертельный номер, потому, что грусть. В таких вот размышлениях покидал расположение эскадрона неугомонный наш ночной наездник, и ржание лошадей шло за ним, делая боль сердцу. Скажем, что эскадрон разбил свой лагерёк на западной окраине входящего сейчас в историю нашего уездного городка; любила братва смотреть вечерами, как неукротимо солнце наступает на Варшаву, и думала о нём с добрым умилением, – вот бы оно эту Варшаву нахрен выжгло и дело с концом. Ан фигу вам, мечтатели…
Но красиво, красиво наступало солнце на польскую землю и разжигало, разжигало страсть двинуться за ним вослед, сияя на сабельке ручным солнышком мировой революции, от какого холодному и голодному труженику станет тепло и особливо сыто. Нехрен вам там лишку кушать! Пролетарию справедливость люба!
В чёрной кожанке с красным, напротив сердца алеющим бантом, красиво говорил комиссар, призывая не пожалеть жизнь для освобождения порабощённых капиталом трудящихся масс Европы, беспощадно принести свободу своим классовым братанам. И что теперь получается? Все дружно и галопом поскачут рубить в капусту белого пана, а он, Федор, безлошадный и бывший, рухнет в пехоту, где получит обязательно смерть по причине сидящего в нём тёмного чувства, что так оно и будет. Братва, значит, ветром полетит, соколом взовьётся, а он поползёт на брюхе, выпуская попутно из этого самого брюха газики, ибо оно обязательно забурлит от возмущения признаками подлой несправедливости.
Не бывать тому, сказал себе Мамалыгин, и пошёл ко всем чертям вон подальше от мелкого полесского городишки, вдоль уже и поперёк исхоженного безуспешно в поисках даже слабого запаха конского навоза. Мудрено ли? – много охотников имели здесь охоту иметь коня. Не вчера начались времена лихие. Даже ржание изображал Федя, на отклик надеясь – пустая вышла забава. И как поживают без коней люди, если это невозможно? В городишке ещё ладно, можно обойтись, – а в деревнях на себе, что ли, пашут. Не может такого быть, приметил Фёдор, никак не может. Больно много земли пашет народ, порядку до холеры, население от неголодной жизни улыбчивое, скотинка в хлевах шевелится, собаки гавкают громко и старательно, знать, кормлены и хозяина чтут. Гуси! Гуси! Цельные живые гуси друг за дружкой вольно прогуливаются то там, то здесь, сильно расстраивают аппетит. А почему? А кожаная куртка с красным на сердце бантом зачитала приказ: вольного промысла к трудящему не проявлять, а просить добром во имя власти Советов. Просить братва стеснялась, не учёная таким премудростям, да и местный житель хитёр – спросить может, шо это за власть, какой нужен гусь, почему она вдруг голодует, а сказать что? В чистом поле схватить жирного гуся, свернуть ему шейку и так далее, и так далее – носил Фёдор страх невообразимый, повидав примеры тому, что идейный Корень приказ любил сильнее, чем жизнь отдельно взятого бойца. Взятого, чтобы прилюдно шлёпнуть для повышения общей дисциплины, без какой мировая революция не стоит и выеденного яйца.
Плывя в суровых волнах своих размышлений, едва заметил наш герой местного обитальца, – в три погибели под вязанкой дров, – но таки вернул разум и вежливо спросил, есть ли где в этих краях село, чтобы там остался жив конь или хотя бы кобыла. То ли мужик то был, то ли баба, то ли в незнании находясь, то ли в желании послать, – ответ раздался, но был мутно произнесён и вроде как даже не по-русски. Переспрашивать было стыдно по причине претензий до собственного слабого от плохого питания слуха и возможного незнания местного наречия, но наличие буквы «у» в ответе само собой предполагало «угу» и дало шагу бодрость. Вскоре, у опушки, обернувшись назад, удивился Фёдор равнине, пролегшей меж ним и едва уже различимым городишком и той быстроте, какой он, оказывается, обладал.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































