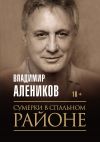Текст книги "Ада, или Отрада"

Автор книги: Владимир Набоков
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 51 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
«Должен вымыть правую ладонь, прежде чем коснусь тебя или чего-нибудь еще», сказал он.
На самом деле она не читала, а нервно, сердито, бездумно листала страницы той старой антологии – она, которая в любое время, стоило ей только взять книгу, все равно какую, тут же погружалась в нее, ныряла «в главу с головой» естественным движением речного существа, возвращенного в родную стихию.
«Никогда в жизни не пожимал более влажной, вялой и мерзкой конечности», сказал Ван и, сквернословя (музыка внизу оборвалась), ушел в уборную при детской. Умывая руки, он глядел в окно и видел, как Рак, поместив в переднюю багажную корзину велосипеда свой бесформенный черный портфель, неуверенно тронулся в путь, на ходу сняв шляпу перед безучастным садовником. Этот напрасный жест непоправимо нарушил зыбкое равновесие неловкого велосипедиста – Рак с хрустом въехал в живую изгородь на другой стороне аллеи и упал в кусты. Целую минуту он возился в цепких зарослях бирючины, так что Ван уже успел подумать, что ему следует, пожалуй, прийти пианисту на помощь. Садовник повернулся спиной к больному или пьяному музыкантишке, который, хвала небесам, выбрался, наконец, из кустов, поднял велосипед и вернул свой портфель на место. Он медленно поехал прочь, и чувство какого-то смутного отвращения заставило Вана сплюнуть в чашу клозета.
Ады в гардеробной не оказалось. Он нашел ее на балконе, она очищала яблоко для Люсетты: добряк-пианист всегда приносил ей на урок яблоко, или несъедобную грушу, или две-три мелкие сливы. Что ж, это был его последний дар.
«Тебя зовет Мадемуазель», сказал Ван Люсетте.
«Ничего, подождет», ответила Ада, неторопливо снимая свою «идеальную ленту» – красно-желтую спираль, за развертыванием которой Люсетта наблюдала с неизменным изумлением.
«Мне нужно вернуться к работе, – сказал Ван первое, что пришло на ум. – До чего же скучно. Буду в библиотеке».
«Окэй», звонко ответила Люсетта, не поворачивая головы, и тут же издала вопль радости, получив готовую гирлянду.
Битых полчаса он искал книгу, которую поставил не на ту полку. Отыскав ее, наконец, он обнаружил, что все важные места в ней уже отметил и она ему больше не нужна. Он лег на черный диван, но напор желания от этого как будто только усилился. Он решил вернуться на верхний этаж по витой внутренней лестнице. Поднимаясь, он мучительно-остро вспомнил (как что-то упоительно-прекрасное и безнадежно потерянное), как она спешила наверх, со свечой в руке, – той ночью Горящего Амбара, навсегда запечатленной в памяти с заглавных букв, и себя позади нее, с пляшущим огоньком своей свечи, – видел ее икры, ягодицы, подвижные плечи и струящиеся волосы, а еще тени, громадными углами преследующие их во время спирального подъема вдоль желтой стены. В этот раз дверь, ведущая с лестницы на третий этаж, оказалась заперта с другой стороны, и ему пришлось вернуться в библиотеку (заурядное раздражение стерло нахлынувшие воспоминания) и взойти по парадной лестнице.
Приближаясь к залитой солнцем балконной двери, он услышал голос Ады, объяснявшей что-то Люсетте. Что-то забавное, что-то связанное с… Нет, не припомню, а врать не хочу. Рассказывая что-нибудь уморительное, Ада обыкновенно ускорялась к концу фразы, чтобы смех не обогнал кульминации, но иногда случалось, как сейчас, что короткий смешок вырывался вперед, и тогда она доканчивала фразу уже вместе с ним, еще больше спеша и сдерживаясь, и за последним словом с рокотом накатывал ее звучный, гортанный, чувственный и довольно мелодичный смех.
«А теперь, моя милая, – добавила она, целуя веселую ямочку у нее на щеке, – будь так добра, сбегай вниз и передай нехорошей Белль, что тебе давно пора пить молоко с птиберами. Живо! А мы с Ваном тем временем уединимся в ванной или еще где-нибудь, где есть большое зеркало, и я его подстригу, ему это просто необходимо. Да, Ван? О, я знаю, где лучше всего… Ну же, Люсетта, беги».
34
Напрасно они с Люсеттой предавались шалостям под селихемским кедром. С тех пор всякий раз, когда она лишалась надзора своей шизофреничной гувернантки, когда ей не читали, не водили на прогулку и не укладывали спать, она становилась несносной. С наступлением темноты – только если Марины не было поблизости, бражничающей, к примеру, с гостями под золотыми глобусами новых садовых ламп, мерцавших среди темной зелени, примешивая керосиновый смрад к тонкому аромату жасмина и гелиотропа – любовники могли пробраться в более глубокую тьму и оставаться там до тех пор, покуда nocturna (свежий полуночный бриз) не принимался шелестеть листвой, «troussant la raimée», по выраженью ночного сторожа, похабника Сора. Он однажды со своим изумрудным фонарем наткнулся на них, и несколько раз призрачная Бланш, тихо смеясь, кралась мимо них, чтобы спариться с неутомимым, надежно подкупленным старым светляком в каком-нибудь скромном укрытии. Но целый день дожидаться благосклонной ночи – что за изощренное истязание для наших нетерпеливых любовников! Чаще всего они успевали как следует измотать друг друга еще до обеда, как бывало прежде, тем летом; Люсетта же, казалось, пряталась за каждой ширмой, выглядывала из каждого зеркала.
Они испробовали чердак, но как раз вовремя заметили щель в полу, сквозь которую был виден угол гладильного чулана, по которому ходила вторая горничная, Франш, в одном корсете и нижней юбке. Оглядевшись кругом, они только дивились, как им удавалось нежить друг друга среди занозистых досок старых ящиков и торчащих гвоздей или, выбираясь через световой люк, искать уединения на крыше, которая для любого загорелого мальчишки, взобравшегося на развилку огромного вяза, была как на ладони?
Оставалась еще Стрелковая галерея с драпированным Восточным альковом под пологой кровлей. Но и здесь теперь было нехорошо: обивка кишела клопами, несло кислым пивом, такая грязь и запустение, что нельзя было и помыслить о том, чтобы раздеться или воспользоваться диванчиком. Все, что Ван увидел там из новой Ады – ее бедра и ляжки цвета слоновой кости, и когда он в первый раз сжал их, она сказала ему, в самый миг его бурного блаженства, чтобы он выглянул через ее плечо в окно, в раму которого она упиралась руками, содрогаясь от собственных угасающих ответных толчков – Люсетта со скакалкой шла к галерее по дорожке, обсаженной с двух сторон кустами.
Такие вторжения повторились и позже, дважды или трижды, и с каждым разом Люсетте удавалось подкрадываться все ближе и ближе: то она срывала лисичку и делала вид, будто сейчас ее съест, то на корточках пробиралась в траве, ловя кузнечика или, по крайней мере, воспроизводя все движенья этой ленивой игры и беззаботной охоты. Так она добиралась до середины заросшей игровой площадки перед запретным павильоном, где с видом мечтательной невинности начинала раскачивать доску старой качели, подвешенной к высокой и величавой ветви Голого дуба – почти безлиственного, но еще вполне крепкого старого исполина (Питер де Раст запечатлел его – ах, я помню, Ван! – на вековой давности литографии Ардиса: молодой колосс, укрывший под своей сенью четырех коров и пастушка в лохмотьях, одно плечо обнажено). Когда наши любовники (тебе по душе авторское притяжательное местоимение, не так ли, Ван?) вновь выглядывали в окно, Люсетта уже качала понурого дакеля, или, запрокинув голову, глядела вверх, высматривая воображаемого дятла, или с очаровательной угловатостью в движениях медленно взбиралась на обвязанную серыми веревочными петлями перекладину и начинала тихонько раскачиваться, будто впервые в жизни, а дурень Дак тем временем лаял на запертую дверь павильона. Люсетта с такой сноровкой управляла инерцией качения, что Ада и Ван, находясь в простительном ослеплении вздымавшегося блаженства, так ни разу и не подгадали того самого мига, когда круглая розовая физиономия со всеми ее горящими веснушками, возносясь все выше и выше, оказывалась прямо перед ними и два зеленых глаза впивались в остолбеневший тандем.
Люсетта тенью следовала за ними с поляны на чердак, от сторожки привратника до конюшни, от модерновой душевой кабины у бассейна до старинной ванной комнаты на верхнем этаже. Люсетта выскакивала из сундука, как чертик из табакерки. Люсетта желала, чтобы они брали ее с собой на прогулку. Люсетта требовала, чтобы они вместе с ней играли «в эту вашу чехарду», и Ван с Адой обменивались мрачными взглядами.
Ада нашла выход – нелегкий, неумный и неудачный. Возможно, она нарочно так устроила (вычеркни, вычеркни, прошу, Ван). Идея состояла в том, чтобы Ван дурачил Люсетту, лаская ее в присутствии Ады, одновременно целуя Аду, а пока Ада «бродит в лесах» (то есть «ботанизирует»), целовал и обнимал Люсетту. По увереньям Ады, новая тактика позволяла убить сразу двух зайцев: успокоить ревность созревающей девочки и обеспечить им алиби на тот случай, если малышка застанет их посреди значительно более сомнительной возни.
Все трое так часто и усердно гладили и нежили друг друга, что однажды вечером Ван с Адой, распалившись на многострадальном черном диване, уже не смогли обуздать свой жар и, под нелепым предлогом игры в прятки заперев Люсетту тут же в шкафу, где были сложены переплетенные выпуски «Калужских Вод» и «Лугано Сан», яростно предались страсти под стуки и крики пленницы. Она все билась и брыкалась в своем пыльном заточении, пока ключ не выпал и в скважине не вспыхнул ее злой зеленый глаз.
Однако еще более предосудительным, чем эти проявления дурного нрава, было, по мнению Ады, то выражение болезненного экстаза, которое появлялось у Люсетты на лице, когда она крепко обхватывала Вана руками, ногами и хватким хвостом, как если бы он был стволом дерева, пусть и подвижным стволом, и ее нипочем нельзя было оторвать от него без увесистого шлепка старшей сестры.
«Признаю, – сказала Ада Вану, когда они плыли вниз по реке в красной лодке к густо укрытому ивами ладорскому островку, – да, Ван, признаю со стыдом и грустью, что мой чудный план провалился. Кажется, у этой приставалы лишь одно на уме. Кажется, она преступно влюбилась в тебя. Я, пожалуй, скажу ей, что вы с ней единоутробные и что крамольно и вообще чудовищно ласкаться с единоутробными: уродливые и темные слова пугают ее, я знаю, они и меня пугали в четыре года, а она, по сути, дурочка, и ее надо защищать от ночных кошмариков и бесстыдных комариков. Если и после этого она не угомонится, я всегда могу пожаловаться Марине, что она мешает нам читать и заниматься. Но, может быть, ты думаешь иначе? Может быть, она возбуждает тебя? Да? Скажи, она тебя возбуждает?»
«Это лето оказалось намного печальнее первого», тихо сказал Ван.
35
Сейчас мы на ивовом островке, на середине тишайшего рукава голубой Ладоры, с заливными лугами по одну сторону, а по другую – с видом на Шато Бриана, далекий и романтично-сумрачный замок на вершине заросшего дубами холма. В этом овальном месте уединения Ван подверг свою новую Аду сопоставительному изучению; сравнивать было легко, поскольку дитя, исследованное им четыре года тому назад до мельчайших деталей, запечатлелось в его сознании, ярко-освещенное, на том же самом фоне струящейся синевы.
Ее лоб теперь казался меньше, не только оттого что она выросла, но и потому, что стала иначе убирать волосы, оставляя спереди театральный завиток; его белизна, не тронутая теперь ни единым пятнышком, приобрела особенную матовость, мягкие складочки пересекали его, как если бы все эти годы она слишком много хмурилась, бедняжка Ада.
Брови остались такими же густыми и царственными.
Глаза. Глаза сохранили чувственные складочки на веках, ресницы – сходство с ювелирным чернением, высоко посаженные райки – свое гипно-индусское выражение; веки все так же неизменно смежались, даже во время короткого объятия. Но само выражение ее глаз, когда она ела грушу, или разглядывала находку, или просто внимала человеку или животному, – изменилось, как если бы новые слои замкнутости и печали осели в радужке ее глаз, полускрыв их, вроде пелены, в то время как блестящие глазные яблоки двигались в своих очаровательно удлиненных глазницах с бо́льшим беспокойством, чем прежде: м-ль Гипнокуш, «чьи глаза никогда не смотрят прямо и все же пронзают вас насквозь».
Ее нос больше не походил на раздавшийся по ирландскому абрису нос Вана, но кость выпирала еще уверенней, а кончик как будто задрался еще выше и обзавелся небольшой вертикальной выемкой, которой он не припоминал у двенадцатилетней colleenette.
На ярком свету становилась заметней тень темного шелка у нее над верхней губой (и на предплечьях), обреченная, сказала она, на истребление в первый же осенний визит в косметический кабинет. Тронутый губным карандашиком, ее рот приобрел теперь выражение отрешенной угрюмости, отчего, по контрасту, потрясенье от ее красоты только усиливалось, когда она, радуясь чему-нибудь или жадно чего-нибудь желая, показывала влажный блеск своих крупных зубов и алое великолепие языка и нёба.
Ее шея была и осталась самым утонченным, самым пронзительным источником его наслаждения, особенно когда она распускала волосы, позволяя им свободно струиться, и теплая, белая, ненаглядная кожа сквозила в случайных просветах лоснисто-черных прядей. Ни фурункулы, ни комариные укусы ей больше не чинили вреда, но он обнаружил бледный шрам от дюймового пореза, вдоль позвоночника, чуть ниже поясницы, – след от глубокой царапины, оставленной в прошлом августе заблудшей шляпной булавкой, или, скорее, колючей хворостиной в таком заманчиво-мягком на вид стоге сена.
(Ты безжалостен, Ван.)
Растительность на этом укромном островке (посещать который любителям воскресных прогулок воспрещалось – он принадлежал Винам, и составленное Даном объявление на деревянном щите хладнокровно извещало: «Частное владение. Нарушители могут быть застрелены охотниками из Ардис-Холла») состояла из трех вавилонских ив, зарослей ольхи, густых трав, рогозы, аира болотного и небольшой поросли багряно-голубоцветного липариса, над которой Ада, присев на корточки, причитала, как над щенками или котятами.
Под сенью этих неврастеничных ив Ван и занимался своим обследованием.
Неотразимо прелестные плечи: я бы никогда не позволил своей жене носить открытые платья, будь у нее такие плечи, но как она может стать моей женой? В английском переводе довольно комичной повести Монпарнас Ренни говорит Нелл: «The infamous shadow of our unnatural affair will follow us into the low depths of the Inferno which our Father who is in the sky shows to us with his superb digit». По какой-то странной причине наихудшие переводы делаются не с китайского, а с обычного французского.
Вокруг ее сосцов, ставших дерзкими и ярко-алыми, росли тонкие черные волоски, которые тоже исчезнут, сказала она, поскольку признаны unschicklich. Где она подхватила, гадал Ван, это омерзительное словцо? Грудь у нее стала совершенной, белой и тяжелой, но ему отчего-то больше нравились маленькие мягкие припухлости ранней Ады, с их еще бесформенными тусклыми бутонами.
Он узнал памятную, неповторимую, дивную впалось ее плоского живота, его обольстительную «игру», открытое и живое выражение косых мышц и «улыбку» пупка – заимствуя термины из лексикона танцовщиц живота.
В один из дней он прихватил с собой бритвенные принадлежности и помог ей выполоть все три участка телесной поросли:
«Сегодня я Шахерез, – сказал он, – а ты его Ада, и это твой зеленый молитвенный коврик».
Их посещения островка тем летом навсегда остались в памяти безнадежно сплетенными вместе. Годы спустя они видели себя стоящими там в обнимку, прикрытыми лишь подвижной тенью листвы и глядящими, как красная лодка, по борту которой играет рябь, уносит их прочь, все дальше, машущих, машущих платками; и эта загадка нарушенной последовательности событий только усиливалась тем, что лодка возвращалась к ним обратно, продолжая при этом удаляться, что весла были преломлены световой рефракцией, а солнечные блики бежали не в ту сторону, напоминая стробоскопический эффект спиц, вращающихся против движения колес проходящей мимо процессии. Само время подшутило над ними, заставив одного задать оставшийся в памяти вопрос, а другого ответить что-то позабытое, и однажды в ольховых зарослях, отраженных черными тенями на голубой глади реки, они нашли подвязку, безусловно ее, она не могла не согласиться с этим, но Ван был уверен, что Ада никогда не надевала подвязок в те голоногие летние вылазки на зачарованный остров.
Ее прекрасные сильные ноги, возможно, стали длиннее, но все еще сохраняли бледный лоск и гибкость ее отроческих лет: она по-прежнему могла посасывать большой палец собственной ноги. На подъеме правой ступни и на внешней стороне левой кисти у нее были такие же мелкие, довольно хорошо спрятанные от посторонних глаз, но нестираемые и священные родинки, какими природа отметила и его правую руку и левую ступню. Время от времени она покрывала ногти «Шахерезадой» (донельзя нелепая мода восьмидесятых годов), однако была неряшлива и забывчива по части ухода за собой, так что лак шелушился, оставляя неблаговидные прогалинки, и Ван уговорил ее вернуться в прежнее «монохромное» состояние. Взамен он купил в Ладоре (довольно фешенебельный курортный городок) цепочку текучего золота, которой украсил ее лодыжку, но она потеряла ее во время одного из их пылких свиданий и неожиданно разрыдалась, когда он сказал: ничего, другой любовник однажды отыщет ее для тебя.
Ее ум, ее гений. Она, конечно, переменилась за четыре прошедших года, но и он менялся совпадающими с ее стадиями, так что их мысли и чувства были настроены в унисон и должны были оставаться такими всегда, несмотря на все разлуки. Они уже не походили на дерзких Wunderkind’ов образца 1884 года, но в книжных познаниях оба еще дальше ушли от своих сверстников, чем в детские годы, так далеко, что и фигурок не разглядеть. Говоря же языком формуляров, Ада, родившаяся 21 июля 1872 года, уже закончила частную школу, а Ван, будучи на два с половиной года старше ее, к концу 1889 года надеялся получить степень магистра. Игривый блеск ее речи, пожалуй, несколько потускнел, и уже можно было заметить, по крайней мере задним числом, первую легкую тень того, что она позже назовет «моей пустоцветностью»; вместе с тем ее природный ум сделался глубже, а удивительные «сверхэмпирические» (как их называл Ван) скрытые идеи и представления, казалось, внутренне удвоились, обогатив даже наипростейшее выражение ее простейших мыслей. Она читала с той же, как и он, жадностью и неразборчивостью, но теперь у каждого завелся более или менее любимый питомец, у него – террологическая область психиатрии, у нее – драма (особенно русская), – что в случае Ады он находил слишком банальным выбором и надеялся лишь на то, что эта прихоть ей скоро наскучит. Ее флоримания, увы, все так же буйно цвела, правда, после того, как д-р Кролик (в 1886 году) умер у себя в саду от сердечного удара, она сложила всех своих живых куколок в его открытый гроб, где ученый лежал, по ее словам, такой же пухлый и розовый, как in vivo.
Теперь, в пору своей юности, во всех иных отношениях безрадостной и нерешительной, Ада-любовница стала еще даже более требовательной и отзывчивой, чем то было в дни ее ненормально пылкого детства. Д-р Ван Вин, усердный исследователь историй болезней, не смог отыскать в своей картотеке, среди досье совершенно здоровых английских девочек, лишенных преступных наклонностей, не страдающих нимфоманией, умственно развитых и духовно благополучных, никого, с кем можно было бы сравнить страстную двенадцатилетнюю Аду, притом что великое множество похожих на нее девочек расцветали и отцветали в старых замках Франции и Эстотиландии, как о том повествуют велеречивые романы и сенильные мемуары. Свою собственную страсть к ней Ван находил даже еще менее поддающейся изучению и анализу. Вспоминая, коитус за коитусом, свои посещения «Виллы Венус» или еще более ранние визиты в плавучие бордели Ранты или Ливиды, он всякий раз отмечал, что его отклик на близость Ады оставался неизменным, не похожим ни на какую другую близость, поскольку простое скольжение ее пальца или губ вдоль его вздувшейся вены вызывало в нем не только несравнимо более мощную, но в принципе иную delicia, чем самое медленное «уинслоу» самой искушенной юной гетеры. Что же в таком случае поднимало животный акт в сферы даже более высокие, чем те, коих достигают выразительные и точные произведения искусств или необузданные порывы чистой науки? Было бы недостаточно сказать, что соитие с Адой открыло ему отчаяние, огонь, агонию высшей «реальности». Реальность, лучше сказать, утратила кавычки, которыми она снабжена, как когтями, – в мире, где независимые и оригинальные умы должны следовать ходу вещей или нарушить его, чтобы предотвратить безумие или смерть (эту госпожу безумия). Один или два спазма ничем ему не угрожали. Новая обнаженная реальность не нуждалась в щупальце или якоре; она возникала всего на миг, но зато ее можно было вызвать столько раз, сколько они физически могли отдаться друг другу. Краска и пламя этой мгновенной реальности определялась исключительно личностью Ады в его восприятии; она не имела ничего общего с добродетелью или тщеславием добродетели в широком смысле, – сверх того, Вану позднее казалось, что в пылу того лета он все время знал, что и теперь, и раньше Ада отвратительно изменяла ему, – так же точно, как и она знала, что в пору их разлуки Ван не раз пользовался живыми механизмами, которых возбужденные самцы могут нанять на несколько минут, как то описано в богато иллюстрированной ксилографиями и дагерротипами трехтомной «Истории проституции», прочитанной ею лет в десять или одиннадцать между «Гамлетом» и «Микрогалактиками» капитана Гранта.
Для всех тех ученых мужей, которые прочитают эти запретные мемуары с тайной судорогой (они ведь не истуканы) в неприметных расселинах библиотек, где набожно сберегаются словоблудные, жестяно-жюстинные, болтливо-инвалидные опусы претенциозных порнографистов, хочу прибавить на полях гранок, героической правке которых дряхлый старик отдает все свои силы (эти длинные, скользкие змеи – последнее испытание писателя, после стольких других напастей и скорбей), еще несколько <конец предложения написан неразборчиво, но, к счастью, следующий пассаж нацарапан на отдельном листке блокнота. Примеч. Ред.>.
…относительно восхищения ее самостью. Тем ослам, которые полагают, будто в звездном сиянии вечности моя, Вана Вина, и ее, Ады Вин, связь – где-то в Северной Америке, в девятнадцатом столетии – представляет собой не более чем одну триллионную от триллионной части крохотной, как булавочная головка, общей значимости нашей планеты, оставляю реветь ailleurs, ailleurs, ailleurs (русское слово не обладает требуемым ономатопоэтическим элементом; старый Вин милосерден), поскольку восхищение ее самостью, помещенное под микроскоп реальности (которая является единственной реальностью), открывает сложную систему тех тонких мостков, по которым чувства – смеясь, обнимаясь, бросая на воздух цветы – проходят между мембраной и мозгом и которые всегда были и есть формой памяти, даже в момент восприятия. Я слаб. Я так плохо пишу. Я могу умереть этой ночью. Мой волшебный ковер больше не скользит над балдахином древесных крон, над разинувшими клювы птенцами и над ее редкостными орхидеями. Вставить.
36
Педантичная Ада однажды заметила, что поиск слов в лексиконах для любых других нужд, кроме образовательных или творческих, это занятие, находящееся где-то между декоративным подбором цветов (в чем еще можно усмотреть, признала она, толику девичьего романтизма) и составлением аппликаций из разрозненных крылышек бабочек (в чем не проявляется ничего, кроме дурного вкуса, а порой и злодейской наклонности). Per contra, внушала она Вану, вербальные шапито, «дрессированные словечки», «пудели-овечки» и тому подобное, могут быть оправданы самим качеством умственной работы, необходимой для создания выдающегося логогрифа или вдохновенного каламбура, и не должны исключать помощи словаря, неприветливого или услужливого.
Вот отчего она ценила «Флавиту». Название восходило к «алфавиту», старинной русской игре случая и сноровки, построенной на столкновении и составлении слов. Она распространилась по всей Эстотии и Канадии около 1790 года, в начале девятнадцатого века вновь была введена в моду «Мадхэттерами» («безумными шляпниками»), как некогда называли жителей Нового Амстердама, затем, после короткого затишья, около 1860 года прогремела с новой силой и теперь, еще столетие спустя, изобретенная безвестным гением заново и совершенно независимо от оригинальной ее версии или версий, все так же популярна, как мне сказали, под названием «Скрэббл».
Ее главная русская версия, в которую в детские годы Ады игрывали в богатых усадьбах, требовала 125 шашек, означенных определенной буквой. На доске из 225 клеток следовало составлять ряды и колонны слов, причем 24 клетки были шоколадного цвета, 12 – черного, 16 – оранжевого, 8 – красного, а остальные – золотисто-желтого (т. е. флавинового, отвечающего изначальному названию игры). Каждая буква русской азбуки имела свою стоимость – число очков: редкая русская «ф», к примеру, приносила игроку десять очков, легкоприменимая «а» – всего одно. Попадание на шоколадную клетку удваивало стоимость буквы, а черный цвет – утраивал ее. Оранжевые участки удваивали сумму очков всего слова, а красные клетки – утраивали. Позже Люсетта вспоминала, как в сентябре 1888 года, в Калифорнии, когда она дрожала от лютой стрептококковой горячки, у нее в полубреду пухла голова от непомерно выраставших достижений ее сестры по удвоению, утроению и даже удевятирению (при прохождении слова через две красные клетки кряду) числовой ценности ловко составленных терминов.
Игроки набирали по семь шашек из ларчика, в котором они лежали лицевой стороной вниз, и затем по очереди начинали выставлять свои слова на доске. Чтобы сделать первый ход, игрок должен был поставить любые две или все семь своих букв в линию, проходящую через срединную клетку, отмеченную горящим гептагоном. Следующий игрок должен был использовать любую букву этого начального слова для создания собственного, вертикально или горизонтально расставляя свои шашки. Цепная реакция продолжалась до конца игры, в которой побеждал тот, кто набирал, буква за буквой и слово за словом, больше всего очков.
Изысканный набор, полученный тремя нашими детьми в 1884 году от старинного друга семьи (как называли бывших любовников Марины) барона Клима Авидова, состоял из большой складной сафьяновой доски и ларчика с тяжеленькими эбеновыми плиточками, инкрустированными платиновыми литерами, из которых лишь одна была латинской, а именно буква «J», украшавшая только две джокерные шашки (счастливчик, получивший хотя бы одну из них, трепетал, как обладатель чека без указания суммы, подписанного джинном или Дзюродзином). То был, между прочим, тот самый добродушный, но вспыльчивый г-н Авидов (помянутый во множестве пикантных мемуаров тех лет), который однажды в «Грице», Venezia Rossa, импульсивным апперкотом катапультировал в каморку привратника одного незадачливого английского туриста, позволившего себе ироничное замечание, что весьма находчиво, дескать, поступают иные, отнимая у своего имени первую букву, дабы использовать ее в качестве particule.
К июлю от десяти «А» осталось девять, а из четырех «Д» сбереглось три. Утерянная «А» все же была найдена в толстой Античной Антологии, но «Д» исчезла бесследно, повторив участь своего апострофического двойника, как то представлялось Волтеру С. Киваю, эсквайру, за миг до того, как он с двумя непроштемпелеванными открытками влетел в объятия онемевшего полиглота в сюртуке с латунными пуговицами. Остроумие Винов (замечает Ада на полях) не знает пределов.
Первоклассного шахматиста Вана (в 1887 году он выиграл турнир в Чузе, разгромив уроженца Минска Пэта Рицина, чемпиона Андерхилла и Вильсона, Северная Каролина) удивляла неспособность Ады подняться в своей, так сказать, игре странствующей девы над уровнем юной леди из старого романа или из какой-нибудь цветной фоторекламы, превозносящей средство от перхоти: красавица-манекенщица, сотворенная вовсе не для шахматных утех, пристально глядит на плечо своего во всех иных отношениях безукоризненно ухоженного соперника, сидящего по ту сторону нелепого нагромождения белых и ярко-красных фигур, до неузнаваемости прихотливо вырезанных коней и слонов от фирмы «Лалла-Рук», которыми и кретины не захотели бы играть, даже если бы им щедро заплатили за профанацию наипростейшей мысли под наизудливейшим скальпом.
Время от времени Аде удавалось выстроить в уме комбинацию с жертвой фигуры, к примеру ферзя, взяв которого противнику через два-три хода пришлось бы сдаться; но она видела лишь одну сторону дела, в странной апатии заторможенного обдумывания предпочитая игнорировать очевидную контркомбинацию, ведущую к ее неотвратимому поражению, если великая жертва не будет принята. Но за доской «Скрэббла» та же порывистая и слабая Ада превращалась в разновидность очаровательной вычислительной машины (наделенной к тому же феноменальным везением), намного превосходящей озадаченного Вана в сообразительности, прозорливости и умении обходиться скудными средствами, когда аппетитно-длинные слова складывались из самых неприглядных косточек и крох.
Он находил «Скрэббл» довольно утомительной забавой и под конец составлял слова торопливо и небрежно, не снисходя до уточнения в своем верноподданном словаре «редк.» или «устар.», но вполне допустимых терминов. Что же касается самолюбивой, несведущей и вскидчивой Люсетты, то Вану приходилось потихоньку подсказывать ей, даже двенадцатилетней, главным образом ради ускорения развязки и приближения блаженного мига, когда ее уведут в детскую, сделав Аду доступной для короткого дуэта – в третий или четвертый раз за дивный летний день. На него навевали смертную скуку пререкания сестер о законности того или иного слова: имена собственные и географические названия не допускались, но возникали спорные случаи, кончавшиеся бесконечным разочарованием, и что за душераздирающее зрелище являла собой Люсетта, сжимавшая свои последние пять букв (при пустом уже ларчике), образующие чудесное, роскошное АРДИС, означающее, как рассказала ей гувернантка, «острие стрелы», – но, увы, только по-гречески!
Особенно допекали его гневные или презрительные поиски сомнительных слов в груде словарей, сидящих, стоящих или развалившихся вокруг девочек – на полу, под стулом, на который Люсетта забралась с ногами, на диване, на большом круглом столе с флавитовой доской и на соседнем с ним комоде. Распря между недоумком Ожеговым (большой, синий, дурно переплетенный том, содержащий 52 872 слова) и маленьким, но воинственным Эдмундсоном в почтительной версии д-ра Гершчижевского, безмолвие идиотских сокращенных изданий и невиданная щедрость четырехтомного Даля («Дорогая моя далия», стонала Ада, отыскав у застенчивого, долгобородого этнографа отжившее жаргонное словечко) – все это было бы нестерпимой докукой для Вана, кабы его, как человека ученого, не обожгло сделанное им открытие занятного сродства «Скрэббла» со спиритической планшеткой. Впервые он обратил на это внимание августовским вечером 1884 года на балконе детской, под закатным небом, последнее пламя которого змеилось по краю водоема, поощряя последних стрижей и насыщая краской медные кудри Люсетты. Сафьяновая доска была раскрыта на испещренном кляксами, монограммами и зазубринами сосновом столе. Хорошенькая Бланш, мочка уха и ноготь большого пальца которой тоже были тронуты вечерним кармином, благоухая «Горностаевым мускусом», как служанки называли эти духи, принесла пока еще ненужную лампу. Бросили жребий, ходить выпало Аде, и она принялась машинально и бездумно набирать семь своих «фаворитиков» из открытого ларца, в котором шашки покоились лицевой стороной вниз, каждая в своей отдельной ячейке из флавинного бархата, являя игрокам лишь анонимные черные спинки. Набирая, Ада между прочим говорила: «Я бы предпочла здесь лампу Бентена, но в ней вышел керосин. Тушка (к Люсетте), будь другом, кликни ее… святые угодники!»
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?