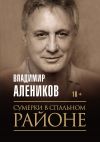Текст книги "Ада, или Отрада"

Автор книги: Владимир Набоков
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 51 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
«Ван… – начал Демон и умолк, как уже начинал и не раз останавливался в последние годы. Однажды это придется сказать, но сейчас не самый удачный момент. Он вставил монокль и принялся изучать бутылки. – Что ж, сын мой, не желаешь ли ты испить какой-нибудь из этих аперитивов? Отец разрешал мне бокал “Лиллетовки” или той “Иллинойской бурды”, не вермут, а муть, антрану свади, как сказала бы Марина. Подозреваю, что в кабинете твоего дядюшки есть тайник, где за соландерами хранится виски почище этого usque ad Russkum. Хорошо, давай выпьем коньяку, как и было задумано, ведь ты не filius aquae?»
(Каламбур вышел сам собой, Демона несло, и он невольно сказал бестактность.)
«Я предпочитаю кларет. Потом налягу на “Латур”. Нет, я определенно не абстинент, да к тому же водопроводная вода в Ардисе оставляет желать лучшего».
«Я просто обязан заметить Марине, – сказал Демон, прополоскав десны и медленно сглотнув, – что ее мужу не следует хлестать можжевеловку и лучше держаться французских и калифранцузских вин, памятуя о том ударчике, который он недавно перенес. На днях я встретил его в городе, возле Мэд-авеню: гляжу, идет в мою сторону, довольно бодро, но едва он меня увидел, за квартал, завод у него начал слабеть, и он, сделав несколько шагов, беспомощно стал на месте, так и не дойдя до меня! Не думаю, что это нормально. Ну да ладно. Пусть наши милашки никогда не встретятся, как мы говорили в Чузе. Только юконцы думают, что коньяк вредит печени, ведь у них, поди, ничего, кроме водки, нет. Что ж, я рад, что ты так сдружился с Адой. Это хорошо. Только что в галерее я столкнулся с очень соблазнительной субреткой. Она ни разу не подняла своих длинных ресниц и отвечала по-французски, пока я – Пожалуйста, сынок, сдвинь эту ширму чуть в сторону, вот так, закатный клинок, особенно из-под грозовой тучи, не для моих бедных зениц. Или бедных сердечных желудочков. Тебе нравятся такие, Ван: склоненная головка, голая шея, высокие каблучки, торопливая походка, покачиванье бедер? Нравятся, скажи?»
«Знаете, сэр —»
(Сказать, что состою в клубе «Венера», будучи его самым молодым членом? Он тоже состоит? Подать знак? Пожалуй, не стоит. Придумать.)
«Собственно, я сейчас прихожу в себя после пылкого романа в Лондоне со своей партнершей по танго. Ты видел, как я с ней танцую, когда прилетал на последнее выступление, помнишь?»
«Еще бы. Забавно, что ты это так назвал».
«По-моему, сэр, вам уже довольно бредней».
«Хорошо, хорошо, – ответил Демон. Его одолевала одна деликатная проблема, которая была вытеснена из сознания Марины лишь бестолочью родственной догадки, хотя она могла проникнуть в него через какую-нибудь заднюю дверь; ибо бестолочь всегда синонимична толчее, и нет ничего полнее пустого ума. – Конечно, – продолжал Демон, – спорить о пользе летнего отдыха в деревне не приходится…»
«Жизнь на вольном воздухе и все такое», поддакнул Ван.
«Неслыханно, чтобы юнец следил за тем, сколько выпил его отец, – заметил Демон, наливая себе четвертую рюмку. – С другой стороны, – вернулся он к своей мысли, мелкими глотками опустошая хрупкий сосуд с тонкой ножкой и золотым ободком, – жизнь на вольном воздухе может показаться довольно унылой без летнего романа, а здешние холмы, согласен, редко посещают подходящие молодые особы. Есть, правда, та прелестная дочка Эрминина, une petite juive très aristocratique, но она, сколько знаю, обручена. Между прочим, мадам де Пре сказала мне, что ее сын записался добровольцем и скоро примет участие в той скверной заграничной авантюре, в которую нашей стране не стоило ввязываться. Любопытно, есть ли другие воздыхатели, которые останутся после его отъезда?»
«Господь с тобой, нет, – ответил честный Ван. – Ада вовсе не легкомысленная девица, у нее нет ухажеров – кроме меня, ça va seins durs. Ах, кто же, кто, папа, сказал так, вместо “sans dire”?»
«Да! Кинг Винг! В ответ на мой вопрос, как ему нравится его жена француженка. Что ж, превосходно – я об Адушке. Ты говоришь, она любит лошадей?»
«Она любит все то, что любят наши красавицы – балы, орхидеи, “Вишневый сад”».
Тут в комнату вбежала сама Адушка. Да-да-да, вот и я! Лучезарна!
Старый Демон, с горбом радужных крыл, привстал и тут же снова сел, обнимая Аду одной рукой, держа в другой свою рюмку, целуя девушку в шейку, в волосы, впитывая ее свежесть с таким пылом, какого не ждешь от дядюшки. «Ура! – крикнула она (и это вырвавшееся из ее детства восклицание вызвало в Ване умиленiе, melting ravishment, attendrissement, даже большее, чем, казалось, испытывал его отец). – Как здорово, что ты добрался до нас! Раздирая тучи! Ухнув вниз на Тамарин замок!»
(Лермонтов в пересказе Лоудена.)
«В последний раз, – сказал Демон, – я имел удовольствие видеть тебя в апреле. Ты была в плаще и черно-белом шарфе, и от тебя разило какой-то мышьяковой дрянью после дантиста. Ты будешь рада узнать, что доктор Жемчужников женился на своей секретарше. А теперь к делу, душа моя. Я не против твоего платья (черное, облегающее, без рукавов), я готов смириться с тем, как романтично убраны твои волосы, я не стану особенно возражать против “лодочек” на босу ногу, твои духи “Beau Masque” – passe encore, но, сокровище мое, я презираю и попросту отвергаю эту багрово-синюю краску на губах. Очень может быть, что в старой доброй Ладоре такой тон в моде, но точно не в Мане или Лондоне».
«Ладно», сказала Ада и, показав свои крупные зубы, с силой вытерла губы крошечным платком, вынутым из-за пазухи.
«И это тоже провинциально. Тебе следует носить черный шелковый ридикюль. А сейчас вы увидите, какой из меня прорицатель: ты мечтаешь стать концертной пианисткой!»
«Вот уж, – сказал Ван с негодованием. – Ничего подобного. Да она ни единой ноты не может взять!»
«Ну нет так нет, – сказал Демон. – Наблюдательность не всегда мать дедукции. Впрочем, я не вижу ничего непристойного в платочке, брошенном на “Бехштейне”. А отчего ты, любовь моя, так зарумянилась? Позвольте мне процитировать несколько строк ради “комической разрядки”:
Lorsque son fi-ancé fut parti pour la guerre
Irène de Grandfief, la pauvre et noble enfant,
Ferma son pi-ano… vendit son éléphant.
Огородное (благородное) “дитя” имеется в оригинале, а вот слон – это мой вклад».
«Да что ты!» – смеясь, воскликнула Ада.
«Наш великий Коппе, – сказал Ван, – конечно, безнадежен, но у него есть один прелестный стишок, который Ада де Грандфиф, присутствующая здесь, несколько раз перевела с большим или меньшим успехом».
«Ах, Ван!» – вставила Ада с игривым лукавством, ей несвойственным, и зачерпнула горсть соленого миндаля.
«Послушаем, послушаем», оживился Демон, беря орешек из ее сложенной ковшиком ладони.
Точная согласованность движений, искренняя радость семейного единения, никогда не спутывающиеся нити марионеток – все это легче описать, чем вообразить.
«Только самые крупные и безжалостные художники, – сказал Ван, – могут пародировать старые повествовательные приемы, а переложение известнейших стихотворений можно простить лишь своим близким. Позвольте мне предварить результат, полученный кузиной – кузиной вообще, так сказать, – пушкинской строчкой, которую я хочу привести ради звучной рифмы —»
«Ради ползучей рифмы! – воскликнула Ада. – Перевод, даже моей выделки, подобен превращению гюрзы в кирказон – все, что осталось от изысканной аристолохии».
«И того, что осталось, – сказал Демон, – предостаточно для моих скромных нужд и таковых же моих маленьких друзей или подруг».
«Итак, – продолжил Ван (пропуская мимо ушей неприличный, на его взгляд, намек, поскольку жители Ладоры исстари применяли это злополучное растение не столько против змеиных укусов, сколько для облегчения родов очень юных матерей и называли его “целовником”), – стихи на случай сохранились. Я их имею. Вот они: “Leur chute est lente” – воротились…»
«О да, ко мне-то воротились, – перебил Демон. —
Leur chute est lente. On peut les suivre
Du regard en reconnaissant
Le chêne à sa feuille de cuivre
L’érable à sa feuille de sang.
Дивная вещица!»
«Да. Это Коппе, а теперь кузина, – сказал Ван и продекламировал:
Роняет лес убор. Скажи нам,
Масть различишь ты на лету?
Лист клена – по багровым жилам,
А дуб – по медному листу?»
«Фу!» – выдохнула версификаторша.
«Вовсе нет! – воскликнул Демон. – Эта “масть” отличная находка, душа моя».
Он потянул ее к себе, она присела на подлокотник его Klubsessel, и он присосался толстыми влажными губами к ее горящему красному уху, полускрытому густыми черными прядями. Ван ощутил дрожь удовольствия.
Наступил черед Марины явиться на сцене, что она и сделала в волшебной игре светотени – платье с блестками, лицо слегка не в фокусе, к чему стремятся все немолодые звезды, обе руки вытянуты вперед. За ней следовал Джонс, несший два канделябра с горящими свечами и старавшийся короткими пинками держать позади рвавшийся из тени коричневый клубок, сохраняя при этом подобающий торжественному моменту вид.
«Марина!» – воскликнул Демон без большого воодушевления и присел с ней на кушетку, похлопывая ее по руке.
Ритмично отдуваясь, Джонс поставил на столик с мерцающими горячительными напитками один из своих изысканных, обвитых драконом канделябров и направился было с его парой к тому месту, где Демон и Марина уже завершали приветственную прелюдию, но хозяйка поспешно указала ему на подставку, в стороне от нее, рядом с полосатой рыбкой. Все так же шумно дыша, он задернул шторы, поскольку ничего, кроме живописных развалин, не осталось от прошедшего дня. Джонс был новым слугой, очень толковым, важным и степенным, и кое-кому пришлось постепенно свыкнуться с его манерами и отдышкой. Пройдут годы, и он окажет мне услугу, которой я никогда не забуду.
«Она – jeune fille fatale, белокожая, роковая красавица», конфиденциально говорил Демон своей бывшей любовнице, нисколько не беспокоясь о том, что эти слова может услышать предмет его хвалы (а она слышала) в другом конце комнаты, где Ада помогала Вану загнать пса в угол, бесстыдно выставляя напоказ свои голые ляжки. Наш старый дружок, возбужденный воссоединением не меньше прочих членов семьи, примчался следом за Мариной, держа в довольной пасти отороченную горностаем домашнюю туфлю. Утащенный предмет принадлежал Бланш, которой было велено залучить Дака в ее комнату, но которая, как всегда, неплотно закрыла дверь. Аду и Вана одновременно пронзило чувство déjà-vu, в сущности, двойного déjà-vu, с точки зрения художественной ретроспекции.
«Пожалста, без глупостей, особенно devant les gens, – сказала глубоко польщенная Марина (отчетливо произнеся последнее “s”, как делали ее гранд-дамы); и когда неспешный рыбогубый слуга ушел, унося лежащего навзничь, крутогрудого Дака с его трогательной меховой игрушкой, продолжила: – В самом деле, по сравнению с местными барышнями, с Грейс Эрмининой, к примеру, или Кордулой де Пре, Ада – тургеневская девушка или даже девица Джейн Остин».
«На самом деле я Фанни Прайс», отозвалась Ада.
«В сцене на лестнице», добавил Ван.
«Не обращай внимания на их частные шуточки, – сказала Марина Демону. – Никогда не понимала их игр и секретиков. Мадемуазель Ларивьер, впрочем, сочинила отличный сценарий о загадочных детях, занимающихся престранными вещами в старых парках; но не позволяй ей говорить о своей литературной славе – прожужжит все уши».
«Надеюсь, твой муж не слишком задержится, – сказал Демон. – После восьми вечера, летом, от него, знаешь, проку мало. Кстати, как Люсетта?»
В эту минуту Бутейан торжественно распахнул обе створы дверей, и Демон калачикомъ подал Марине руку. Ван, на которого в присутствии отца находило желание паясничать, тоже предложил Аде руку, но она шлепком отстранила его кисть с сестринским sans-gêne, с которым Фанни Прайс едва бы согласилась.
Другой Прайс, трафаретный, слишком трафаретный старый слуга, которого Марина (вместе с Г. А. Вронским, в пору их короткого романа) прозвала почему-то Грибом, поставил во главе стола ониксовую пепельницу для Демона, по обыкновению своих русских предков любившего выкурить папиросу между переменой блюд. Приставной столик был заставлен, тоже на русский манер, множеством красных, черных, серых, бежевых закусок – салфеточная икра была отделена от горшочка с икрой свѣжей сочной мясистостью маринованных грибов, «белых» и «подберезовиков», в то время как розовая плоть копченого лосося соперничала с алыми ломтями вестфальской ветчины. На отдельном подносе поблескивали по-разному окрашенные водочки. Французская кухня была представлена chaud-froids и foie gras. За открытым окном в черной неподвижной листве с пугающей скоростью стрекотали сверчки.
Начался – дабы продолжить свойственную романам обстоятельность изложения – долгий, веселый, изысканный ужин, и хотя разговор состоял по большей части из семейных острот и занятных банальностей, этому семейному собранию суждено было остаться в памяти не слишком приятным, вовсе не безмятежным, но до странности значительным переживанием. Ван дорожил им точно так же, как тем чувством, какое возникает, когда влюбляешься в картину, забредя в пинакотеку, или вспоминаешь оставленное сном настроение, детали сна, многозначительное богатство красок и абрисов в бессмысленном видении. Следует отметить, что в тот самый вечер никто, даже читатель, даже Бутейан (раскрошивший, увы, ценную пробку) не был на высоте. Застолье отдавало фарсом и фальшью, которые портили его, мешая ангелу, если только ангелы могут посещать Ардис, чувствовать себя вполне вольготно; и все же, то было дивное представление, пропустить которое не захотел бы ни один художник.
Белизна скатерти и пламя свечей привлекали мотыльков, пугливых или порывистых, среди которых Ада, следуя указаниям призрака, не могла не распознать многих своих старых знакомых «чешуекрылок». Белесые незваные гости, жаждущие расправить крылышки на какой-нибудь блестящей поверхности; завсегдатаи галерки, под самым потолком, в купеческих мехах; густо заросшие распутники с пушистыми усиками; и – гроза вечеринок – бражники, с красными брюшками, обтянутыми черными поясками, – все они, праздно парящие или шныряющие, беззвучные или шуршащие, влетали в столовую из непроглядной тьмы душной ночи.
Да не забудем мы, никогда не забудем, что стояла сырая и душная темная ночь в середине июля 1888 года, что дело было в Ардисе, графство Ладора, что вкруг овального стола, блиставшего цветами и хрусталем, расположилась семья из четырех человек, и то вовсе не была сцена спектакля, как могло бы показаться, нет, должно было показаться зрителю (с фотокамерой или программкой), сидящему в бархатной яме сада. Со времени окончания трехлетнего романа Марины и Демона прошло уже шестнадцать лет. В то время антракты разной продолжительности – двухмесячный перерыв весной 1870 года и еще, почти вдвое дольше, в середине 1871 года – лишь обостряли нежность и боль. Ее заметно огрубевшие черты, ее наряд, это платье в блестках, мерцающая сетка на ее крашеных, землянично-русых волосах, рыжая от солнца грудь и мелодраматический макияж, с преизбытком охряных и кирпичных тонов, все это даже отдаленно не напоминало мужчине, некогда любившему ее пронзительней всех других женщин, с которыми он когда-либо сходился, напора, обаяния, лиризма, отличавших красоту Марины Дурмановой. Он был огорчен этим – это полное крушение прошлого, разброд его странствующего двора и музыкантов, логическая невозможность соотнести сомнительную реальность настоящего с бесспорной явью воспоминаний. Даже снедь на закусочномъ столѣ Ардис-Холла и обеденная зала с расписными потолками не имели ничего общего с их petits soupers, хотя, видит Бог, тремя главными кушаньями в зачине обеда для него всегда оставались молодые соленые грибы, с их плотно сидящими, глянцевитыми, желтовато-коричневыми шлемами, серый бисер свежей икры и гусиный паштет, нашпигованный пиковыми тузами перигорских трюфелей.
Демон отправил в рот последний ломтик черного хлеба с упругой лососинкой, хлопнул последнюю рюмку водки и занял свое место в другом конце овального стола, напротив Марины, за большой бронзовой чашей, наполненной как будто гранеными кальвильскими яблоками и продолговатым виноградом «Персты». Спиртное, уже усвоенное его могучим организмом, как обычно, помогло ему снова открыть то, что он по-галльски называл «наглухо запертыми дверями», и теперь, бессознательно приоткрыв рот, как делают все мужчины, расправляя салфетку, он оглядывал претенциозно убранные ciel-étoilé волосы Марины и пытался вникнуть (в редкостном полном смысле этого слова) в тот факт, пытался овладеть (пропустив его через саму сердцевину своего чувствилища) тем очевиднейшим обстоятельством, что вот перед ним женщина, которую он любил без памяти, которая любила его истерично и своенравно, которая желала предаваться утехам на коврах и подушках, разбросанных на полу («как делают все респектабельные люди в долине Тигра и Евфрата»), которая могла со свистом нестись по снежным склонам на бобслейных санях всего через две недели после родов или примчаться Восточным экспрессом (с пятью сундуками, прародителем Дака и служанкой) в ospedale д-ра Стеллы Оспенко, где он оправлялся от царапин и порезов после дуэли на шпагах (и теперь еще можно было разглядеть под восьмым ребром беловатый рубец, а ведь прошло без малого семнадцать лет). Как странно, что встреча спустя годы с давним другом или толстой теткой, которую обожал в детстве, тут же возрождает нетронутую человеческую приязнь былой дружбы, но со старой любовницей такого никогда не происходит – в акте всеобщего уничтожения душевная составляющая привязанности как будто сметается прочь вместе с сором бездушной страсти. Он взглянул на нее и признал, что потаж восхитителен, а что касается ее самой, этой скорее коренастой женщины, бесспорно, добросердечной, но беспокойной и недовольной, с лицом, покрытым каким-то коричневатым маслом, придававшим коже, по ее мнению, естественную «моложавость», не то что мертвящая пудра, то она была ему еще даже более чужим человеком, чем Бутейан, который однажды вынес ее на руках из ладорской виллы и отнес в таксомотор, когда она разыграла обморок после окончательной, самой последней ссоры, накануне ее свадьбы.
Марина, будучи, в сущности, манекеном в человеческом обличье, подобных состояний растерянности не знала, лишенная того тайновиденья (индивидуальное, волшебно-подробное воображение, создающее мысленные образы), которым бывают наделены во всех иных отношениях заурядные, живущие по общим правилам люди, но без которого память (даже у проницательного «мыслителя» или гениального техника) представляет собой, говоря по совести, всего лишь шаблон или отрывной листок календаря. Мы вовсе не хотим судить Марину слишком строго; в конце концов, ее кровь пульсирует в наших запястьях и висках, и многие наши причуды унаследованы от нее, не от него. И все же мы не можем смириться с ее душевной грубостью. Сидевший во главе стола мужчина, связанный с нею веселыми юными отпрысками, «юношей» (как киношники называют актеров, исполняющих роли молодых людей), по правую руку от Марины, и «инженю» по левую, ничем не отличался от того Демона, в том же самом, кажется, черном смокинге (разве что без гвоздики, подхваченной им, по-видимому, из вазы, принесенной Бланш из галереи), который сидел рядом с ней на прошлом рождественском ужине у Праслиных. Зиянье пропасти, ощущаемое им при каждой встрече с ней, то жутковатое «изумленье жизни», с ее экстравагантным нагромождением геологических разломов, нельзя было преодолеть тем, что она принимала за пунктирную линию их случайных встреч: «бедняжка» Демон (все ее соложники выходили в отставку в этом звании) представал перед ней как безобидный дух в театральных залах, «между зеркалом и веером», или в гостиных общих друзей, или однажды в Линкольн-парке, где он указывал тростью на синезадую обезьяну и не поклонился Марине по правилам beau monde, поскольку его спутницей была кокотка. Еще глубже, совсем глубоко, безопасно преображенный ее оболваненным экраном рассудком в банальную мелодраму, хранился у нее в памяти трехлетний период горячечно разнесенных во времени и пространстве страстных свиданий с ним – «Пылкий роман» (название единственной ее картины, имевшей успех), объятия в дворцовых интерьерах, пальмы и лиственницы, его Слепая Преданность, его несносный характер, разлуки, примиренья, Голубые Экспрессы, и слезы, и предательство, и страх, и угрозы безумной сестры, пустые, конечно, но оставлявшие свои тигриные царапины на драпировке снов, особенно когда из-за сырости и мрака чувствуешь жар. И тень неумолимого возмездия на заднике (с нелепыми юридическими инсинуациями). Все это были лишь декорации, без труда упакованные, помеченные «Ад», и отправленные в пункт назначения; и очень редко возникало какое-нибудь напоминание, к примеру, в найденном оператором загадочном крупном плане двух левых ладоней, принадлежащих мальчику и девочке – чем-то они заняты? Марина уже не помнила (хотя прошло всего четыре года!), играли ли они à quatre mains? – нет, они не брали уроков фортепиано, – изображали, быть может, тень зайца на стене? – тепло, почти горячо, но тоже нет; измеряли что-то? Но что? Взбирались на дерево? На гладкий ствол дерева? Но где, когда? Однажды, мечталось ей, прошлое будет упорядочено. Отретушировано, переснято. Кое-что в картине следует подчистить, что-то добавить, устранить характерные потертости на эмульсии, использовать «наплыв» в той или иной череде эпизодов, незаметно сочетая его с удалением смущающих, нежелательных «кадров», и получить определенные гарантии. Да, однажды это должно быть сделано, пока смерть, хлопнув нумератором, не объявит: «Стоп! Снято!»
Тем вечером она ограничилась машинальным обрядом, состоявшим в том, чтобы подать Демону его любимые блюда, которые она, составляя меню, постаралась вспомнить (и ей это почти удалось): для начала зеленыя щи, ярко-зеленый суп из щавеля и шпината со скользким, вкрутую сваренным яйцом, а к нему – маленькие, обжигающие пальцы и тающие во рту пирожки (peer-rush-key, так произносится, и под этим названием они расхваливаются в этих краях испокон веков), с мясом, морковью или капустой. Затем, решила она, подать жаренного в сухарях судака с вареным картофелем, рябчиковъ, и той особой спаржи, безуханки, которая не влечет, по увереньям кулинарных книг, прустовских последствий.
«Марина, – негромко обратился к ней Демон, разделавшись с первой переменой. – Марина, – повторил он более зычно, – я вовсе не хочу (“far from me” – его любимый вводный оборот) обсуждать вкус Данилы по части белых вин или манер de vos domestiques. Ты ведь знаешь, меня мало заботят такого рода мелочи… (Неопределенный жест.) Но, дорогая, – продолжил он, переходя на русский, – человек, который подал мне пирожки, этот новый слуга, одутловатый такой, с глазами —»
«У всех есть глаза», неприязненно заметила Марина.
«Да, но его будто вот-вот по-осминожьи присосутся к еде, которую он приносит. Но дело не в этом. Он пыхтит, Марина! Он страдает чем-то вроде одышки. Ему следует обратиться к доктору Кролику. Это неприятно. Ритмично работающий насос. У меня суп от этого плескался в тарелке».
«Видишь ли, папа, – сказал Ван, – доктор Кролик мало что может сделать, поскольку, как ты отлично знаешь, он умер, а Марина не может запретить слугам дышать, поскольку, как ты тоже знаешь, они живы».
«Виновский юмор, виновский юмор», пробурчал Демон.
«Вот именно, – сказала Марина. – Я просто отказываюсь что-либо с этим делать. К тому же бедный Джонс вовсе не астматик, а только изо всех сил старается услужить. Он здоров как бык, если хочешь знать, и не раз этим летом катал меня на гребной лодке из Ардисвилля в Ладору и обратно, с явным удовольствием. Ты жесток, Демон. Не могу же я приказать ему: не пыхтите, как не могу сказать поваренку Киму, чтобы прекратил тайком фотографировать – этот Ким одержим своей камерой, хотя в остальном он милый, вежливый и честный мальчик. Не могу я запретить и моей горничной, малютке Франш, принимать приглашения на самые приватные ладорские bals masqués, на которые ее почему-то зовут снова и снова».
«Это любопытно», заметил Демон.
«Ах ты старый негодник!» – воскликнул Ван.
«Ван!» – сказала Ада.
«Я молодой негодник», вздохнул Демон.
«Скажите, Бутейан, – спросила Марина, – какое еще хорошее белое вино у нас есть, что предложите?» Дворецкий улыбнулся и назвал легендарную марку.
«Да, о да, – сказал Демон. – Ах, дорогая, ты не должна брать на себя все хлопоты по устройству званых обедов. Теперь о гребле, ведь ты упомянула греблю… Знаешь ли ты, что moi, qui vous parle, в 1858 году состоял в университетской сборной по гребле? Ван предпочитает футбол, но он только в команде колледжа, верно, Ван? Я, кроме того, лучше него играю в теннис, не в лаун-теннис, конечно, это забава для викариев, а в настоящий “королевский теннис” (“court tennis”), как его называют в Манхэттене. Что еще, Ван?»
«Ты и сейчас одолеешь меня в фехтовании, зато я лучше в стрельбе. Это не настоящий судак, папа, уверю тебя, хотя и вкусно».
(Марина, не успевшая вовремя раздобыть европейского судака, заменила его местным светлоперым сородичем, иначе называемым «dory», солнечник, – под соусом тартар и с вареным молодым картофелем.)
«Ах, – воскликнул Демон, испив “Рейнвейн лорда Байрона”. – Это белое искупает “Слезы Богородицы”. Я только что рассказывал Вану, – продолжил он, возвышая голос (он отчего-то полагал, что Марина стала туговата на ухо), – о твоем муже. Дорогая, он перестарался по части можжевеловой водки и определенно слегка не в себе, во всяком случае, ведет он себя престранно. На днях я прогуливался по Пат-лейн со стороны Четвертой авеню, и вот вижу, как он приближается ко мне, полным ходом, в своем жутком городском авто, этой доисторической бензиновой двухместке с румпелем вместо руля. И что же, завидев меня, еще издали, он махнул мне рукой, и вдруг несуразная его машина начала содрогаться и глохнуть и, наконец, остановилась прямо посреди дороги, на расстоянии в полквартала от меня. А Данила сидит в ней и так, знаешь, раскачивается, рывками, пытаясь сдвинуть ее, как ребенок, который не может тронуться с места на трехколесном велосипеде, и пока я шел в его сторону, я не мог отделаться от мысли, что это в нем самом что-то заело, не в его “Ортштейне”».
По доброте своего многоопытного сердца Демон не стал говорить Марине, что Дурак втайне от мистера Экса, своего советника-искусствоведа, за несколько тысяч долларов приобрел у карточного приятеля Демона (и с одобрения последнего) две поддельные картины Корреджо – дабы перепродать их по непростительно удачному стечению обстоятельств такому же дураку коллекционеру за полмиллиона, каковую сумму Демон отныне считал полученной кузеном ссудой, подлежащей безусловной выплате кредитору, то есть Демону, если здравый смысл чего-нибудь да стоит на нашей парной планете. Марина, со своей стороны, воздержалась от сообщения Демону о молодой сиделке Дана, с которой у него тянулась интрижка со времени его последнего госпитального обследования (то была, кстати сказать, та самая бесстыжая Бесс, к которой Дан по одному памятному случаю обратился с просьбой подыскать «что-нибудь милое для полурусской девочки, увлеченной биологией»).
«Vous me comblez, – сказал Демон, имея в виду бургундское, – правда, мой дед по материнской линии предпочел бы выйти из-за стола, чем смотреть, как я к gelinotte пью красное, вместо шампанского. Превосходно, дорогая моя (посылая воздушный поцелуй над пламенем и серебром стола)».
Жареные рябчики (или, точнее, их американские представители, называемые здесь «горной куропаткой» – mountain grouse) подавались с брусничным вареньем (брусника в этих краях звалась «горной клюквой» – mountain cranberries). В одном особенно сочном крылышке обглоданной Демоном румяной тушки ему на крепкий клык попалась дробинка: «La fève de Diane, – заметил он, осторожно кладя ее на край тарелки. – Как обстоят дела с автомобилем, Ван?»
«Не особенно хорошо. Я заказал “Роузли”, как у тебя, но его доставят не раньше Рождества. Хотел подыскать “Силентиум” с коляской, и ничего не вышло, потому что война, хотя остается загадкой, как война связана с мотоциклами. Но мы обходимся, Ада и я, мы обходимся, ездим верхом, на велосипедах, даже парим на феероплане».
«Вот странно, – сказал лукавый Демон, – отчего мне вдруг пришли на ум дивные строки нашего великого канадийца о зардевшейся Ирэн:
Le feu si délicat de la virginité
Qui что-то там sur son front…
Хорошо. Ты можешь переправить в Англию мой, если только —»
«Кстати, Демон, – перебила его Марина, – как бы мне обзавестись таким старомодным просторным лимузином с пожилым опытным шофером, какой, к примеру, столько лет служит у Прасковьи?»
«Невозможно, дорогая. Они все уже или на небесах, или на Терре. Но о чем мечтает Ада, что моя молчаливая душка хотела бы получить ко дню рождения? То есть уже в субботу, по расчету по моему, не так ли? Une rivière de diamants?»
«Протестую! – вскричала Марина. – Нет, я серьезно. Я против того, чтобы ты дарил ей квака сесва (quoi que ce soit), мы с Даном обо всем позаботимся».
«К тому же ты забудешь», сказала Ада, смеясь, и проворно показала кончик языка Вану, который наблюдал за ее условной реакцией на «бриллианты».
«Если только что?» – спросил Ван.
«Если только в гараже Джорджа на Ранта-роуд тебя уже не ждет такой же. Скоро ты будешь парить в одиночестве, Ада, – продолжил он, – Маскодагама закончит свои вакации со мной в Париже. Qui что-то там sur son front, en accuse la beauté!»
Так продолжали они болтать о том о сем, и как не беречь в самых темных закоулках памяти эти яркие воспоминания? Чье лицо не искажает гримаса и кто не закрывает его руками, когда ослепительное прошлое бросает на тебя насмешливые взгляды? Кто, в страхе и уединении долгой ночи —
«Что это было?» – воскликнула Марина, боявшаяся клерэтических гроз даже больше антиамберийцев ладорского графства.
«Зарница», предположил Ван.
«А мне кажется, – сказал Демон, повернувшись на стуле, чтобы обозреть плещущие занавеси, – что вспышка фотоаппарата. Ведь среди нас знаменитая актриса и прославленный акробат».
Ада подбежала к окну. Под встревоженными магнолиями стоял бледный мальчик в окружении двух разинувших рты служанок и целил своим объективом в безобидное и беззаботное семейство. Впрочем, то было лишь ночное марево, обычное в этих краях июльское явление. Никто не снимал с магнием, кроме Перуна, бога грома, чье имя нельзя было называть. В ожидании раскатов Марина принялась вполголоса отмерять секунды, как если бы молилась или считала пульс у едва живого человека. Она знала, что каждый удар сердца покрывает расстояние в одну версту непроглядной ночи, между бьющимся сердцем и обреченным пастухом, упавшим где-то – ах, очень далеко – на вершине горы. И вот загрохотало, но скорее глуховато. Вторая вспышка высветила геометрию французского окна.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?