Текст книги "Гамаюн. Жизнь Александра Блока."
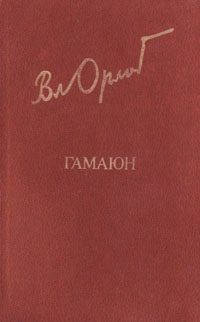
Автор книги: Владимир Николаевич Орлов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 31 (всего у книги 52 страниц)
Этот обновленный и принаряженный дом был разграблен в конце 1917 года и сгорел в июле 1921-го, меньше чем за месяц до смерти хозяина.
Блоки вознамерились провести в Шахматове всю зиму. Поначалу деревенское уединение показалось прекрасным. Рано выпал снег, начались метели, в доме, плотно закрытом щитами и ставнями, было тепло и уютно. Уже были куплены валенки для прогулок по зимнему лесу, заказаны санки. Однако вскоре же стало ясно, что «прожить здесь зиму нельзя – мертвая тоска». Не спасали ни работа, ни чтение. Выдержали только до конца октября.
… Между тем еще в начале сентября подал о себе весть Андрей Белый.
После ссоры с Блоком он жил все так же нервно и хаотично, терял последние силы в бесконечных словоизвержениях и нелепых скандалах, сильно бедствовал. Он, правда, кое-как наладил личную жизнь (вернее – ему казалось, что наладил), нашел спутницу, но и этот его роман оказался сложным и, как показало близкое будущее, непрочным.
Представление об его облике и состоянии дает письмо Зинаиды Гиппиус к Блоку от февраля 1910 года: «Он живет у Вяч. Иванова и проводит все ночи в разговорах, до 11 утра, так что в конце они уже говорить не могут, а только тыкают друг друга перстами и чертят по бумажке. Впечатление Боря произвел на нас потрясающее: совсем больной человек. Лицо острое, забывает, что сказал, повторяется, видит везде преследования, и всякий с ним делает, что хочет».
Летом 1910 года, живя на Волыни, Белый прочитал в десятом альманахе «Шиповника» цикл «На поле Куликовом» – и «был потрясен силой этих стихов». Появление в печати доклада «О современном состоянии русского символизма», занятая Блоком литературная позиция создали почву для нового сближения.
У Белого «с души сорвалось» покаянное и примирительное письмо. В статье Блока он нашел «огромное мужество и благородную правду»: «Ты – сказал не только за себя, но и за всех нас». При всем том Белый чувствовал себя не вполне уверенно: «Можешь мне писать и не писать; может во внешнем быть и не быть между нами разрыв – все равно: не для возобновления наших сношений я пишу, а во имя долга. Во имя правды прошу у Тебя прощения в том, в чем бес нас всех попутал. Аминь…»
Блок ответил ласково: «Твое письмо… глубоко дорого и важно для меня. Хочу и могу верить, что оно восстанавливает нашу связь, которая всегда была более чем личной (в сущности, ведь сверхличное главным образом и мешало личному). Нам не стоит заботиться о встречах и не нужно. Я, как и ты, скажу тебе, что у меня нет определенного желания встретиться».
Однако вскоре же они встретились.
В октябре в Шахматове была получена такая телеграмма из Москвы: «Мусагет, Альциона, Логос приветствуют, любят, ждут Блока».
(«Мусагет» – новое издательство, учрежденное бывшим «аргонавтом» Э.К.Метнером; «Альциона» – издательство, организационно объединенное с «Мусагетом»; «Логос» – философский журнал, издававшийся «Мусагетом».)
Идеологом и душой «Мусагета» на первых порах был Андрей Белый, – издательство отчасти и задумано было как трибуна, отданная в его распоряжение. Первыми изданиями «Мусагета» были фундаментальные тома Белого – «Символизм» и «Арабески».
Мусагетовцы поставили своей задачей гальванизировать угасавший русский символизм. Белый писал Блоку: «Настроение у нас вот какое: вчера над морем плавали символические корабли; но была «Цусима». Думают, что нас нет и флот уничтожен. «Мусагет» есть попытка заменить систему кораблей системой «подводных забронированных лодок». Пока на поверхности уныние, у нас в катакомбах кипит деятельная работа по сооружению подводного флота. И мы – уверенны и тверды. И без Рождественского (Брюсова) мы только выигрываем».
Программа действий была намечена широкая. На самом «Мусагете» лежала задача выработки эстетики символизма. Общее философское обоснование символистской теории должны были дать неокантианцы, объединившиеся вокруг «Логоса».
На деле из задуманного мало что вышло. Союз символистов с неокантианцами вскоре расстроился, да и среди самих мусагетовцев пошли раздоры. Белый умудрился поссориться с Метнером, единственным своим благодетелем. Обширный план реконструкции символизма реализован не был. Гора родила мышь – тощий литературно-философский журнальчик «Труды и дни», влачивший жалкое существование.
Все это выяснилось несколько позже, в начале 1912 года, а пока Андрей Белый был еще преисполнен радужных надежд и надеялся, что ему удастся и Блока вовлечь в «огромную созидательную подземную работу».
Первого ноября Блок приехал из Шахматова в Москву и прямо с вокзала направился на заседание Религиозно-философского общества, где с лекцией о Достоевском выступал Белый.
Заседание происходило, как обычно, в особняке московской миллионерши Маргариты Кирилловны Морозовой, женщины ослепительной и ученой, интересовавшейся русской философией. Нарядный, светлый зал был переполнен: сюртуки, визитки, фраки, холеные бороды, лаковые лысины, атласы, вуали и открытые плечи дам. Религия и философия стали модным развлечением для «всей Москвы».
Накануне разразился гром: стало известно об уходе Толстого, и зал гудел, захлебнувшись сенсацией.
Блок, на сей раз совсем не элегантный, загорелый, обветренный, в дорожном мешковатом костюме, пробирался сквозь нарядную толпу к Белому. Они расцеловались.
– Ну вот, как я рад, что поспел…
– И я рад…
– Знаешь, я думал, что опоздаю…
– Сегодня из Шахматова?..
– Восемнадцать верст трясся до станции… Перепачкался глиной: вязко, ведь – оттепель, а ты знаешь, какие дороги у нас…
Кое-кто узнал Блока. Уже приближалась улыбающаяся Морозова в сияющем платье. Блок сразу стал светским. Началась лекция. Блок слушал рассеянно, – мысли его были заняты бегством Толстого.
Он с величайшей остротой пережил неслыханный по духовной смелости и нравственному величию поступок человека, которого назвал единственным гением, одним своим присутствием озарявшим тогдашний мир. Померкло солнце над Россией. Мы уже знаем, как боялся Блок смерти Толстого. В своем представлении о тяжелейшей драме, раздиравшей семью гения, он был бескомпромиссен – характеризуя облик официальной и официозной России, не упустил и такой детали:
Где память вечную Толстого
Стремится омрачить жена…
На следующий день Блок побывал в «Мусагете». Уютные комнаты, большой портрет Гете, подают чай с пряниками. Блок беседовал, входил в дела и замыслы издательства. Зашла речь об издании его книг. За обедом у Тестова, с селянкой, расстегаями и рейнвейном, было решено выпустить новый сборник стихов («Ночные часы») и трехтомное «Собрание стихотворений». Разговор шел и о собрании сочинений, но Блок нашел это преждевременным.
Белый, собиравшийся за границу, повез Блока знакомить со своей спутницей – Асей Тургеневой. «Я видел двух барышень, но, по обыкновению, не уверен которая, – сообщил Блок матери. – Если одна – то мне нравится, а другая – очень не нравится». Избранница Белого была «другой».
Андрей Белый искренне радовался примирению с Блоком, однако и на этот раз сделал слишком поспешные выводы. Ему показалось, что блудный, но раскаявшийся сын возвращается в отчий дом, – и он уже решил, что они будут сообща «работать» над пересозданием символизма.
Блок предчувствовал возможность заблуждения и счел нужным предостеречь Белого от слишком узкого и прямолинейного толкования своей статьи о символизме. Уже в третьем письме после примирения он разъясняет, что статья – «не есть покаяние» или «отречение от своей породы», что он «остается самим собой, тем, что был всегда», что «Балаганчик» и «Незнакомка» есть закономерный эпизод его «внутреннего развития». И если даже «Балаганчик» был «гибелью» (в том смысле, что ознаменовал победу декадентского «лилового сумрака» над золотом и пурпуром соловьевства), то он, Блок, все же любит «гибель» (незнание о будущем, окруженность неизвестным, вера в судьбу – «свойства моей породы, более чем психические»), «любил ее искони и остался при этой любви».
Не тот человек был Белый, чтобы прислушиваться к чужим словам. Расставшись с Блоком в Москве, он написал ему вслед: «Верю, что наша встреча – залог будущих наших ясных и неомраченных отношений: верю, что Твое присутствие в «Мусагете» есть залог будущего согласия среди символистов».
Ближайшее будущее показало всю иллюзорность этих надежд. Пропасть, образовавшуюся в девятьсот восьмом, уже нечем было заполнить. Почти сразу с очевидностью выяснилось, что говорят они о разном – даже в тех случаях, когда разговор идет на общую тему.
Блок был накануне нового крутого поворота, не менее важного и решающего, чем тот, что произошел четыре года тому назад.
Для того чтобы совершить поворот, ему понадобились все душевные силы. Привести их в действие значило победить тоску и усталость. Это далось не легко и не сразу.
Блок хорошо перестроил свой дом, но перестроить жизнь не умел. В разгар возведения шахматовской Валгаллы он рассказывает в письме к Евгению Иванову, как ему пришлось по делам съездить на несколько часов в Петербург и как он возвращался, сидя один в купе.
«Какая тупая боль от скуки бывает! И так постоянно – жизнь «следует» мимо, как поезд; в окнах торчат заспанные, пьяные, и веселые, и скучные, – а я, зевая, смотрю вслед с «мокрой платформы». Или – так еще ждут счастья, как поезда ночью на открытой платформе, занесенной снегом».
До чего же недоступно было это простое человеческое счастье!
В тот самый день, когда Блок ездил в Петербург, было вчерне набросано знаменитое стихотворение «На железной дороге», в котором лирика так громко перекликается с историей. То, о чем рассказано в письме к другу, отнесено здесь к «красивой и молодой», тоже ждавшей и не дождавшейся своего маленького счастья.
Хотела юность бесполезная
Растечься в небе ясной зорькою,
А жизнь замучила железная —
Такая наглая и горькая…
Могучая обобщающая сила поэзии превратила частный случай из газетной хроники в «расширяющуюся картину» (говоря словами Достоевского) – за одной человеческой судьбой угадывается вся тогдашняя Россия с сытыми и сонными барами, народным плачем, надрывными песнями, бдительными жандармами, железной тоской, обманутыми мечтами.
Никогда еще с такой остротой не чувствовал Блок кровной связи с Россией. «Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?..» Мережковский демагогически обличал его за то, что в статье о символизме утверждалось: «Как Россия, так и мы». Блок возражал: любой писатель, «верующий в свое призвание», не может не сопоставить себя с родиной, потому что «болеет ее болезнями, страдает ее страданиями».
Темная полоса «убийственного опустошения», пережитая Блоком, кончалась, – поворот был совсем близко. Пока же он только вопрошал: «Что делать и как жить дальше? Все еще не знаю».
Это было записано уже на тихой, занесенной снегом Малой Монетной. С Галерной Блок вернулся на Петербургскую сторону, в места своей юности. На новоселье ему понравилось. «Квартира молодая и хорошая»: высоко (шестой этаж), много света, далеко видно.
Здесь началась новая, очень важная глава его жизни.
Свершился дней круговорот…
ВОЧЕЛОВЕЧЕНИЕ
1Александр Блок – матери (21 февраля 1911 года): «Дело в том, что я чувствую себя очень окрепшим физически (и соответственно нравственно)… Я чувствую, что у меня, наконец, на 31-м году определился очень важный перелом, что сказывается и на поэме, и на моем чувстве мира. Я думаю, что последняя тень „декадентства“ отошла. Я определенно хочу жить и вижу впереди много простых и увлекательных возможностей – притом в том, в чем прежде их не видел. С одной стороны – я „общественное животное“, у меня есть определенный публицистический пафос и потребность общения с людьми – все более по существу. С другой – я физически окреп и очень серьезно способен относиться к телесной культуре, которая должна идти наравне с духовной… Меня очень увлекает борьба и всякое укрепление мускулов, и эти интересы уже заняли определенное место в моей жизни; довольно неожиданно для меня (год назад я был от этого очень далек) – с этим связалось художественное творчество… Все это я сообщаю тебе, чтобы ты не испугалась моих неожиданных для тебя тенденций и чтобы ты знала, что я имею потребность расширить круг своей жизни, которая до сих пор была углублена (за счет должного расширения)».
Усталость как рукой сняло. Снова, как в юные годы, целыми днями скитается он по петербургским окрестностям, с наслаждением катается с горы на санках. Регулярно посещает массажиста, тренирующего профессиональных борцов, и радуется, что не хуже его выжимает гирю.
Он в самом деле был сильно увлечен вошедшей в моду французской борьбой, пропадал в цирках, и ему казалось, что «гениальный» голландский борец Ван-Риль вдохновляет его для поэмы гораздо больше, чем Вячеслав Иванов.
Совершенная («музыкальная») мускульная система человеческого тела связывалась в его сознании с замыслом поэмы (сюжет которой должен был развиваться по концентрическим кругам) и с упругой мускулатурой самого стихотворного ритма – «гневного ямба».
Поэма, над которой Блок в это время увлеченно работает, – «Возмездие». Замысел ее возник под впечатлением смерти отца, первые наброски были сделаны летом 1910 года в Шахматове. Сперва поэма называлась «1 декабря 1909 года», потом – «Отец». Блок закончил ее в январе 1911 года, назвал «Возмездием» (с подзаголовком: «Варшавская поэма») и посвятил сестре Ангелине. Но сразу вслед за тем план поэмы расширился: тема индивидуальной судьбы отца заменилась более общей темой – судьбы целого рода, нескольких сменяющих друг друга поколений, сюжет обрастал многочисленными лирическими и историко-философскими отступлениями.
Январские и февральские письма к матери пестрят упоминаниями о поэме. В письме, посланном с оказией, Блок сообщает: «…я яростно ненавижу русское правительство («Новое время»), и моя поэма этим пропитана».
Вот, к примеру, инвектива режиму, провозглашенная от имени тех «современных поэтов», кто предан «священной любви» и «старинным обетам»:
Пусть будет прост и скуден храм,
Где небо кроют мглою бесы,
Где слышен хохот желтой прессы,
Жаргон газет и визг реклам,
Где под личиной провокаций
Скрывается больной цинизм,
Где торжествует нигилизм —
Бесполый спутник «стилизаций»,
Где «Новым временем» смердит,
Где хамство с каждым годом – пуще…
Прочь, прочь! – Душа жива – она
Полна предчувствием иного!
Потом, вспоминая, в какое время и при каких обстоятельствах он начал писать поэму, Блок заметил, что зима 1910 – 1911 года «была исполнена внутреннего мужественного напряжения и трепета».
Жизнь все более обнажала свои противоречия – «непримиримые и требовавшие примирения». Искусство, жизнь, политика приходили в новое соотношение, «сильные толчки извне» будили мысль художника (Блок говорил, конечно, о себе и за себя).
На Западе происходили грандиозные забастовки, а русское самодержавие из последних сил судорожно пыталось продлить свой век: инсценировали дело Бейлиса, после убийства Столыпина силу власти забрал департамент полиции. «Уже был ощутим запах гари, железа и крови» – заговорили о близости мировой войны. Может быть, в самом деле недалеко время, когда люди увидят «новую картину мира».
И черная, земная кровь
Сулит нам, раздувая вены,
Все разрушая рубежи,
Неслыханные перемены,
Невиданные мятежи…
«Возвращайся в Россию, – зовет Блок Андрея Белого из Африки. – Может быть, такой – ее уже недолго видеть и знать».
В первых числах марта был написан Пролог к «Возмездию». В черновике и в первой публикации он знаменательно озаглавлен: «Народ и поэт». Это одно из важнейших произведений Блока – его художественная декларация, в которую вложено цельное представление о деле и долге художника, поэта.
Здесь особо выделена мысль о сознательности художника, об обязанности его строго определять свою позицию в обстановке борьбы, происходящей в стране, во всем мире. Вопреки обступившему его безначальному и бесконечному хаосу бытия, вопреки бесконтрольной власти случая, художник обязан владеть твердыми критериями ценности, воспитывать в себе душевное бесстрашие, познавать и принимать мир в его целостности, единстве, но вместе с тем и в движении, в вечном противоборстве света и тьмы.
Но ты, художник, твердо веруй
В начала и концы. Ты знай,
Где стерегут нас ад и рай.
Тебе дано бесстрастной мерой
Измерить все, что видишь ты.
Твой взгляд – да будет тверд и ясен.
Сотри случайные черты —
И ты увидишь: мир прекрасен.
Долг и назначение художника состоят не только в том, что он благословляет смысл жизни, которая в существе своем, несмотря на искажающие ее облик «случайные черты», прекрасна, но также и в том, чтобы деятельно, творчески участвовать в преобразовании жизни во имя будущего. Задача поэта – «неспешно и нелживо» поведать
О том, что мы в себе таим,
О том, что в здешнем мире живо,
О том, как зреет гнев в сердцах,
И с гневом – юность и свобода,
Как в каждом дышит дух народа,
Блок нашел верное слово: это был перелом – действительно очень важный и уже последний. В судьбу вмешалась воля, – мужественная воля к подвигу, которого требует служение поэта.
Он ни от чего не отрекался, но весь был устремлен вперед. Через десять дней после того, как сложились ямбы «Народа и поэта», он пишет Андрею Белому: «Один – и за плечами огромная жизнь – и позади, и впереди, и в настоящем. Уже «меня» (того ненужного, докучного, вечно самому себе нравящегося или ненравящегося «меня») – мало осталось, почти нет; часто – вовсе нет; чаще и чаще. Но за плечами – все «мое» и все «не мое», равно великое: «священная любовь», и 9-е января, и Цусима – и над всем единый большой, строгий, милый, святой крест. Настоящее – страшно важно, будущее – так огромно, что замирает сердце, – и один: бодрый, здоровый, не «конченный», отдохнувший. Так долго длилось «вочеловеченье»».
Вот еще одно верно найденное слово: вочеловечение.
В мае в «Мусагете» вышла первая книга «Собрания стихотворений». В коротком предисловии Блок настойчиво говорил о внутреннем единстве своего творчества: каждое стихотворение необходимо для образования «главы», из нескольких «глав» формируется «книга», все книги составляют «трилогию», которую можно назвать и «романом в стихах», посвященным «одному кругу чувств и мыслей».
Непосредственно вслед за тем (6 июня) Блок в письме к Белому раскрывает общий смысл своей трилогии. Теперь, после долголетних блужданий «по лесам и дебрям», он отчетливо видит, что все написанное им есть «трилогия вочеловечения». Путь его пролег от «мгновения слишком яркого света – через необходимый болотистый лес – к отчаянью, проклятьям, „возмездию“ и… – к рождению человека „общественного“, художника, мужественно глядящего в лицо миру».
Восторженный теург, возжелавший стать пророком, потом пленник «лиловых миров» декаданса стал человеком. «Художник должен быть трепетным в самой дерзости, зная, чего стоит смешение искусства с жизнью, и оставаясь в жизни простым человеком».
Отныне тема человека выдвигается в мировоззрении и творчестве Блока на первый план. Человек в его понимании есть главный предмет искусства, человечность – вернейший критерий ценности искусства. «Нам опять нужна вся душа, все житейское, весь человек».
Таким пониманием была в конечном счете предопределена судьба отношений Блока с теми, кто старался вовлечь его в дело воскрешения и укрепления русского символизма.
Блок недаром заговорил о своем «публицистическом пафосе». Он был не прочь практически заняться очищением литературной атмосферы и даже подумывал об единоличном журнале наподобие «Дневника писателя» Достоевского.
Потому на первых порах увлек его и журнальный проект, выдвинутый Владимиром Пястом, с которым Блок к этому времени тесно сблизился.
По совести говоря, странной кажется эта дружба, продолжавшаяся много лет. Пяст был очень слабым и сумбурным поэтом, воинствующим символистом, а в жизни – человеком темной души, не раз впадавшим в психическое расстройство. Одержимый поклонник Эдгара По и Стриндберга, убежденный мистик и демонист, он был болезненно прикован ко всему «таинственному» и «ужасному». Личные и литературные обстоятельства его были трудны: тяжелая семейная драма, вечная неустроенность.
Блок был очень привязан к Пясту, и сила этой привязанности перевешивала его строгую требовательность: не делая в искусстве ни малейших скидок, он слишком снисходительно относился к стихам и ненапечатанной прозе Пяста.
Бесспорно, сближала их свойственная обоим острота восприятия «страшного мира», трагическое ощущение «непроглядного ужаса жизни». Этой стороной своей души Блок и был обращен к Пясту. Стоит заметить, что дружба эта тревожила Александру Андреевну. При всей своей инфернальности, даже она считала, что Пяст дурно влияет на ее сына чрезмерной нервозностью и душевным мраком.
По инициативе этого нервного и совершенно непрактичного человека, метившего тем не менее в публицисты, зашла речь о небольшом журнале с узким кругом участников. Редакторами должны были стать Блок, Пяст и Евгений Аничков – филолог и критик, богатый барин, типичный либеральный краснобай кадетского толка, а ближайшими сотрудниками – Вячеслав Иванов, А.Ремизов, Ю.Верховский, В.Княжнин. Блок приглашал и Андрея Белого: «Все мы принципиально изгоняем литературщину, «декадентство», хулиганство и т.д. и т.д.» Пяст предложил для журнала название: «Символист», Блок настаивал на более нейтральном: «Путник» или «Стрелец».
Вскоре, однако же, ему стало ясно, что «прочной связи нет»: Вячеслав Иванов тянул в свою сторону, хотел издавать с Блоком и Белым «Дневник трех поэтов», а союз с болтливым Аничковым был Блоку не по душе: «Отчего Аничков и в революции и без революции всегда одинаково выкидывает с кафедры слова, как пух из перины? Он ужасно, ужасно доволен собой».
Сколько таких благополучных и самодовольных цицеронов было вокруг Блока, и как ему было одиноко среди них со своим неблагополучием, со своей тревогой!
До нас дошло интереснейшее свидетельство человека, отчасти причастного к литературе и записавшего в дневнике, что сказал Блок на одном из заседаний «Академии». Это было 5 июня 1911 года. Поэт Юрий Верховский безмятежно докладывал о Дельвиге.
И вот в атмосфере этого «уютного гробокопательства» (как выразился Блок в записной книжке) он вдруг заговорил о состоянии и задачах современной поэзии. «Когда-то и наше время будут изучать по нашим стихам. Потомки удивятся: на пороге страшных событий мы писали так, что это не делало нас ни сильными, ни зоркими. «Не питательна» наша поэзия… Не будем тратить силы на споры – мы и со спорами уже опоздали. Зреют новые дни – страшные и спасительные. Нам же дано ждать и готовиться к ним».
Попутно Блок говорил, что в русской поэзии близится время возрождения поэмы «с бытом и фабулой».
Опытом такой поэмы было «Возмездие». Когда Блок прочитал куски поэмы в своем кругу, на многих она произвела «ошеломляющее впечатление» именно бытом, предметностью, и только Вячеслав Иванов, как передал С.Городецкий, «глядел грозой», увидев в поэме «богоотступничество».
Может быть, такая реакция на «Возмездие» сыграла дополнительную роль в расхождении Блока с последним и самым воинствующим теоретиком русского символизма.
«Атмосфера Вячеслава Иванова сейчас для меня немыслима», – пишет Блок Белому в январе 1912 года. Немного позже он подробно разбирает первый номер «Трудов и дней», где все показалось ему чуждым и ненужным. Вячеслав Великолепный упрямо и «без музыкального слуха» пропагандирует несуществующую «символическую школу» вместо того, чтобы говорить об единственно важном – «человеке и художнике». Вместо «вочеловечения», ради которого только и стоило сходиться бывшим символистам, он «громыхнул» очередным манифестом, – громыхнул не к месту и не ко времени – «над печальными людьми, над печальной Россией в лохмотьях».
Блок добавляет: «Ты знаешь наши дела? Расстрелы на Ленских приисках, всюду стачки и демонстрации, разговоры о войне. Последние дни – опять волна тревоги».
В эти же январские дни Блок пишет послание Вячеславу Иванову. Начало его – воспоминание о том, что их сблизило, конец – прощание:
Но миновалась ныне вьюга.
И горькой складкой те года
Легли на, сердце мне. И друга
В тебе не вижу, как тогда.
Как в годы юности, не знаю
Бездонных чар твоей души…
Порой, как прежде, различаю
Песнь соловья в твоей глуши…
И много чар, и много песен,
И древних ликов красоты
Твой мир, поистине, чудесен!
Да, царь самодержавный – ты
А я, печальный, нищий, жесткий,
В час утра встретивший зарю,
Теперь на пыльном перекрестке
На царский поезд твой смотрю.
Печальная Россия, печальные люди, печальный поэт. С каким постоянством звучит этот эпитет! За лирическим «я» прощального послания сквозит все то же преследовавшее Блока «печальное человеческое лицо гонимого судьбой».
На «пыльном перекрестке» произошла и последняя (в сущности) встреча с Андреем Белым.
Тот в феврале 1912 года приехал в Петербург и остановился у Вячеслава Иванова в Башне. Блок, сказали ему, в полосе мрачности, нигде не появляется, никого к себе не пускает. Белый тем не менее настойчиво добивается встречи. В Башню Блок идти не хочет. Наконец через Пяста он назначает секретное свидание в маленьком, невзрачном, всегда пустующем ресторане на одной из удаленных от центра улиц.
Почти весь день Блок и Белый провели вместе. Состоялся длиннейший многочасовой разговор.
Блестя безумными сапфировыми глазами, то почти шепотом, то сбиваясь на крик, Белый посвятил Блока в важнейшее событие своей духовной жизни.
Он давно уже был погружен в теософские и оккультные глубины, еще в начале 1909 года жаловался, что слишком много потерял, пройдя по путям оккультизма «без руководителя». Наконец, руководитель нашелся – Рудольф Штейнер, глава антропософской общины. Он открыл глаза: художника окружают люциферические духи, они-то и инспирируют творчество. Некоторое время Белый скрывал свое приобщение к антропософии, а теперь решил отправиться с женой (вслед за Эллисом) на Запад, на послушание к Штейнеру.
Блок выслушал внимательно, но отчужденно: теософия, оккультизм, антропософия – все это было для него пустым звуком. Он только сказал невесело: «Да, вот – странники мы: как бы ни были мы различны… Я вот (тут он усмехнулся) застранствовал по кабакам, по цыганским концертам. Ты – странствовал по Африке; Эллис – странствует по «мирам иным». Да, да – странники: такова уж судьба».
Обстановка свидания, рассказывает Белый, была как иллюстрация к «страшному миру»: глухой желто-серый ресторанчик, тусклый газовый свет, пришибленный старик лакей, неподвижный толстяк за буфетной стойкой, невпопад гремящая маршами музыкальная машина…
Да и сам Блок, на взгляд Белого, был уже не тот – отяжелевший, сухой, обожженный: потемневшее лицо, коротко подстриженные волосы, усталый взгляд…
Они вышли в ненастную, слякотную ночь и на ближайшем перекрестке разошлись в разные стороны.
В тот же день Белый написал Блоку: «До какой степени я счастлив, что видел Тебя! До какой степени я счастлив, что Ты был со мной так прост и прям. Знаешь ли – что Ты для меня?.. Ты – богоданный нам, вещий поэт всей России – первый среди поэтов, первый поэт земли русской».
Но никакие признания уже ничего не могли спаять. Блок и Белый разошлись в разные стороны не только на петербургской улице.
Белый еще долго посвящал Блока в свою «штейнерьяду», многословно описывал случавшиеся с ним «странные происшествия», каких-то преследовавших его японцев и старух, стуки, искорки, шепоты и топоты, «световое явление» доктора Штейнера и прочую абракадабру, «Письмо от Бори: двенадцать страниц писчей бумаги все – за Штейнера; красные чернила; все смута».
Ответные письма не сохранились, – нужно думать, Блок высказался откровенно и резко. Белый обиделся и замолчал.
В дальнейшем отношения приняли совершенно внешний характер. Блок деятельно помогал бывшему другу и врагу в устройстве его запутанных литературных дел, ссудил его деньгами, способствовал появлению романа «Петербург». А ничего другого уже не осталось: «Слишком во многом нас жизнь разделила». Тут же добавлено: «Остальных просто нет для меня – тех, которые «были» (В.Иванов, Чулков…)».
Между тем на литературную авансцену выходили новые люди. Но и с ними Блоку оказалось не по пути,
Во владениях Вячеслава Иванова – в «Аполлоне», в «Академии», на Башне – появился белобрысый, самоуверенный, прямой как палка молодой стихотворец Николай Степанович Гумилев. Он хотел выглядеть франтом, эстетом и снобом: фрак, шапокляк, непререкаемый апломб. Но настоящие снобы из «Аполлона» относились к нему благосклонно-иронически: для них он был человеком случайным, недостаточно образованным, слабо владеющим французским языком. Однако вскоре Гумилев заставил строгих судей думать и говорить о нем иначе.
В чем, в чем, а в упорстве отказать Гумилеву было нельзя. Он поставил перед собой цель – стать поэтическим лидером, и шел к ней неуклонно. Он сумел забрать в свои руки литературный отдел «Аполлона». Для начала ему нужен был союзник – поэт с именем, и он соблазнил легкомысленного Сергея Городецкого.
В октябре 1911 года они сообща учредили новое литературное объединение – «Цех поэтов», в котором собралось десятка полтора молодых стихотворцев и критиков (А.Ахматова, О.Мандельштам, Н.Недоброво, В.Чудновский, В.Нарбут, М.Зенкевич, М.Лозинский, В.Юнгер, Е.Кузьмина-Караваева и др.). Из этого ядра вырос придуманный Гумилевым акмеизм.
Новое течение открыто вооружилось против иррационалистических и религиозно-мистических устремлений символизма. Гумилев и его оруженосцы заговорили о необходимости повернуть поэзию лицом к здешнему миру вещей и явлений, о «буйном жизнеутверждении», «радостном любовании бытием», «расцвете всех духовных и физических сил», о возвращении к человеку, забытому символистами. Поэты «Цеха» называли себя также и адамистами – по имени первого человека.
На деле же все свелось к распространению претенциозной и необыкновенно измельченной силонно-эстетизированной поэзии, пораженной атрофией чувства времени, глухим непониманием нараставшего трагизма эпохи.
Отказавшись от идейных исканий символистов, акмеисты утратили и то самое важное, объективно ценное, что было у наиболее глубоких и чутких из их предшественников, – ощущение непрочности старого мира и кризиса его культуры. Акмеисты, напротив, старались уверить себя и других в благополучии и процветании окружавшей их жизни.
Это наигранно-жизнерадостное мироощущение было противопоказано Блоку: «Нам предлагают: пой, веселись и призывай к жизни, а у нас лица обожжены и обезображены лиловым сумраком».
Казалось бы, провозглашенное акмеистами обращение к человеку должно было привлечь сочувственное внимание Блока. Но что это был за человек! Какой-то «первозданный Адам», маскарадный персонаж, пришедший пропеть «аллилуйя» тому миру, который для Блока был страшным и неприемлемым. И что мог сказать этот человек «вовсе без человечности» поэту, который как раз в это время написал:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































