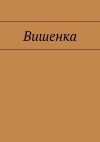Читать книгу "Пущенные по миру"

Автор книги: Владимир Владыкин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Феня пошагала своей дорогой, а Фёдору стало так донельзя неловко, что был готов провалиться сквозь землю. Иногда ему казалось, что вот он любит её, а она из-за этого его сторонится. Он чувствовал, что ей нужен бесшабашный красивый весельчак, тогда как он очень серьёзный, улыбается будто по заказу, видно, напрасно природа наделила его мужской красотой. Но об этом он меньше всего думал, больше всего его волновало то, что неуклюжесть и ненаходчивость часто его подводила, и за эти свойства он себя не любил. Хотя Феня давно ему нравилась, он даже себе не признавался, какие же испытывал к ней чувства? Любил ли её, или просто была ему симпатична.
Сейчас он стоял возле своего двора и думал о девушке, которая будоражила его сознание, но сам ничего так и не предпринял для того, чтобы сблизиться с ней. Пока он раздумывал, Иван Макаров стал настойчиво обхаживать Феню. Потому тот и приглашал его на вечерку, чтобы увидел, как он, Иван, во всём превосходит его, Фёдора. Хотя он был уже наслышан, что девушка не отталкивала его соперника, чем невольно вызывала у Фёдора ревность. А если бы он точно так же начал ходить за Феней тенью, как бы тогда она повела с ним?
Вот так всегда он что-то вечно прикидывал, желал отгадать: как девушка к нему относится? И даже когда убеждался, что ей нравится, всё равно перед Феней вёл себя пассивно. К девушкам он боялся подойти не потому, что они могли его осмеять, – просто он не знал, в какой момент они были меньше всего насмешливы. Иногда ему казалось, что они находили в нём всё смешным: и походку, и лицо, и одежду. Мало того что Фёдор не выносил любые насмешки, он вообще презирал человеческую способность насмехаться. Ведь плохи не сами по себе высмеивания, а лишь злые, несправедливые и завистливые. Вот от этого, когда часто слышал чей-то смех, он впадал в конфуз, так как в силу своей повышенной мнительности он принимал насмешки на свой счёт. С юных лет он страдал этим недостатком, который лишал его многих удовольствий, и вот никак не мог его одолеть…
В тот вечер Фёдор всё же решился ублажить себя и мать тихонько пошагал к молодёжи на поляну, – впрочем, он бывал там не раз ещё безусым пацаном. Но это было уже так давно, что из тех, кто ходил в те годы на вечёрки, одни погибли на войне, другие уехали, третьи умерли от болезней и голода, а четвёртые уже давно растят своих детей. И потому Фёдору там было стыдно показываться. Но почему бы не прогуляться, как бы от нечего делать. Правда, и в ранней молодости он чувствовал себя там чужаком. Бывало, играют парни с девушками или под гармонь отплясывают, а Фёдор стоит в сторонке и даже не хочет быть заметным, потягивает втихаря цигарку. Кто-то из бойких девушек ухватит его за рукав пиджака и потащит в круг танцующей молодёжи, а он, как бык, упрётся, покраснеет и, весь растерянный, уронит цигарку.
Но ему удавалось вырваться и скрыться в чаще деревьев, а потом тайком уйти домой. Вот поэтому иные девушки, такие, как Поля Смехова, любили его задевать и ласково называли чудаком, которому удостоилось уродиться красивым, а он этим своим преимуществом никак не воспользуется…
И действительно, сколько Фёдор уже проворонил девчат! Однако совладать с собой, таким донельзя забитым, до сих пор никак не мог. Лишь однажды он хотел выйти попробовать потанцевать, для чего даже посмел чуточку выпить. И всё равно не хватило смелости, да и ноги словно кто-то стискивал клещами. И тут же ему мерещилось, что все выставятся на него, как на диковинку. Вот ежели бы он вышел танцевать с самого начала, как стал появляться на вечёрках, тогда было бы другое дело. А раз упустил свой момент, теперь оставалось только ловить ворон.
…На поляне зажгли костёр. Ближе к плотине и оврагу росли высокие старые ракиты как бы полукругом, среди деревьев затаилась робкая густая темень. Голоса парней и девушек сливались, наперекор им рьяно играла гармошка. Фёдор остановился в двадцати шагах. На поляне было человек десять, а может, даже больше – кого-то темнота укрывала, и оттого разглядеть всех было никак невозможно. Однако Феню он высмотрел быстро, она сидела на толстом бревне посередине, двое ребят курили на краю бревна, о чём-то между собой живо толкуя; на плечах Фени – пиджак, наверняка Ивана Макарова. А где же он сам! Конечно, это он, недомерок, выплясывает с Полей, выкрикивающей озорную частушку, которая так неприятно отвлекала от рассматривания Фени, что хотелось подавить её резким криком…
Сказать, что Фёдор совсем не любил песен, было бы глубоким заблуждением и характеризовало бы его отъявленным нелюдимом, ведь как-никак он любил народные песни, особенно когда бабы пели в поле за работой. Правда, к частушкам относился почему-то крайне отрицательно, поскольку не переносил их опять-таки за насмешливый норов. И вот сейчас крикливый голос Полины его раздражал настолько, что он даже про себя сердито ее ругнул: «Дьявол, а не баба!»
Подойти или подождать, пока отпляшут? Он не мог это тотчас решить и продолжал наблюдать за молодёжью из укрытия. Вот и Силантий выскочил танцевать: вскидывает свои косолапые ноги и нисколько никого не смущается. Разве он, Фёдор, так бы не смог, а может, у него вышло бы намного лучше, кто его знает, ведь статью не обделен. А теперь, разумеется, выходить было поздно. Пока Фёдор так наблюдал, Феня не танцевала, и ему казалось, она чувствовала его присутствие. Вот Макаров бросил плясать, подсел к девушке, что-то бойко сказал ей, взял за руку, и она послушно встала с бревна и смирно пошла с ним рядом. При виде этого зрелища у Фёдора невольно тоскливо заныло сердце: как она посмела за ним увязаться подобно послушной собачонке при первом оклике хозяина?! В его годы другие уже давно возятся с детьми, но будут ли когда у него дети?
Фёдор никак не мог представить реально, что при желании в жизни всё сбывается…
Глава 4
Утром в избу Зябликовых кто-то постучал требовательно, с дерзновенной настойчивостью. Вот так же помнилось Ефросинье, как дочь Анна рассказывала, пришли жандармы арестовать её мужа – рабочего революционера – и тарабанили в дверь, которая аж подпрыгивала. Но сейчас о плохом не хотелось думать, да и время другое…
Ефросинья, как и все деревенские бабы, вставала довольно рано: она затапливала печь, управлялась по двору, готовила завтрак, а сын тем временем ещё спал сладким утренним сном.
Вчера она так крепко уснула, что даже не слышала, когда сын пришёл с улицы, наверное очень поздно, может, даже с первыми петухами. Ежели он какую девку провожал, то слава тебе господи, значит, дошли к нему её заботные слова. А то может читать газетку целый вечер, и она сама, бывало, уляжется на покой, а он всё читает, жжёт керосин нещадно да махрой дымит в своём бобыльском закутке…
И вот сейчас, когда она услыхала чей-то нетерпеливый стук то в дверь, то в окно, Ефросинья от испуга перекрестилась; не успела она немного полежать на печи после утренних дел, как теперь надо опять вставать. С трудом слезла с печки и неторопливо, шаркая чувяками по деревянному полу, пошла открывать, держась рукой за поясницу и что-то недовольно бурча себе под нос: «Это кто жа то будет? Соседка Дарья Тимолина поди стучит этак осторожно, как бы боясь лишний раз потревожить табя, а этот прямо ломится через дверь», – вслух гадала она, снимая дверной крючок.
В сени не вошёл, а втиснулся боком Прошка Глотов, мужик лет сорока, крупный, высокий, тёмно-русый.
– С добрым утречком, мать! – воскликнул громогласно тот, даже с ноткой насмешки, что неприятно отозвалось в душе хозяйки.
– Доброе-то оно доброе. А чего, Проша, от нас надоть в такую рань? – смело спросила Ефросинья, потом отступила от него на шаг, вглядываясь пристально в скуластое, бритое, обветренное до смуглоты задубелое его лицо.
– А где твой Федька? – спросил чуть сурово, потупив взгляд.
– Спит, он с дежурства, а чего тебе? – соврала мать, зная, что сыну идти сегодня в ночное дежурство на станцию.
– Буди, дело есть, – буркнул тот, сверкая наглыми глазами.
– Дело? Какое дело, мне говори, я мать – должна знать поперва.
– Буди, тебе говорят, мне с тобой некогда лясы точить да рассусоливать, должок треба вернуть, или думаете так: Прохор добрый, потерпит, – вкрадчиво и отчего-то неестественно тихо сказал тот.
– Зерно?! – испуганно, в оторопи протянула Ефросинья, хватаясь руками за грудь.
Но, к счастью, Фёдора будить не потребовалось, он слышал весь разговор, встал, спешно оделся.
– Дак, Проша, слухай, чё я табе баю: нам покель отдавать нечем, – искательно и чуть растерянно заговорила Ефросинья. – Ты уж как-нибудь помилуй нас, ещё чуток погоди? – закончила она с жалобой в голосе и с печальной гримасой на лице.
Месяц назад Фёдор с Глотовым твёрдо договорился, что долг вернёт только на будущий год, ведь нынешний урожай собрал низкий, себе оставил всего четыре мешка, большую часть продал, дабы на вырученные деньги прикупить недостающего на постройку новой избы леса, да ещё требовалось оставить на семена. В тот раз Глотов якобы согласился подождать – и вдруг припожаловал?
– Здравствуй, Прохор Ермолаевич, – вышел Фёдор почтительно здороваясь, представая перед Глотовым тщедушным, маленьким мужичком.
– А-а, здорово, Фёдор, ловца и зверь почуял! – пошутил он нелицеприятно. И вместо того чтобы пожать хозяину руку, Прохор одной рукой заграбастал Фёдора со спины за плечи и стал его увлекать на двор.– Пойдём посудачим, дело тут такое приспело, матери твоей сказывал…
– Дак мы же с тобой договорились? – растерянно и жалко вопросил Фёдор, мучительно наморщив лоб, а гладкие брови изогнулись дугой.
– Федя, да ён же что удумал? – подскочила сбоку мать.
– Тише, матушка, тише! – упредительно поднял сын руку. – Пойди лучше в избу, – добавил смягчённым тоном.
Однако Ефросинья не ушла – осталась стоять на пороге сеней, неприкаянно и взволнованно глядела, как возле ворот сын разговаривал с Прохором, самым богатым в селе мужиком. Потом Глотов быстро ушёл, а Фёдор какое-то время ещё стоял, точно поражённый неожиданной дурной вестью, затем стал задумчиво, нарочито медленно сворачивать цигарку. Закурил, по сурово-мрачному его лицу было видно, что сын чем-то очень опечален.
Ефросинья, осторожно переступив высокий порог, сошла со ступенек крылечка, держась одной рукой за деревянный поручень, и, торопливо семеня ногами, направилась к сыну, стоявшему около тына:
– Что, Проша, не уступив? – подойдя, озабоченно спросила мать.
– Пахать землю позвал… – пробормотал нервно Фёдор, не глядя на мать, при этом он быстро, раз за разом, с озадаченным видом подносил ко рту цигарку, делал лихорадочные затяжки, пытаясь этим самым унять сильное душевное волнение.
– Что бы ему, супостату, пусто вечно было! – взголосила Ефросинья жалобно, принимая боль сына, как свою, и затем спросила. – И ты пойдёшь, Федя?
– А что прикажешь делать, матушка, отработаю, нам поди не привыкать, – и, шагая торопливо к избе, прибавил: – От мироеда поблажек нечего ждать!
– Истинно, истинно баешь, Федя, мироед он и есть, завсегда тварь не от мира сего. Я хочу сказать, чуждая нашему, доброму…
– Приготовь харчей, – кивнул он на ходу, а сам пошёл в сарай посмотреть исправность инвентаря.
– А когда отдыхать ты будешь, вядь табе в дежурство нонче? – пришла следом Ефросинья. Но сын не ответил, лишь нервно, свирепо взмахнул рукой, а мать прикрыв ладошкой рот, тихо удалилась, и в горнице стала готовить сыну на дорожку узелок с харчами…
* * *
…Земельный надел Глотова на лучших землях, пространным клином подходил к самому лесу. Прохор пахал вместе со своим старшим сыном на паре откормленных лошадей. Фёдору он тоже дал лошадь и соху, к которой был прилажен широкий плуг, чему подивился подневольный работник, наметил ему для вспашки участок, чтобы он меньше всего бросался проезжающим по дороге.
Фёдор два часа кряду пахал без роздыху. А потом сел на краю леса под шатром плакучей берёзы перекурить и испить домашнего квасу. Ветви берёзы, ещё достаточно зелёные, словно руками тянулись к Фёдору и хотели участливо приласкать землепашца. Однако за своими заботными мыслями тот не замечал их гибкие, колыхающиеся в сочувствии пышные космы.
Прохор тем временем ещё пахал, затем скомандовал сыну пока выгнать лошадей на луг пощипать свежей травы, а сам усталой, валкой походкой сошёл с борозды и по жнивью грузным шагом пошёл к Фёдору, сидевшему на краю леса на зелёной траве.
– Ну как, ты уже устал? – слегка усмехаясь, спросил тот, подойдя к своему работнику, потом нагнулся, сорвал высокий стебель выстоянной овсяницы и всунул в рот, став его перебирать губами, а потом откусывал и сплёвывал.
– Ничего, вот перекурю и пойду дальше, – спокойно ответил Зябликов, и, подкуривая цигарку, прибавил: – Да вот сдаётся мне, соха твоя на два коня или на хорошего мерина.
Фёдор глубоко затянулся и тут же выпустил в сторону струю едкого дыма, но она, подхваченная ветерком, вдруг устремилась в сторону Прохора, который не переваривал табак, и был вынужден отмахнуться от дыма, но сейчас он, не придавая этому значения, понимая важность момента общения с батраком, с чувством какого-то превосходства важно ответил:
– Не переживай! Опробована мной не раз, плуг я сам приладил, зато широко берёт, – Глотов выждал тягучую паузу и затем спросил: – На меня сердишься, Фёдор, только по-честному?
При этом его взгляд принял в своей суровости лукавый прищур.
– А чего мне сердиться? – в удивлении бросил тот. – Должен, – значит, деваться некуда! Ты же мне зерно не предлагал, а я сам выпросил. Если бы я собрал богатый урожай, что же я, не отдал бы? – вопросительно с тайной обидой произнёс, и прибавил: – Тебе не так нужно зерно, как скорей бы вспахать землю…
– Ага, хочешь сказать – эксплуататор? – куражливо заметил он. – Ну, а ежели в будущем году наступит неурожай, тогда как мне быть? Вот видишь, – протянул Прохор с сознанием своей неоспоримой правоты, развёл в стороны руки с ехидным выражением на полноватом и скуластом лице. – Никак ты понимаешь – не угадаешь, что там впереди ждёт всех нас! – присовокупил резонно он.
– Разумно! Конечно, трудно угадать, как природа распорядится, – задумчиво проговорил Фёдор, поглядывая на коня, пощипывающего в отдалении oт них траву.
– Вот! Значит, ты ничего несправедливого в этом не находишь, я угадал? Верно, Фёдор? – но он не ждал от него ответа и продолжал: – Всё правильно, всегда тебя считал умным мужиком, с которым не грех иметь дело, – он помолчал, как-то хитровато прищурился и погодя прибавил: —Только что хочу сказать… ты смотри… того, чтобы по деревне слух не гулял, мол, Зябликов батрачит у Глотова…
– Так от меня одного это не будет зависеть. Небось у людей тоже есть глаза. А вон погляди, Силантий с отцом выехал пахать, а там вдали мелькает и Макаров. Тогда всем такой наказ давай. Ежели что касается меня, так мне не к чему ходить да суесловить перед каждым, что я вкалываю на Глотова! – Фёдор насупил хмуро брови и смотрел перед собой, а Прохор ловил его настроение, всматривался в выражение лица, стараясь по ним уяснить, насколько мужик перед ним искренен.
– Скажи, Фёдор, так и манилось брякнуть: мол, на кулака? Ведь в душе кулаком меня считаешь? – прищурил в хищной улыбке Глотов лукавые глаза.
– А это моё дело. Кажись, воевал за красных. Или только слух такой в свою пользу распускал? – хотя и ответил так Ф1дор, но в душе струхнул, что этот разговор сейчас ни к месту.
– Эвон куда глянул?! – вскинул тот удивлённо голову. – Так ежели бы за белых, разве я бы тут был, а? То-то! А насчёт кулака отвечу так: не знаю я кулака, никогда в лицо не видел! Его придумали политиканы навроде тебя… А то, что у меня подворье исправное, – так это надо подюжей работать, не покладая рук! Землицы у меня чуть больше твоего надела, да учти: у меня пять ртов. А у тебя? – вытаращил свирепые, разгоряченные от гнева глаза Прохор.
– Да разве я об этом толкую, – растерялся Фёдор. —Я свою землю не в силах с матерью засеять. Лошади пока нет, а вручную немного посеешь.
– Может, я тебя не так уразумел, но ты прикинь, ведь я для тебя старался, думал, зерно тебе трудно отрывать…
– Ну, это кому как, а долг платежом красен, – как бы напомнил и неприязненно отвернулся.
– Всё это верно, так ты объясни Наметову, мол, никто тебя не неволил: зерна нет, решил расплатитъся натуральным трудом. Значит, я могу рассчитывать на твою поддержку?
– Разве что когда спросит – уважу, – буркнул Фёдор.
– Во-во, по великой потребе! Ну, посидели передохнули, а теперь и за работу!
«Что же это он со мной делает? Глотов не признает себя кулаком, кулак не видит в себе кулака? Тогда почему бедняк, никогда не зная достатка, смотрит на себя не иначе как на бедняка, и напрасно ему представлять из себя кулака», – налегая всей грудью на соху, угрузая в мягкой, пушистой пахоте, размышлял Фёдор и дальше развивал свои мысли в том же духе.
Политика большевиков была ему по духу искони близка – они хотели построить справедливое рабоче-крестьянское общество. Однако было непонятно, почему среди людей встречались противники справедливости, которые жили только ради своей выгоды, а то, что её отстаивали для бедняков большевики, – это их нисколько не интересовало, просто они ловко проворачивали свои дела. И Фёдора донельзя злило, что с такими, как Глотов, никогда не будет справедливости. Даже среди крестьян с меньшим достатком находились её противники, которые, видно, никак не могли принять новый уклад жизни, насильственно сменивший старый, оставшийся для них дорогим. Хотя в другой раз Фёдор ловил себя на том, что ему тоже было жалко порушенного революцией старого уклада, но эта жалость ничего не стоила перед открывающимися возможностями жить по-новому. И какое Фёдору было дело до того, что сталось с правящим, имущим классом. Конечно, многие богатеи драпанули за границу, – значит, туда им и дорога. Об их дальнейших судьбах он почти не задумывался, чаще всего это происходило после того, когда вычитывал в газетах сообщения о расстрелах, на которые реагировал как на вполне закономерный революционный процесс…
И вот так, налегая грудью на соху, Фёдор вывел для себя любопытное умозаключение: если разорить кулака до жалкого состояния бедняка, то бывший кулак тотчас возропщет, что у него отняли честно заработанное своим горбом имущество, а значит, поступили крайне несправедливо. И при всём при том кулаки не поднимались на борьбу за правое дело, как это сделали большевики, ибо они были довольны существовавшими порядками, в то время как беднякам, чтобы что-то иметь, приходилось проливать кровь. Однако в то время Фёдор пока ещё не ведал, что как раз вооружённая политическая борьба сродни бандитскому разбою. Вместо того чтобы приумножать неустанным трудом своё благосостояние, люди кинулись делить имущество побеждённых, которые с этим не смирились и повели контрреволюционную борьбу. Вот и началась междоусобица исключительно в интересах каждой враждующей стороны. И всё равно за годы нэпа появились богатые, существующие даже среди партийных работников и советских служащих, а в селе – зажиточники.
И вот ежели бедняка сделать новым кулаком, неужели он легко забыл бы своё прежнее бедняцкое положение и начал бы чинить препятствия установлению справедливого строя? Неужели он, Фёдор, став богатым, напрочь забыл бы о социальной справедливости и о том, как она завоёвывалась в кровопролитных боях, и принялся бы её безжалостно изводить? Нет, этого безобразия он бы себе не позволил! Возможно, кто-то и восстал бы против советской власти, дай тому несметные богатства, да только не он. Когда на миг представил себя богатым и сытым, то открыл для себя, что, если бы у него появилось много денег, он бы сейчас не пахал чужой надел. Наступит ли когда-нибудь такое время, когда все люди будут жить в достатке? Не зря же он воевал за свободу ради того, чтобы жить по-людски…
Фёдор приостановился посреди поля, давая малость лошади передохнуть, вытирая рукавом сатиновой рубахи пот с разгорячённого лица. Затем огляделся вокруг, как раз была только первая половина погожего сентября. В тихую и ясную погоду солнце ещё достаточно хорошо пригревало. Однако птицы уже так весело, как летом, не щебетали в лесу. Лишь кричали чёрные вороны и грачи, слетались на свежую пахоту, важно расхаживали по бархатной земле.
Вдали над лесом стояли крутобокие пепельно-белые облака, словно робели приблизиться, чтобы смело идти дальше. А Фёдору казалось, что это они на него этак милостиво уставились, не желая загораживать солнце и не давая дождю пролиться, пока он пашет. Слабый ласковый ветерок струисто шевелил тёплый воздух, нежно касался разгорячённого и потного лица и казался прохладным и мягким…
Фёдор опять задумался, ему сейчас хотелось поведать Прохору все свои мысли (только что назойливо толкавшиеся в сознании): как бы он тогда заговорил? Наверное, заухмылялся бы ехидно и что-нибудь выдал хитрое в свою защиту. Взять хотя бы того же Силантия Пантюхова, ведь тот, так же как и он, Фёдор, почти бедняк, работает старательно. Однако же, чтобы завести, как у Глотова, населённое разной живностью подворье, ему надо тянуться и тянуться.
О себе Фёдор даже не заикался, ибо пока не имел ни одной лошади, в то время как у Глотова было четыре. Разумеется, со временем и он, Фёдор, соберет деньжат на приобретение коня. А пока, чтобы вспахать свой надел земли, он обращался за помощью к отцу Силантия, и тот давал лошадь, за что Фёдор в конце лета расплачивался стожком сена. Но стоило бы Фёдору с той же просьбой обратиться к Прохору, тот ни за что бы не дал ему своего коня. В крайнем случае затребовал бы расчёт вперёд не чем-нибудь, а деньгами. За умение вести хозяйство в селе его почитали. Что бы о нём ни говорили, Глотов праздно не расхаживал по селу, а если, случалось, приходил в лавку за керосином, то с односельчанами разговаривал с этаким барственным нажимом, ему редко кто перечил. Значит, признавали за ним авторитет и силу. Даже те, что были хозяевами крепких подворий, считали за честь побыть в компании с Глотовым и послушать, что он говорил…
Когда-то отец Прохора был в их округе известным ветеринаром, ездил по деревням лечить от напастей скот. Говорят, от этого промысла Ермолай Глотов стал богатеть, но особенно быстро – после революции. Теперь старик лежал пластом, расшибленный параличом, и Прохор смелее, ухватистее взялся за гуж хозяйства и в годы нэпа ещё быстрей пошёл в гору…