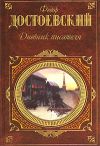Текст книги "Имя автора – Достоевский"

Автор книги: Владимир Захаров
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Как бы там ни было, писатель извлек уроки из своего «неудачного» опыта в разработке темы двойника. Об этом свидетельствует развитие этой темы в X – XIII главах третьей части романа «Подросток» и в X главе «Это он говорил!» XI книги «Братьев Карамазовых», фантастика IX главы «Черт. Кошмар Ивана Федоровича» той же книги романа.
В записных тетрадях Достоевского есть текст, имеющий непосредственное отношение и к «Двойнику», и к названным главам романа «Подросток»:
«Голос. Понедельник 10-го ноября. Фельетон. О сумасшествии двойника. Голядкин» (ЛН 1971, 7).
C ним связаны две записи из творческих рукописей к «Подростку»: «Двойник. Сумасшествие. Один захохотал над гробом. Я разбил образ» (Д30, 16; 194); «Двойник захохотал на похоронах» (Там же, 369).
Впервые запись опубликована и прокомментирована Г. М. Фридлендером с частичным привлечением материала фельетона, на который ссылался Достоевский. Запись прокомментирована в духе традиционной концепции двойничества в повести – без достаточных на то оснований утверждается, что «выводы английского психиатра заинтересовали Достоевского своей близостью к картине психологического состояния Голядкина в повести “Двойник”» (ЛН 1973, 474). Между тем запись имеет другой смысл.
Достоевского заинтересовало подробное изложение книги английского психиатра Уинтера «Области, сопредельные с умственным расстройством, и другие статьи по тому же предмету», и особенно первая статья «Умственное расстройство»:
«В первой статье, давшей заглавие сочинению, доктор Уинтер сообщает о видах умственного расстройства, которые в прежнее время не признавались болезнью. Это объясняется тем, что черта, отделяющая здравый рассудок от умственного расстройства, тонка, и группа людей, пребывающих на нейтральной территории, очень велика. Он преимущественно обращает внимание на те формы болезни мозга, симптомы которой не представляются ясными для всех» (Новости иностранной литературы 1875).
Следующее утверждение английского психиатра имеет отношение к теме «О сумасшествии двойника»: «В известном состоянии сознания человек может находиться в постоянной борьбе с самим собою и с подстрекательствами двойника совершить или сказать то, что претит его природе в нормальном состоянии» (Новости иностранной литературы 1875). В числе «некоторых первоначальных симптомов “умственного расстройства”» фельетонист назвал «возбуждение чувств», «извращения чувств осязания», «утрату памяти», «порчу почерка», «употребление не тех слов в разговоре и двойное зрение».
Запись сделана в разгар интенсивной работы Достоевского над заключительными главами (IX–XIII) третьей части романа «Подросток», предназначавшимися для двенадцатой книжки «Отечественных Записок» (вышла 21.12.1875, предшествующие V–VIII главы романа вышли в ноябрьской книжке «Отечественных Записок» 19.11.1875). Именно в Х, XII и XIII главах, над которыми Достоевский работал в ноябре 1875 г., «двойник» Версилова становится основным мотивом в завершении сюжета романа.
К фельетону восходит одна фраза из XIII главы («Заключение»):
«Чтó такое, собственно, двойник? Двойник, по крайней мере, по одной медицинской книге одного эксперта, которую я потом нарочно прочел, двойник, это есть не чтó иное, как первая ступень некоторого серьезного уже расстройства души, которое может повести к довольно худому концу» (Д18, 10; 403).
Реферат статьи Уинтера из фельетона использован Достоевским в полемике Аркадия с «медицинской точкой зрения»:
«Впрочем, настоящего сумасшествия я не допускаю вовсе, тем более что он – и теперь вовсе не сумасшедший. Но “двойника” допускаю несомненно» (Там же)[10]10
Ср.: «“На сумасшедших не сердятся, а Татьяна озверела на него от злости; значит, он – вовсе не сумасшедший…”. О, мне все казалось, что это была аллегория и что ему непременно хотелось с чем-то покончить, как с этим образом, и показать это нам, маме, всем. Но и “двойник” был тоже несомненно подле него; в этом не было никакого сомнения» (Д18, 10, 371).
[Закрыть].
Достоевский был неизменно против психопатологического толкования своих произведений. Думается, не случайно. Драматическая судьба второй повести обостряла эти настроения писателя. Многое в отношении Достоевского к «медицинской точке зрения» объясняет хотя бы такое его замечание по поводу случая, описанному в «Господине Прохарчине»:
«Впрочем его тело хотели вскрывать, увериться, что он был сумасшедший. Мне кажется, что вскрытием не разъясняются подобные тайны. Да и какой он был сумасшедший!» (Д18, 4; 14).
В фельетоне «Новости иностранной литературы» Достоевский нашел объяснение «провала», почему не далась ему форма «Двойника».
Появление двойника и сумасшествие Голядкина в финале повести – такое сочетание оказалось роковым для многих современников Достоевского. Многим читателям, всем критикам, писавшим о фантастике повести, казалось, что двойник – форма сумасшествия Голядкина; на самом же деле – реальное действующее лицо.
В VI главе есть одна колоритная жанровая сценка – диалог между Голядкиным и Антоном Антоновичем Сеточкиным, «которому поболтать о чем-нибудь было истинным праздником» (Д18, 1; 118). В беседе с Голядкиным Антон Антонович «выдерживает свой характер вполне»: дважды в этой сцене Голядкину приходится возвращать словоохотливого Антона Антоновича к разговору на оставленные темы, а говорят они о новом чиновнике Голядкине-младшем. Антон Антонович пытается убедить Голядкина-старшего не воспринимать так ужасно это «чудесное сходство, фантастическое, как иногда говорится, то есть совершенно, как вы…» и начинает по ассоциации с двойником господина Голядкина рассказывать о другом «двойнике» – о «двойнике» своей «тетушки с матерней стороны: она тоже пред смертию себя вдвойне видела» (Там же, 118). Ситуация – лучше не придумать: не видит ли и себя Голядкин «вдвойне»? Нет даже намека на это в тексте сцены. Вопросом о деталях служебного производства своего двойника Голядкин перебивает Антона Антоновича (рассказ того о «тетушке» не имеет никакого отношения к ситуации, в которой оказался Голядкин, ассоциативное мышление – характерная черта речевого поведения Антона Антоновича в этом диалоге). Антон Антонович вполне согласен, что отдалился от темы разговора, больше не возвращается к своему рассказу, но отвечая на вопрос Голядкина, Антон Антонович снова увлекся: начал рассказывать о вдове «Семена Ивановича, покойника», на чье место поступил в департамент Голядкин-младший. Голядкину и это не интересно. Интересно одно – все о двойнике, о Голядкине-младшем. Антон Антонович Сеточкин успокаивает встревоженного Голядкина-старшего: «Что ж? ведь вы сторона; это уж так сам Господь Бог устроил, это уж Его воля была, и роптать на это грешно. На этом Его премудрость видна. А вы же тут, Яков Петрович, сколько я понимаю, не виноваты нисколько. Мало ли чудес есть на свете! Мать-природа щедра; а с вас за это ответа не спросят, отвечать за это не будете» (Там же, 119). И для примера начинает рассказывать о «сиамских близнецах», но слишком уж оскорбительным показался Голядкину-старшему этот намек Антона Антоновича, сболтнувшего: «…срослись себе спинами, так и живут, и едят, и спят вместе; деньги, говорят, большие берут» (Там же). Голядкин даже возмутился: «Позвольте, Антон Антонович…» Наконец после всех отступлений от темы словоохотливый столоначальник удовлетворяет любопытство Голядкина, который наконец выясняет детали служебного производства своего двойника. Герой успокаивается: появление двойника ничем ему вроде бы не угрожало…
Очевидно, что двойник не был следствием «двойного зрения». Этот симптом «умственного расстройства» отсутствует в тексте повести, как и другие «симптомы»: «извращения чувств осязания», «утрата памяти», «порча почерка», «употребление не тех слов в разговоре».
Двойник не был симптомом «умственного расстройства» Голядкина. И всё же Голядкин сходит с ума. Как же разрабатывал Достоевский тему помешательства Голядкина, если она не связана с темой двойника?
О предрасположенности Голядкина к «умственному расстройству» можно догадываться по его визиту к доктору Крестьяну Ивановичу во второй главе. «Странности» в поведении господина Голядкина, хотя и объяснимы его идеей, свидетельствуют о нездоровье титулярного советника (Голядкин, как говорится, «не в себе»). По мере того, как события в повести приобретают угрожающий для Голядкина характер, развиваются и болезненные черты в его сознании: он подозрителен, не уверен в себе, не всегда в состоянии верно оценить смысл происходящего.
В конце XI главы Голядкин сходит с ума, и психопатологическая разработка помешательства титулярного советника сразу же сказалась в тексте «Двойника»: временами сознанием Голядкина овладевают маниакальные настроения (его хотят отравить), не в состоянии он критически оценить факт появления письма от «Клары Олсуфьевны», в последней главе Голядкин уже перестал понимать происходящее вокруг него. Впрочем, сознание Голядкина только периодами омрачается болезнью, и в последних главах он зачастую рассуждает здраво.
Не являются симптомом «умственного расстройства» Голя дкина его затруднения в выражении собственных мыслей – автор объясняет их иначе: во-первых, сознание Голя дкина не развито, во-вторых, он «путается» тогда, когда понимает тщетность своих хлопот, в-третьих, косноязычие одолевает его, когда он принимает несвойственную ему позу.
Финал «приключений господина Голядкина» – сумасшедший дом. Развязка вполне подготовлена предшествующим развитием событий в повести, но именно в реалистической разработке темы помешательства Голядкина в сочетании с поэтической условностью фантастики (двойник) кроется причина столь долгого непонимания «Двойника» читателями и критикой.
Достоевский уяснил в конце концов причину провала повести.
Об этом свидетельствует не только запись со ссылкой на фельетон «Новости иностранной литературы» в газете «Голос», но и открыто полемическое отношение писателя к «медицинской точке зрения» на «двойника» в заключительных главах «Подростка», где сознание Версилова «расщеплено» фатумом – его «любовью-ненавистью» к Катерине Николаевне.
Учел причину провала «Двойника» Достоевский и в работе над романом «Братья Карамазовы», где в IX главе «Черт. Кошмар Ивана Федоровича» (XI книга) он не только обратился к «завуалированной» форме фантастики, но и мистифицировал читателя «галлюцинациями» героя.
Указания на «галлюцинации» на первый взгляд неоспоримые. Сам Иван третирует черта: «Ты моя галлюцинация» (Д18, 14; 227), о начинающейся болезни его говорит в начале главы автор (Д18, 14; 225), в письмах Н. А. Любимову (Д18, 16.2; 226–227) и А. Ф. Благонравову (Там же, 254–255) Достоевский пишет о своем стремлении быть верным в изображении психической болезни и т. д.
На самом деле все не так. Если черт – «галлюцинация», то «галлюцинация» и сам Иван. Все описанное в IX главе – исключительно все! – разворачиваются в сознании Ивана Карамазова. И сам он, и черт – персонажи его сна: в болезненном состоянии он видит художественную картину – визит к нему черта («кошмар» – это тот же сон, в котором исчезает граница между сном и явью).
Автор подсказывает внимательному читателю художественную природу этой фантастической сцены. Так, в IX главе Иван намочил полотенце, приложил его к голове, через некоторое время отбросил на стул. На самом же деле в X главе полотенце лежит «у туалетного столика Ивана, чистое, еще сложенное и не употребленное» (Д18, 14; 240). Или: «Иван вдруг схватил со стола стакан и с размаху пустил в оратора», на деле же – очнувшийся Иван видит, что «стакан, который он только что бросил в своего гостя, стоял перед ним на столе» (Д18, 14; 238). На этой же странице две внешне противоречивые фразы. Первая: «В раму окна вдруг раздался со двора твердый и настойчивый стук. Иван Федорович вскочил с дивана». Вторая: «Стук продолжался. Иван хотел было кинуться к окну; но что-то как бы вдруг связало ему ноги и руки. Изо всех сил он напрягался как бы порвать свои путы. Стук в окно усиливался все больше и громче. Наконец вдруг порвались путы, и Иван Федорович вскочил на диване. Он дико осмотрелся». Дважды на одной странице повторяется одно и то же действие, но первый раз во сне, второй раз – во время пробуждения. Сцена свидания Ивана с чертом названа сном самим Достоевским: «Стук в оконную раму хотя и продолжался настойчиво, но совсем не так громко, как сейчас только мерещилось ему во сне, напротив, очень сдержанно» (Там же).
«Галлюцинации» героя – на самом деле мистификация автора. Так психопатологически разрабатывает тему своего свидания и разговора с чертом сам Иван Карамазов. Возможность такой разработки темы психологически объяснена и мотивирована одной фразой доктора, припомнившейся герою накануне сна: «Галлюцинации в вашем состоянии очень возможны» (Там же, 225).
Таким образом Достоевский защитил свое право на художественную фантазию. Эстетическое сознание многих критиков не было готово к восприятию фантастики, где действует не кто-нибудь, а черт. Для таких здравомыслящих читателей писатель и придумал психологическую мотивировку в объяснении черта в романе. Это не перестраховка: эта мотивировка на самом деле помогла Достоевскому преодолеть предугаданные затруднения при публикации главы в «Русском Вестнике» («6-ю, 7-ю и 8-ю главы считаю сам удавшимися. Но не знаю, как Вы посмотрите на 9-ю главу, глубокоуважаемый Николай Алексеевич!» и далее: Д18, 16.2; 226–227), во-вторых, что было самым главным, – свести на нет предвиденную реакцию литературных противников, о чем он писал в письме А. Ф. Благонравову: «За ту главу Карамазовых (о галюсинации), которою Вы, врач, так довольны, меня пробовали уже было обозвать ретроградом и изувером, дописавшимся “до чертиков”. Они наивно воображают, что все так и воскликнут; Как? Достоевский про чорта стал писать? “Ах, какой он пошляк, ах, как он не развит!”. Но кажется им не удалось!» (Там же, 254–255).
Глава «Кошмар Ивана Федоровича» – фантастический эпизод в романе: черт на самом деле «чорт, мелкий чорт, а не Сатана с “опаленными крыльями”», субъект со своим характером («приживальщик»), со своим самосознанием и своим языком («это ведь чорт говорит, он не может говорить иначе») (Там же, 227).
Следующая десятая глава «Это он говорил» продолжает развитие тем девятой главы, но в ней нет ничего фантастического. Автор раскрывает внутреннюю двойственность Ивана. Слов, приписанных Иваном черту, в предшествующей главе нет. Их сочиняет, выражая двойственность своего сознания, сам Иван – это он, а не черт говорит.
Поздние признания Достоевского в «художественной неудаче» повести – вынужденные. В момент работы «Двойник» – «chefd’oeuvre» (Д18, 15.1; 75). Столь же высоко оценивал он повесть, когда она вышла из печати: «Голядкин в 10 раз выше Бедных людей[11]11
Ср.: у В. Г. Белинского: «Для всякого, кому доступны тайны искусства, с первого взгляда видно, что в «Двойнике» еще больше творческого таланта и глубины мысли, нежели в “Бедных людях”» (Б13, 9; 564).
[Закрыть]. Наши говорят, что после Мертвых душ на Руси не было ничего подобного, что произведение гениальное и чего-чего только не говорят они! С какими надеждами они все смотрят на меня! Действительно Голядкин удался мне донельзя. Поправится он тебе, как не знаю что! Тебе он понравится даже лучше Мертвых душ, я это знаю» (Там же, 76–77). Правда, через месяц тон отзывов Достоевского о «Двойнике» изменился – Достоевский смущен порицательными наставлениями критики, недовольством публики, сетующей на утомительность чтения повести: «Но вот что гадко и мучительно: свои, наши, Белинский и все мною недовольны за Голядкина. Первое впечатление было безотчетный восторг, говор, шум, толки. Второе – критика: Именно: Все, все с общего говору, т. е. наши и вся публика, нашли что до того Голядкин скучен и вял, до того растянут что читать нет возможности» (Там же, 78). И всё-таки даже в этой ситуации чувствуется убежденность оскорбленного автора в значительности, если не гениальности, «Двойника», в его художественной ценности – Достоевский продолжает в письме: «Но что всего комичнее, так это то, что все сердятся на меня за растянутость и все до одного читают напропалую и перечитывают напропалую. А один из наших тем только занимается, что каждый день прочитывает по главе, чтобы не утомить себя, и только чмокает от удовольствия. Иные из публики кричат, что это совсем невозможно, что глупо и писать и помещать такие вещи, другие же кричат что это с них и списано и снято, а от некоторых я слыхал такие мадригалы, что говорить совестно»[12]12
Ср. у В. Г. Белинского: «Знатоки искусства, даже несколько утомляясь чтением “Двойника”, всё-таки не оторвутся от этого романа, не дочитав его до последней строки…» (Б13, 9; 566). Или: «По всем этим причинам «Двойника» оценили только немногие дилетанты искусства (употреблено в значении «знатоки искусства». – В. З.), для которых литературные произведения составляют предмет не одного наслаждения, но и изучения» (Б13, 10; 41). Всё это свидетельствует о наличии среди читателей не только тех, кто порицал автора, но и тех, кто восхищался его повестью. В частности, для Н. Г. Чернышевского в юности «Двойник» – пример того, как надо писать: «Я ему (В. П. Лобадовскому. – В. З.) дрожащим голосом рассказал “Двойника”, и он сначала думал, что это я написал», – с гордостью заключил он (Чернышевский 1949, 1; 365).
[Закрыть]. Непризнание «Двойника» потрясло начинающего писателя – он заболел «от горя», от «неограниченного самолюбия и честолюбия», повесть опротивела ему, как отвращает любое неудавшееся дело, если на него возлагалось слишком много надежд, – как и было в случае с «Двойником», который не выполнил своего назначения – не стал «великим делом»: «Что же касается до меня, то я даже на некоторое мгновение впал в уныние. У меня есть ужасный порок: неограниченное самолюбие и честолюбие. Идея о том, что я обманул ожидания и испортил вещь, которая могла бы быть великим делом, убивала меня. Мне Голядкин опротивел. Многое в нем писано на скоро и в утомлении. 1-я половина лучше последней. Рядом с блистательными страницами, есть скверность, дрянь, из души воротит, читать не хочется. Вот это-то создало мне на время ад, и я заболел от горя» (Там же). Казалось бы, произведена «переоценка» повести, все стало на свои места, но нет – с замиранием сердца Достоевский прислушивается к мнениям, отличным от неприязненной критики: «О Голядкине я слышу исподтишка (и от многих) такие слухи что ужас. Иные прямо говорят что это произведение чудо и не понято. Что ему страшная роль в будущем, что если б я написал одного Голядкина то довольно с меня, и что для иных оно интереснее Дюмасовского интереса» (Д18, 15.1; 93). Скорее всего «слухи» оживились в публике под впечатлением появившегося в то время обзора В. Майкова «Нечто о русской литературе в 1846 году», содержавшего глубокий анализ «Двойника».
Достоевский был убежден, что для того, чтобы читатели поняли «Двойника», надо «обделать», «исправить» повесть: «…это исправление, снабженное предисловием – будет стоит нового романа. Они увидят наконец, что такое Двойник! Я надеюсь слишком даже заинтересовать. Одним словом, я вызываю всех на бой (и наконец если я теперь не поправлю Двойника, то когда же я его поправлю? Зачем мне терять превосходную идею, величайший тип, по своей социальной важности, который я первый открыл и которого я был провозвестником?)» (Там же, 259).
Отзывы Достоевского о «Двойнике» беспрецедентны: «шедевр», «произведение гениальное», «лучше Мертвых душ», «вещь, которая могла бы быть великим делом», «произведение чудо», «если б я написал одного Голя дкина, то довольно с меня», «ему страшная роль в будущем», «будет стоить нового романа» – эти и другие мнения, свои и «чужие» слова из писем Достоевского, достаточно полно обнаруживают честолюбивые притязания молодого автора. Ни об одном из своих произведений он не говорил таких слов, как о своей первой повести.
Отзывы Достоевского о «Двойнике» показывают, какое значение писатель придавал повести в течение своей жизни. И только в 1877 г. – через тридцать один год после появления, через одиннадцать лет после выхода второй редакции, когда стало ясно, что непризнание – удел «Двойника», Достоевский, наконец, согласился с приговором критики: «Повесть эта мне положительно не удалась, но идея ее была довольно светлая, и серьезнее этой идеи я никогда ничего в литературе не проводил» (Д18, 12; 257). Достоевский признал неудачу – но как? Своим отзывом о великой идее «Двойника», признанием, как долго он не мог разрешить загадку провала повести, так и не разгадав ее вплоть до создания второй редакции, Достоевский привлек внимание исследователей к своему творению, на котором лежала печать и гениальности, и отверженности. По верному замечанию Л. П. Гроссмана, «второе произведение Достоевского оказалось едва ли не самым дискуссионным во всем его литературном наследии» (Гроссман 1965, 65).
Все известные на сегодняшний день упреки в «антихудожественности» повести сделаны при психопатологическом прочтении фантастики «Двойника». Они несостоятельны, как несостоятельна концепция, вызвавшая их к жизни. Необходимо отказаться от ошибочной трактовки фантастической повести Достоевского.
Якобы «высокая» оценка повести психиатрами преувеличена.
В. Чиж, например, был критичен по отношению к «Двойнику»:
«…достоинство этой повести значительно уменьшается, по крайней мере для психиатра, введением редкого случая – появлением двойника», «картина развития помешательства Голядкина не полна» (Чиж 1885, 26, 33).
Эту категоричную оценку пытался смягчить В. Бехтерев, но и он, в общем-то, согласился с мнением В. Чижа, заявив:
«Ценность же художественных произведений вовсе не в копии с натуры и не в воспроизведении самых болезненных состояний» (Бехтерев 1962, 137).
Для Бехтерева психопатология как наука и художественная психопатология – разные вещи, и смешивать их недопустимо.
Н. Осипов в «Заметках психиатра», хотя и пытается частично пересмотреть свой исходный тезис[13]13
По мнению Н. Осипова, художник, изображая психопатологические процессы, совершает «психиатрическое открытие», такое произведение «полезно» для читателя, так как «освобождает его от многих предрассудков в суждениях о душевнобольных» (Осипов 1929, 48).
[Закрыть], так формулирует его:
«Если психиатр, разбирая художественное произведение, восхваляет автора за верность действительности, на самом деле он высказывает уничтожающее суждение» (Осипов 1929, 46).
Это один из самых впечатляющих парадоксов в историко-литературной судьбе повести: в своих эстетических оценках психиатры оказались проницательнее многих литературоведов.
В «Двойнике» – зерно многих будущих художественных и публицистических мыслей Достоевского. По грандиозности содержания «Двойник» уникален среди других произведений писателя.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?