Текст книги "Священное ремесло. Философские портреты"
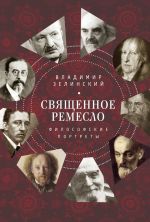
Автор книги: Владимир Зелинский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Цель поэзии – не только выразить незримое в здешнем, но и видимое облечь светом невидимого, вернуть звучание тому, что мы разучились воспринимать смертным слухом. Сделать вещи присутствующими в том виде, какими вышли они из рук Творца.
То определение, которое апостол Павел дает вере в Послании к евреям, парадоксальным образом может быть отнесено и к поэзии. Есть же вера уповаемых извещение, вещей обличение невидимых (Евр. 11:1). Суть определения в том, что невидимое ожидается и предчувствуется нами, что душа чувствует себя на месте только невидимом, что она заворожена тоской по нему и уверенно прозревает его в уповании. Вещи – мир в целом, сотворенное и сущее, первозданное и подлинное – вызываются словом к их видимому присутствию. Это не платоновский мир идей, которые должна постичь или вспомнить душа человека, это тот окружающий ее мир, незримый и зримый, для нее именно созданный и ее ждущий, но сокрытый в обыденном, черновом восприятии.
В поэзии слово как будто непредугаданно что-то с себя сбрасывает, становится вдруг нагим, и мы изредка успеваем уловить в нем какое-то «объясняющее странное движение, все то же плещущее сгорание одежд…» (Из Записных книжек).
Так – будто бы луч света выхватывает из черноты нечто притаившееся, окликающее нас, и в звездном небе или в «пылинке дальних стран» проглянет внезапно изначальная разумность и сотворенность, и словно горстка благословения прольется из человеческой речи…
Мы, как люди, существуем благодаря тому, что обладаем речью. Но лишь поэзия может вернуть нас к ощущению этого дара, очистить его от безликости и мути. Она возвращает нас к той истине, которую мы носим в памяти и сердце – истине языка. Когда поэзия исчезает (а это случается по наблюдению Мандельштама лишь во времена общественного идиотизма), как быстро тускнеет язык и сереют называемые им вещи. Некогда наши классики, коим по недосмотру позволили быть – Пушкин и Блок, Толстой и Гоголь оставались для стольких людей последними незатоптанными очагами русской речи, что не давали ей заледенеть, когда она, казалось, уже не звучала речью человеческой.
Язык – не только «живое и трепетное отечество внутри нас» (как довелось прочитать где-то), это еще и особая реальность нашего существования, и скрытая его ритмичность. Дар поэзии не только в том, что им выявляется музыкальность, скрытая в языке, но и в том, что он соединяет нас с истоком самой музыки – со Словом. Ибо Слово, силой которого держится мир (см. Евр. 1:3), есть источник света. Оно есть родник, коим все созданное приходит к бытию, устроенному согласно замыслу о нем, т. е. гармонии. Все чрез Него начало быть… что начало быть.
Наделенный даром слова приобщает нас словом тому, что было одарено бытием. Выводя гармонию из ее глубин, трудясь над ней, он работает над очищением сотворенного мира. Созданное он ищет вернуть Отцу обнаженным, звучащим, звонким, «прекрасным втайне». Эту тайну он призван явить во всей ее гармоничности и неподдельной правде. В самом обнажении бытия и цветении тайны, невидимых пока под копотью мира сего, раскрывает себя одна из сторон христианского призвания человека. Его призвание не распадается на отдельные фрагменты; оно целостно. Святость на вершинах своих окрашивается поэзией, и поэзия, совершив в себе работу внутреннего очищения, находит в Церкви путь к священнодействию. Но то, что Церковь может увидеть ясными, зрячими глазами, поэзия иногда лишь предугадывает как сон
…живой и мгновенный,
Что нечаянно радость придет.
И пребудет она совершенной.
Но поэт, владелец таланта, зачарован своими снами, вовлечен в их взаимные отражения, играет с ними профессионально. В Дневниках или Записных книжках Блока я встретил когда-то фразу: мне не нужно больше писать стихов, потому что я слишком хорошо умею это делать. В мире дисгармонии и тяжести художник покоряется земному притяжению отпущенного ему дара. Но чем подлинней дар, тем глубже связан он с тайной, из которой вырастает и которая в нем раскрывается. Чем крупнее дар, тем более он открыт и обращен вовне, к вещам, голосам, цветам, братьям. Отсюда – исток противоборства, владеющего художником, натяжение между человеческой тяжестью дара и его божественной легкостью, разделение между «работой Господней» и стяжанием человеческим. Поэт озабочен тем, чтобы сберечь свою тайну от черни, он хочет бежать с нею к морю и в лес, где «обнажаются покровы» и внятен становится язык стихий, но там наедине со стихиями поэт оказывается беззащитен перед ними. Стихии гибельные и дикие бросаются на его светлую тайну, стремясь овладеть ею.
А ночью слышать буду я
Не голос яркий соловья,
Не шум глухой дубров…
На каждом шагу закрывает нас тень памяти смертной, стенающей твари, крестной судьбы всего живущего. Тень и свет ведут свой нескончаемый спор во всем и повсюду. Тяжба двух зрений, двух интуиций, двух правд, мира сего и жизни будущего века – удел христианина. И особым образом запечатлевает себя этот спор в слове и тайне, им выявляемой. Музыка благословения всего сотворенного и существующего спорит здесь с «дикими страстями» и «сиянием небытия», с низинным притяжением смерти и служением падшим ангелам ее. В поэзии, столь тесно связанной с глубинами христианского опыта, пусть и не проясненного, как поэзия Блока, спор этот выставляется напоказ, устрояется заново – в гармонии.
Понять и осмыслить этот спор можно только в самой сути его – в причастии и кощунстве – в споре о Христе. Христос как исток гармонии в Слове – и музыка и мука поэзии Блока.
«Безумная, упоительная скачка – на привязи! – писал он Е. П. Иванову в 1904 году. – Но привязь – длинна, посмотрим еще. Так хочется закусить удила и пьянствовать. Говорите, что на каком-нибудь повороте мне предстанет Галилеянин, пусть! Но, ради Бога, не теперь!..
Только в тишине увидим Зарю. Мы – в бунте, мы много пачкались в крови. Я испачкан кровью. Раздвоение особенно. Ведь я “иногда” и Христом мучаюсь. Но все это – завтра».
А назавтра (через годы «мук и раздвоений») – Двенадцать:
…Так идут державным шагом —
Позади – голодный пес,
Впереди – с кровавым флагом
И за вьюгой невидим,
И от пули невредим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз —
Впереди – Исус Христос.
VI
«…почему Христос? Но чем больше я вглядывался, тем яснее я видел Христа. И я тогда же записал у себя: к сожалению, Христос» (К. Чуковский, Книга об Александре Блоке).
«Дионисийское волнение из своей пучины вынесло на берег священное имя, может быть, неожиданно для самого поэта» (К. Мочульский. Александр Блок).
«Какова бы ни была логика блоковского замысла, через какие бы исторические аналогии ни осмыслял поэт “своего Христа”, нельзя не признать, что образ спасителя и искупителя, в течение веков служивший в руках поповщины орудием лицемерия и обмана, вносит известный диссонанс в пламенную музыку поэмы. Читатель “Двенадцати” вправе был разделить первое искреннее недоумение самого автора: “Почему Христос?”» (Вл. Орлов. Поэма Александра Блока Двенадцать).
«И теперь он кого-то видел, только, конечно, не Того, Кого он назвал, но обезьяну, самозванца, который во всем старается походить на оригинал и отличается какой-нибудь одной буквой в имени, как у гоголевской панночки есть внутри лишь одно темное пятно. И заметьте: это явление “снежного Исуса” не радует, а пугает» (о. Сергий Булгаков. На пиру богов).
«Как известно, живописец Петров-Водкин говорил Д. Е. Максимову: “Я предпочел бы, чтобы там был просто Христос, без всяких белых венчиков”… Не он один предпочел бы так» (С. С. Аверинцев).
«Этот Исус Христос появляется, как разрешение чудовищного страха…» (о. Павел. Флоренский. О Блоке).
Кто ответит нам на это недоумение самого автора поэмы? Кому, в конце концов, принадлежит последнее слово? Литераторам? богословам? русской революции? Самой стихии, которой Блок, по его словам, слепо отдался в январе 1918 года? «Темой» Христа прорежена вся блоковская поэзия; последняя строка Двенадцати только собирает воедино множество разбросанных мотивов. Христос Двенадцати есть разрешение и устроение заново глухого и скрытого музыкального спора, в котором, если развернуть его и представить в лицах, атеист борется с аскетом, а мятежник не в силах победить в себе мистика. Музыка и смерть оспаривают здесь друг у друга истину о Христе. Блоку первому была более всего мучительна эта невыговоренная спорность.
«Отчасти “Исус Христос” у Блока списан поэтом с себя. И противоречивое отношение Блока к нему – это проекция его отношения к себе» (Е. А. Ермолин. Репетиция Апокалипсиса).
Т.е. Блок узнает себя в олицетворенном «духе музыки», ведущем ночной патруль красных апостолов?
Достоевский признавался, что предпочел бы остаться со Христом вне истины, чем с истиной вне Христа. Блок такого о себе повторить никогда бы не мог. Христос был для него лишь частью того «песенного сказанья», той «лирической величины», какой представлялась ему Россия. Христос был лишь частью той истины, которая называлась у него так интуитивно смутно: «духом музыки». Но и расстаться с этим «духом», постоянно выносящим Христа из «музыки» к слову, Блок тоже не мог. Поэт, хоть «он и слов кощунственных творец», ощущает это имя как нечто неотъемлемое от его лирических глубин. Вчитываясь в некоторые его стихи, мы пытаемся расслышать, что же лежит у него в истоке: музыка, Россия, Христос, или же эти темы слиты у него в одну:
Задебренные лесом кручи:
Когда-то там, на высоте,
Рубили деды сруб горючий
И пели о своем Христе.
Теперь пастуший кнут не свистнет,
И песни не споет свирель.
Лишь мох сырой с обрыва виснет,
Как ведьмы сбитая кудель.
Навеки непробудной ленью
Ресницы мхов опушены,
Спят, убаюканные ленью
Людской врагини – тишины.
И человек печальной цапли
С болотной кочки не спугнет,
Но в каждой тихой, ржавой капле
Зачало рек, озер, болот.
И капли ржавые, лесные,
Родясь в глуши и темноте,
Несут испуганной России
Весть о сжигающем Христе.
Стихотворение, как это часто бывает у Блока, поначалу кажется плотно окутанным звуковой тканью; чтобы войти в него, нужно отодвинуть его музыкальный полог. Строй стиха сразу же овладевает какими-то ритмами и речениями внутри нас, и мы незаметно оказываемся в его песенных узах. Мы как будто запутываемся в той невесомой полупрозрачной материи, которой стихотворение занавешено. На занавесе изображен пейзаж чуть стилизованного васнецовского леса, за которым мы видим сцену, где разворачивается видимое действие стихотворения, его «сюжет». Перед нами звучащее воспоминание о русских раскольниках. Со старообрядческой Русью Блок, вероятно, мог соприкоснуться, скорее всего, через искусство. За три года до написания стихотворения он видел Хованщину, оперу Мусоргского, в финале которой происходит массовое самосожжение староверов, выслеженных в глухих лесах царскими войсками. «Христа сжигающего» он мог услышать и в музыке оперы. Тогда он писал матери:
«“Хованщина” еще не гениальна (то есть не дыхание Св. Духа), как не гениальна еще вся Россия, в которой только еще готовится будущее. Но она стоит в самом центре, именно на той узкой полосе, где проносится дыхание духа…».
«Дыхание духа» воспринимается поэтом сквозь звуковые волны. Блок хочет разгадать их исток. За музыкой оперы, за дыханием России созревает гениальное будущее – гармония воплощенная. В стремлении к точному и тайному именованию ее сути – гармонии, гениальности и России – Блоку приходит на память одна из ипостасей Святой Троицы. Там, где проносится дыхание духа, видит он и очистительного «сжигающего Христа»…
Открытая сцена стихотворения представляет нам Русь раскольничью. Она отодвинута в глубину, в даль и быль, быльем поросшую, в глухую, ленивую глушь. Ритмический путь к ней начинается еще раньше – почти из былинной древности. К раскольничьему, к мятежному Христу последней строфы приводит нас давно умолкшая песня дедов. Первые строки стихотворения доносят некогда начатую и затерявшуюся где-то песню, соединяют нас с таинственно огненным духом музыки. Блока делала великим поэтом его способность воспринимать музыкальную сущность мира, слышать подземное его звучание, не заглушаемое текущим временем – «в душе или извне – этого Блок никогда не знал» (Л. Д. Блок. Были и небыли).
Некогда эта звуковая речь и вправду говорила на Руси. Может быть, она сама и была Русью. Она собирала своих верных и слышащих, всех способных воспринять сердцем ее тайный повелительный зов. Но мир и тогда был недостаточно музыкальным, и людские скопления в городах уже в XIV–XV веках, да и раньше, казалось, заглушали в сердцах посылаемые знаки. Те, кто были привлечены этим зовом, уходили из городов в нехоженые дебри, чтобы там, повинуясь призыву, трудиться молитвой и жить духовным деланием. Лишь молитвенным ритмом они были связаны, ничего не зная друг о друге. Но молва об их затерявшемся в лесах подвижничестве привлекала других; так рождалась община, возникал устав, монастырь, и как завершение молитвенной гармонической темы вырастал среди леса купол небольшого бревенчатого храма, где, должно быть, долго и хорошо пахло смолой и свежесрубленным деревом. Иноки ставили там престол и освящали его именем Святой и Живоначальной Троицы
И пели о своем Христе.
Это не уложилось в признания, осталось догадкой, но древняя раскольничья песня была внятна и душе Блока, донесена до нее струением тех молитв, сонмом тех святых, поднявшихся над Русью и навеки оставшихся – «когда-то там на высоте» – причастными блоковской памяти, музыкальной и церковной.
Но ныне небесные эти дали плотно закрыты; на переднем плане – сырые ведьмины мхи, недоброе безлюдье, томительная недосказанность русского севера. «Убогая финская Русь», – как называл ее Блок, и кругом нее – опущенность, обреченность. И все же музыка не умерла, но спит. Ею напоена сырая земля. Она наполняет болота, стекается по каплям из лесной глуши. Русь болотная чревата сжигающей бурей. Буря, когда она разразится, будет носить имя Христа.
Тема осени и болот проникает в поэзию Блока и неожиданно разрастается в ней. Зловещий покой болот и осень имеет для поэта двоякий смысл: «вольный разгул и распятие» (Г.Федотов). Из осени, разгула, распятия и болот возникает блоковский Петербург, тот, по его словам, «самый страшный и царственный город в мире», выросший на болотах, полный темных видений, Петербург незнакомок, лачуг, кабаков, набухающий революцией и Двенадцатью…
Болота и осень царствуют и за городом. Горючие срубы давно сожжены, дедовской песни ниоткуда не слышно. «Единственный общий враг наш, – пишет Блок матери (1909), – российская государственность, церковность, кабаки, казна и чиновники…». История пошла прахом, былая музыка иссякла в ней. «Мужики, которые пели, принесли из Москвы сифилис и разнесли по всем деревням. Купец, чей луг косили, вовсе спился и с пьяных глаз поджег сенные сараи в своей усадьбе. Дьякон нарожал незаконных детей. У Федота в избе потолок совсем провалился, а Федот его не чинит. У нас старые стали умирать, а молодые стариться. Дядюшка мой стал говорить глупости, каких никогда еще не говорил. Я тоже на следующее утро пошел рубить старую сирень» (Ни сны, ни явь).
Ныне те, кто вглядываются в русскую революцию, стремясь постичь ее смысл, должны разгадать его и в душе Блока. «Революция произошла для того, чтобы Блок написал “Двенадцать”», – написал поэт Илья Сельвинский, иронизируя над самим собой. Но эта нелепость может стать истиной, если помножить ее на другую нелепость: революция произошла оттого, что ритм и разгул Двенадцати уже скопились в сердце Блока. И это вечно романтическое отречение от «старого мира», гнетущая усталость от него. «Всем телом, всем сердцем, всем сознанием слушайте Революцию», – призывал он накануне Двенадцати, уже слыша, как соединяется в нем заветная музыка и упоительная любовь к гибели…
«Сирень была столетняя, – продолжает Блок, – кисти цветов негустые и голубоватые, а ствол такой, что топор еле берет. Я ее всю вырубил, а за ней – березовая роща. Я срубил и рощу, а за рощей – овраг. Из оврага мне уж ничего и не видно, кроме собственного дома над головой: он теперь стоит открытый всем ветрам и бурям. Если подкопаться под него, он упадет и накроет меня совсем».
Из своего имения Блок следит за близящимся развалом и хочет соучаствовать в нем. Чем вызвать очистительную бурю: ударами топора, музыкальным заклятьем, пьяным, осенним посвистом? Блок пойдет туда, куда повлечет его стихия, куда позовет его «сжигающий Христос», которому во всех раздвоениях своих он остается верен. «Религия – грязь (попы и др.), – записывает он после Двенадцати. – Страшная мысль этих дней: не в том дело, что красноармейцы “недостойны” Иисуса, который идет с ними сейчас; а в том, что именно Он идет с ними, а надо, чтобы шел Другой». (,Дневник, 20 февраля 1918 года).
Комментарий Орлова (блоковеда): «“Другой”, более достойный вести народ в будущее…» (Поэма Александра Блока «Двенадцать»).
Комментарий Долгополова (блоковеда): «Стихия требовала от Блока безоговорочного подчинения, ибо, какой бы она ни была, ее руками творилась история. Блок подчинился ей. Это было подчинение исторической необходимости, самой истории…» (Цит. по А. Якобсону Конец трагедии).
Комментарий Луначарского, наркома просвещения:
Так идут державным шагом,
А поодаль ты, поэт,
За кроваво-красным стягом,
Подпевая их куплет.
Их жестокого романса
Подкупил тебя трагизм.
На победу мало шанса,
Чужд тебе социализм, —
Только знай, поэт мой чуткий, —
Сзади к армии пристал:
Не теряя ни минутки,
Ты вперед бы поспешал.
Красной армии колонны
Догони-ка авангард…
(Там же, по А. Якобсону)
И наконец – самого Блока:
«Вы послушайте только – говорит поэт. Бродить по улицам, ловить отрывки незнакомых слов. Потом – прийти вот сюда и рассказать свою душу подставному лицу.
Половой:
Непонятно-с, но весьма утонченно-с… (Срывается со стула и бежит на зов посетителя. Поэт пишет в книжке)». (Из драмы Незнакомка).
VII
Тот ли Христос, что мелькнул в метелях Двенадцати, был услышан Блоком и в песне дедов? Вправду ли, Христос из «верхнего угла “убийства Катьки”», – как писал Блок художнику Анненкову, делавшему обложку для первого издания поэмы, – и Христос, отразившийся в средоточии музыкальной тайны Блока, неотличимы друг от друга? Тогда согласимся с мнением когда-то номенклатурных критиков, готовых потерпеть Христа лишь в качестве сомнительной, темной метафоры для пожара революции, познавшей свою историческую необходимость. Или же сойдемся на более либеральной, эстетической точке зрения, что «образ Христа» – один из тысячи тысяч, созданных мировым искусством – неповторим у Блока разве что мелодией своей, но не смыслом, не Именем, не Реальностью? Или же такую мелодию, такой образ в душе художника мы решимся соотнести с Подлинником веры Христовой?
Бердяев говорил: в одно и то же время в России жили величайший русский святой Серафим Саровский и величайший русский поэт Александр Пушкин, никогда даже не слыхавшие друг о друге. Приводя этот пример безнадежного и горестного разделения двух путей – спасения и творчества – тех путей, которым, по мысли его, надлежит непременно встретиться, Бердяев сам едва ли подозревал, что мог бы взять для примера двух своих современников. Почти в одно и то же время и почти поблизости друг от друга жили отец Иоанн Кронштадтский, имевший дар прозорливости и исцеления словом, и Александр Блок, поэт-медиум, причастный духам истории и ритму ее. Где-то, должно быть, мелькнули в газетной сутолоке их имена (начиналась эпоха всевластия коммуникаций), донесшиеся – одно для другого – лишь шумом, докучным и праздным, и сгинули еще горше и безнадежней. Между тем оба были мистики, ясновидцы, но острота их разделения, их полнейшей несхожести может быть только оттенена тем, что оба они – и святой и поэт – видели в своем служении Христа и писали о Нем. Но ничего, конечно, не могла иметь общего Моя жизнь во Христе со «сжигающим Христом» из раскольничьей песни или «в белом венчике» впереди петроградского патруля. Хотя в книге св. Иоанна Кронштадского Христос был тоже по-своему сжигающим. Но иначе. Как не имел ничего общего Христос спасения и умной молитвы со Христом бури и апокалипсиса в давно обособившихся друг от друга поэтических и конфессиональных мирах литургии и лирики.
Пути их разошлись далеко, теперь уж и концов не сыскать. Но именно в Блоке, как перед долгой ночью, мелькнул какой-то отблеск христианской православной культуры, на миг показался как будто прощальный знак ее. Пбо трагедия отречения и разгула, трагедия пленения стихиями и «татарской волей», выношенная им, в нем созревшая, разлитая им по тончайшим лирическим сосудам, была пережита им все-таки, по-розановски говоря, «около церковных стен». Те поля и холмы, по которым в молодости он бродил за своими видениями, музыкально породнились с разбросанными по ним храмами (еще живыми тогда), и отголосок молитв и таинств смешался в его стихах с другими голосами. Блок – паладин, богохульник, одержимый, Моцарт, несущий в себе непрерывно рождающийся поток мелодий, Блок, умевший с пушкинским всечеловечием быть и немецким романтиком и «рыцарем бедным» у ног Прекрасной Дамы, и Рыцарем-Страданье из средневековой Бретани, Блок с «лицом флорентийца эпохи Возрождения» (Горький) оставался все же «блудным сыном» своей Церкви, и понять его нельзя из какого-то самозамкнутого исторического или лирического «остранения». В нем – обрыв, срыв, обвал, и в нем же – какое-то обетование. Он – великий поэт страны, где, вправду сказать, мало сделала успехов гуманная цивилизация и общечеловеческая нравственность, но где среди тьмы, мятежа и дикости неведомым чудом вырастают солнечные колосья святости, существа из рода Богородицы, но и где сыновья добрых священников идут в нигилисты и бомбометатели, и у верующих матерей дети закипают черной злобой, стреляют в кондовую, избяную Святую Русь, и даже это икающее, отслюнивающее купоны под образами животное может в какой-то хмельной стихии сохранить в себе лик той единственной, той блоковской России, что «всех краев дороже мне».
Кто-то сказал: именно такая Россия, в которой, в сущности, можно было только гибнуть, была ему дорога. Ибо Россия с парламентом, с буржуазной устроенностью, с уютом, с мадмуазелью, играющей на фортепьяно за стеной, была ему инстинктивно – или музыкально – отвратительна.
Душа Блока была как будто полем враждования двух одолевающих друг друга сил, и он, мистик и медиум, был беззащитен перед обеими. В своей лирической клети она билась о Христа, словно разрушая какие-то окутывающие его завесы, и то и дело закрываясь ими снова, забыв о древней истине, что Бог готов, но мы не готовы.
В «музыке Революции» Блоку в последний раз удалось временно помирить по-своему обе владевшие им стихии, – соединить Христа и «Другого». «Демон некогда повелел Сократу слушаться духа музыки», – писал он в Интеллигенции и Революции, и мы ощущаем в том духе ледяное притяжение смерти, посылаемое лирическими волнами и заключаемое в гармонию. Гармония – благодатная и оскверненная, противоестественный и нерасторжимый для Блока союз музыки и смерти, несет в себе мучительное двоение. Христос воплощается в ней, раздвигая пелены, туманы, стихии, но приходит к поэту всегда преломленным, раздвоенным. Блок встречает Его в Метели и Революции, называет Его то Грядущим, то Голубым Всадником, то Младенцем в сожженной душе, но подлинного, единственного Имени Его, открываемого лишь Церковью и Евангелием, угадать не может. Демон или посланный им «дух музыки» как будто похищает его в последний момент. «Что тебе Христос – то мне не Христос», – пишет он своему другу (1905), – …пустое слово для меня, термин, отпадающий, “как прах могильный”…» (1904), но у какого еще поэта мы находим такое обнажение его гармонической тайны?
Христос! Родной простор печален!
Изнемогаю на кресте!
И челн твой будет ли причален
К моей распятой высоте?
И если попытаться отыскать слово, в котором соединились бы его «религиозный опыт» и «гражданское чувство», то этим словом будет боль о русской Церкви. Боль – немыслимое и русское смешение ненависти и любви, как и блоковское соединение гибели и гармонии, дедовской песни, созидающей храмы, и «музыки Революции», их оскверняющей. Музыка эта звучит у Блока порой так коряво и вздорно, что мы не слышим в ней ничего, кроме уязвленной ярости: – «Почему дырявят древний собор? – Потому, что сто лет здесь ожиревший поп, икая, брал взятки и торговал водкой» (Интеллигенция и Революция, канун Двенадцати), то вдруг сменяется тоскливой нежностью: «…сиротливая и деревянная церковь среди пьяной и похабной ярмарки…» (Дневник, после Двенадцати). И снова ярость и нежность вместе – в споре, в боли, в гармонии.
Открыв Добротолюбие, Блок поражается, сколь жив для него опыт подвижников и сколь мертвы слова Св. Писания, которыми те толковали его. В глубине своей поэтический его опыт берет начало в опыте аскетическом. «Мне лично занятно, – пишет он матери, – что отношение Евагрия к демонам точно таково же, каково мое к двойникам, например в статье о символизме».
У Евагрия: «Все бесовские помыслы вносят в душу представления чувственных вещей; запечатленный ими ум вращает образы этих вещей в самом себе. Следовательно, исходя из [представляемой] вещи можно узнать приближающегося [к нам] беса» (Добротолюбие, том 1).
У Блока – саморазгадывание искусства средствами самого искусства. Никто не может так глубоко заглянуть в душу художника, если художник не подарит собственного зрения. «Он полон многих демонов, – говорит Блок, – (иначе называемых “двойниками”), из которых его злая творческая воля создает по произволу постоянно меняющиеся группы заговорщиков. В каждый момент он скрывает, при помощи таких заговоров, какую-то часть души от самого себя. Благодаря этой сети обманов, – тем более ловких, чем волшебнее окружающий сумрак, – он умеет сделать своим орудием каждого из демонов, связать контрактом каждого из двойников; все они рыщут в лиловых мирах, добывают ему лучшие драгоценности, – все, что он пожелает: один принесет тучку, другой – вздох моря, третий – аметист, четвертый – священного скарабея, крылатый глаз. Все это бросает господин их в горнило своего художественного творчества и, наконец, при помощи заклинаний, добывает искомое – себе самому на диво и на потеху; искомое – красавица кукла» (О современном состоянии русского символизма).
Искомое, кукла – другое имя гармонии…
VIII
«Поэт – сын гармонии, и ему дана какая-то роль в мировой культуре». Но эта роль вовсе не «гармоническая», она историческая. Время и духи времени – вот новые наследники собранных им богатств – и тучек, и вздохов моря, и священных сосудов. Правда, таинства уже не совершаются в них. Закоулки души праздно выставлены в музеях. «Звуковые волны» вводятся в нужное русло хозяевами истории. Стихии, среди которых некогда рождалась гармония, служат экскурсоводами при «красавице кукле» – душе поэта. Днем, когда музей открыт, они обстоятельно объясняют роль поэта в том великом деле, с которым он породнился в «духе музыки». А ночью, сбросив маски, они опять становятся демонами, опять двойниками поэта, что приходят к нему, чтобы взыскать по контракту, заключенному в гармонические времена художественного творчества…
И сквозь решетку как зверка
Дразнить тебя придут.
Нам не нужно больше отвечать Двенадцати или едко «полемизировать» с блоковским демонизмом. Ответ уже дан – и мы слышали его – ив самом умирании поэта, и в корчах истории, рожденной «за решеткой». Судьба поэмы известна: время на семь десятилетий оледенило и канонизировало ее. Знаем мы и то, куда повел «снежный Исус» ватагу своих апостолов; это место видно нам теперь хорошо.
Мелькнув в метельном, в лиловом мареве, выполнив миссию метафоры, он, наемник, не пастырь, предоставил овцам своим следовать за безначальной стихией, добровольно отдавшейся исторической необходимости. Герои и прототипы Двенадцати – поп, буржуй, длинноволосый вития, а затем и ночной патруль красногвардейцев, – все, кто шли за или против или болтался под ногами, – затерялись в черной метели, беспамятно, безвозвратно, никто уж не разыщет, где и когда. Гармония же, их породившая, музыка, сдвинувшая с места земные породы и начавшая дело невиданной перестройки, умерла раньше всех. Все они вернулись к матери своей смерти, невольно и ненароком довершив собою следующий акт возмездия, в той лирической и исторической драме, ритм и сюжет которой Блок пытался уловить по актам предшествующим. А может, верный своему притяжению к гибели, он музыкально и гениально угадал и на этот раз? Может, и вправду, зная исток их, предвидел он и путь, коим покатятся его лирические, демонские «звуковые волны» в историческом близком будущем? Но волны теперь улеглись, метели умолкли. Снега, нанесенные ими, набрякли и побурели. Время подошло к рассвету и внесло осторожную первую ясность. Христос из Двенадцати вернулся в песню, что никогда и не уходила с задебренных древних туч. Имеющий уши слышать, да услышит.
Так кончалась эпоха брожения, двоения, смуты и обещаний. Детская православная набожность, как она сохранилась в Блоке, – и в благословении Именем Господним в каждом письме близким, и в крестном знамении над «кроваткой милой», и даже в ночных молитвах – больше не уживалась в душах с «богохульством чисто клиническим» (Бунин). Богохульство стало политикой, набожность – мученичеством. Музыка возвращалась домой, уходила в леса, в катакомбы, в подвалы, на дно града Китежа, а наверху с лязгом и грохотом хлопотала история, лишенная и музыкальности и слуха. Стихи нельзя было больше выжимать из воздуха, ни ловить из зорь. Поля опустели видениями, травы не выдавали своих шелестящих секретов. Незнакомки как-то уж не заглядывали в пивные. По блоковским последним маршрутам ходили теперь битком набитые трамваи уже иной, мандельштамовской эпохи.
«Я трамвайная вишенка страшной поры…»
«Намечается новая роль личности, новая человеческая порода», – писал Блок, еще вслушиваясь во что-то, в 1919 году (Крушение гуманизма).
«…мы утешаемся мыслью, – говорил он через два года в пушкинской речи, – что новая порода лучше старой; но ветер гасит эту маленькую свечку, которой мы стараемся осветить мировую ночь. Порядок мира тревожен, он – родное дитя беспорядка и может не совпадать с нашими мыслями о том, что хорошо и что плохо» (О назначении поэта).
Между тем жизнь шла к концу. И не та смерть – которой так музыкально, «так хорошо и вольно умереть» – поджидала его. Потому что начиналась она, может быть, самым тяжким из опытов «страшного мира» – окончательным разлучением с «духом музыки». Мы почти не знаем свидетельств об этом опыте, ибо для того, чтобы передать его, требовалась хоть какая-то связь с рождающей стихией и музыкальная влага ее. Но душа высыхала, ибо звуки прекратились. «Разве вы не слышите, что никаких звуков нет?», – слова, сказанные Чуковскому. Во всех трех делах можно помешать поэту – и во внесении гармонии в мир, и в приведении звуков в гармонию, и в самом обнажении духовных глубин. Тщетно бежать за теми глубинами в темный лес; они размыты и унесены рекою времени. «Когда б оставили меня на воле…», – отдается дальним эхом в пушкинской речи, но воля поэта скована. Демоны, вышедшие из темных душевных глубин, стали историческими персонажами. «И Пушкина тоже убила вовсе не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха. С ним умирала его культура» (О назначении поэта).
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?




































