Текст книги "Граждане неба. Рассказы о монахах и монастырях"
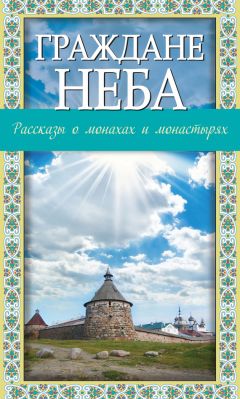
Автор книги: Владимир Зоберн
Жанр: Религия: прочее, Религия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Крумицкий арсанщик
Погостив на Крумице, этом райском уголке Афона, решил я совершить плавание в сторону Фиваидского скита, посетить окрестных пустынников. Схимонах отец Пимен, гостеприимный хозяин на своей арсане[18]18
Арсана – пристань.
[Закрыть], теперь был нашим энергичным и усердным перевозчиком к месту нового паломничества.
После радушного монашеского угощения из плодов, черного хлеба и кружки холодного красного вина, преподнесенных нам отцом Пименом на крумицкой арсане, мы спешили засветло добраться до Фиваидского скита, хозяином которого был инок Фома, большой друг нашего отца Пимена.
– Да, обрадуется отец Фома… ой как обрадуется, когда увидит дорогих гостей! – говорил приветливый старец, стоя на веслах нашей утлой ладьи. – Ведь великая радость для инока – такое посещение! И, подумать только, как все изменилось за последние два десятка лет: было время, когда Афон был переполнен русскими паломниками… Откуда только не прибывали к нашим древним святыням русские люди, из каких краев великой России сюда не приплывали они… А приедет такой паломник, так уж непременно постарается побывать во всех монастырях и скитах, всюду норовит заглянуть и всем святыням поклониться. И не смотрели тогда русские люди на то, чей это монастырь: греческий, болгарский, сербский или наш же, русский. Всякая православная обитель была для них желанной. Благословенное это было время.
Солнце спускалось все ниже. Его лучи, постепенно слабевшие, мягко скользили по лодке, по темневшей с каждой минутой воде и проплывающему мимо нас высокому берегу, от которого заметно веяло лесной сыростью, мешавшейся с соленой влажностью моря.
– Нужно налегать! – заметил отец Пимен, одновременно принявшись грести с удвоенной энергией. – Неловко будет, ежели прибудем к отцу Фоме в потемках.
– Ничего, поспеем, – успокаивал гребца добродушный иеромонах отец Харлампий, мой друг и спутник из Андреевского скита. – Теперь уже недалеко… рукой подать.

Акведук в монастыре Ставроникита. Афон. Фото SKoikopoulos.
– Неведомо только, как долго еще Господь сподобит вообще навещать друг друга, – задумчиво промолвил схимонах Пимен, не переставая стоя налегать на весла: на Афоне всегда гребут стоя и глядя вперед. – Ведь никому не ведомо, что станется скоро с нашими русскими обителями на Афоне… Теперь – не прежнее золотое время: нет больше за ними великой покровительницы, православной Руси-матушки… И вот не пускают больше русских людей на Святую Гору, не желают, чтобы наши обители пополнились новыми насельниками. И пустеют обители, нет к ним притока новых иноков. Доживают в них только старые монахи. А ведь известно, что значит старый инок: сегодня он еще сможет творить кое-какую работу, а завтра уже и одряхлел от бремени лет и обессилел, и к смерти приблизился. И быстро вымирает теперь русский Афон… На глазах наших монастырей вымирает.
Отец Пимен скорбно умолк, охваченный грустными думами, и стал пристально всматриваться в синюю даль, уже заметно охваченную тенями майского вечера.
– А вот и отец Фома! – радостно заметил он, налегая снова на весла. – Так и есть – он! Ну, давненько я не видал его, друга моего…
Я усиленно всматривался по направлению острого взгляда нашего старца-лодочника, но решительно ничего не видел, кроме синего тумана, окутавшего морской берег. Спустя немного времени моему взгляду сделались доступны очертания каменных стен арены, где хозяйничал отец Фома, но его самого, видимого уже отцу Пимену, я так и не мог рассмотреть.
– Да неужто же не видите его, господин? – удивился старец. – Ведь, как на ладони, стоит на берегу отец Фома! Вот сейчас обрадуется, непременно обрадуется! Да и я, грешный, рад повидать его.
Солнце совсем опустилось за море, и лесная сырость, веявшая с берегов, сделалась еще более ощутимой.
Вероятно, для того, чтобы сделать совсем приятными последние минуты нашего плавания, отец Пимен не прекращал рассказов, стараясь занимать нас изо всех сил.
– Повидаться-то с соседом-монахом, с одной стороны, как будто и хорошо, а с другой, как будто лучше и не видаться, – рассуждал он. – Для спасения души, конечно, для соблюдения подвига монашеского: ведь и монахи… люди. И монахи при встречах людьми остаются… вот что! Ну, сойдешься с другим иноком после долгой разлуки и начнешь вспоминать прошлое, перебирать братию, обсуждать монастырские дела. И не убережешься: осудишь кого-нибудь, непременно осудишь. Глядишь, и впал незаметно в грех великий. А потом вернешься к себе, один останешься – и ох как тяжело станет. Смиришься, уразумеешь все, но покоя обрести долго не сможешь. Посему одному-то все же легче: никто не смущает. Читаешь себе монашеское правило утром, читаешь перед отходом ко сну – и душа спокойна.
Отец Пимен помолчал немного, а затем продолжал:
– Ведь вот какой случай со мной был недавно… И все только оттого, что я со своим уединением расстался. Вспомнил я недели три тому назад, что у фиваидцев в обители праздник престольный, и решил пойти туда к литургии. Собрался, конечно, по-монашески, по-страннически: взял с собою сумочку, а в нее-то положил новенькую свою ряску. Смотал ее поплотнее да и положил. И вот, подумайте только: прошел уже всю дорогу в Фиваиду, прибыл в обитель… открываю сумочку, чтобы в ряску облачиться к литургии, – гляжу, а ряски-то и нет! Своим глазам сначала не поверил: хорошо помнил, как ее в сумочку-то клал да как поплотнее свертывал… Помыслил я немного – и побежал обратно на арсану. Конечно, и там я ряски своей не нашел. Снова бегу в Фиваиду, гляжу по тропинкам, под каждый кустик заглядываю – нет и нет моей новенькой ряски. Потом стал соображать, да под конец, как полагаю, и рассудил правильно: шел я в Фиваиду лесочком, зацепил сумкой за ветку или кустик колючий, а ряска-то, видно, была плохо в мешок засунута – ну и вывалилась незаметно… дальше ей пропасть было уже нетрудно. Дорогой этой часто ходят мирские, греки-аргаты[19]19
Аргаты – наемные работники.
[Закрыть] – народ беспечный и светский, к монахам по-своему относящийся. Ну, и подобрали эти миряне мою ряску да и унесли с собой в город. А ряска моя была хорошая, новенькая, без единого пятнышка… недавно сам ее справил. Только не новизны мне ее жалко, а вот чего: в этой самой-то ряске принимал я последний раз Святое Причащение. Святых Тайн принять удостоился. Искушен! Ну разве это не работа врага рода человеческого над иноческим духом? И ведь как тонко он работает, враг-то этот, над нами: идет себе старенький монах со своей одинокой арсаны на литургию, – а он, Князь тьмы, и тут его улавливает… И как ловко ряску-то мою из сумки вытащил, никакой живой человек того бы не сделал… А сколько я после скорбел над этим, сколько думал! Да, трудно бороться здесь с диаволом, ох как трудно! Так он и вьется, так и вьется около монаха…
Слушая бесхитростный рассказ опечаленного отца Пимена о его пропавшей ряске, я почти и не заметил, как наша лодка в сумерках вплотную подошла к небольшому молу, на котором теперь уже ясно выделялась монашеская фигура, которую еще издали так хорошо приметил наш перевозчик. А на самом берегу, значительно выше того места, к которому пристала наша ладья, приветливо светился огонек. Это было одно из окон фиваидской арсаны, тонувшей в сумраке южного вечера.
– Ну, вот и отец Фома! Встречай дорогих гостей, старец! Русский господин и человек хороший, а с ним и отец Харлампий из Андреевского скита… чай, давно его знаешь.
Через минуту лодка тихо пристала к старенькому молу, у края которого уже суетился отец Фома, помогая нам выбираться на сушу.
– А я давно уже поджидаю вас, дорогие гости, – говорил он, пожимая мне руку. – Смотрю и смотрю, что за лодка такая идет в нашу сторону… Вот чуяло грешное сердце, что радость с нею плывет великая. Вот и дождался. Слава Тебе, Господи! Милости просим, дорогие!
– И я тебя приметил давно, отец, – отозвался наш перевозчик, привязывая лодку. – Спешил представить гостей еще засветло, да вот и не удалось.
– Невелика скорбь, что и опоздали… Время теперь хорошее, тихое… Спасибо, что надумали меня навестить! – утешал искренно обрадованный старец. – Сейчас вскипятим самоварчик. Есть у нас свежая рыбка, только под вечер наловил. Закусите после путешествия и покойно переночуйте. А как станет развидняться, не спеша подымайтесь на поклонение в наш скит. Ночуй и ты у меня, отец Пимен… не оставляй дорогих гостей. Поплывешь к себе ранним утречком.
Но отец Пимен пребывал тверд в своем намерении, не решаясь на ночь оставлять арсану без надзора. Он сердечно простился с нами и быстро исчез со своей лодкой в вечерней тьме.
Не прошло и получаса, как мы уже мирно пили чай на терраске второго этажа фиваидской арсаны, с которой открывался незабываемый вид на ночное море.

Аттика. Фото Ziegler175.
Море было тихим, зеркально-спокойным. Таким же спокойным, как и вся жизнь тех замечательных людей, с коими я вел долгую беседу в этот чудесный майский вечер
Это море было тихим, зеркально-спокойным. Таким же спокойным, как и вся жизнь тех замечательных людей, с коими я вел долгую беседу в этот чудесный майский вечер. И только здесь, в обстановке тишайшего и заброшенного уголка Афона, я мог вполне уразуметь, сколь замечательными людьми являлись все эти безвестные нашему суетному и шумному миру отшельники Святой Горы Афонской, какими были отец Харлампий, отец Фома и отец Пимен.
Плененный колокол
Не будучи в силах дождаться конца афонского всенощного бдения, длившегося уже несколько часов, я вышел на широкую террасу, чтобы немного освежиться.
Да, только здесь, на Святой Горе Афонской, можно познать всю утомительность и вместе с тем всю глубину подобных богослужений: утомляя тело, они так медленно, но верно укрепляют дух и наполняют все существо чувством и настроениями, дотоле совершенно неведомыми в обстановке суетного мира.
И вот, с горечью убедившись в своей телесной немощи еще задолго до начала Великого Славословия, я не устоял на месте и покинул полутемный храм, оставляя позади себя и мерцание его свечей, и строгие лики святых на закоптелых иконах, и неподвижные черные фигуры иноков, казавшихся тоже существами нездешними, как и святые на иконах.
На террасе было тихо, лунно и пахло какими-то южными цветами, властно наполнявшими ароматом ночную полутьму.
Внизу, под старенькой обширной террасой, меланхолично темнели стройные кипарисы и чуть слышно шелестели широкими листьями каштаны, только что сбросившие весенний убор. А за ними – все серебряное, мерцающее и полное невыразимого величия – расстилалось море, окаймленное с двух сторон высокими и темными громадами берегов.
Но не были безжизненны эти берега, – находясь от них на расстоянии нескольких километров, я все же улавливал среди их угрюмой тьмы признаки человеческой жизни, но жизни особой и дивной. Это были мерцающие огни пустыннических келий, ютившихся то там, то здесь, и огни каливок, разбросанных среди гор и лесных кущ, слегка подернутых голубыми туманами. И эти отшельнические огни то зажигались, то гасли, и никто не смог бы установить их число, настолько оно было изменчиво и неуловимо.
А совсем далеко впереди ярко и неугасимо горел своими светочами огромный русский скит святого Андрея, величественно охраняя покой расположившейся под ними «лавры келий» – Кареи.
Упоенный окружавшей меня красотой и величием, я переживал незабываемые минуты, почти реально ощущая, как благодатная тишина, царившая вокруг, через все поры моего тела вливалась в душу и наполняла ее восторгом и неземною радостью.
И вдруг эта тишина нарушилась.
Где-то внизу, за неподвижными силуэтами кипарисов и каштанов, внезапно раздался удар колокола. Удар настолько гулкий и мощный, что порожденный им звук как бы сразу наполнил собою всю окрестность и заставил на время забыть о ее безмятежном покое и Божественной красоте.
Колокол, породивший этот звук, был, несомненно, настоящим богатырем среди ему подобных, подлинным великаном, столь близким русскому сердцу по воспоминаниям безвозвратно ушедших лет.
Ухнув впервые, он вслед за первым ударом послал в пространство второй, за вторым – третий. А затем все последующие удары стали сливаться в сочную мелодию чудесной колокольной музыки. Рождаясь где-то далеко внизу, эта музыка, нарастая, невидимыми волнами возносилась вверх, раздавалась по всей Святой Горе и затем постепенно и тихо таяла в просторах Эгейского моря.

Колокол. Румынский скит Продромос. Афон. Фото Adriatikus.
Колокол, породивший этот звук, был, несомненно, настоящим богатырем среди ему подобных, подлинным великаном, столь близким русскому сердцу по воспоминаниям безвозвратно ушедших лет
Очарование, меня окружавшее, увеличилось вдвое.
Теперь я слышал не только едва уловимое монашеское пение, доносившееся из полутемного храма. Теперь с ним чудесно соединилась и эта новая, могуче-прекрасная мелодия, порожденная металлом невидимого колокола-гиганта, так властно напомнившего мне о иных, ему подобных колоколах, оставшихся далеко-далеко, на столь милой, великой и многострадальной родине.
«Это русский колокол! – подумал я неожиданно. – Только там, у нас в России, умели лить таких подлинных глашатаев величия Божиего! И как отливали их в старой России: целыми годами собирались! «Ныне силы небесные» пели в то время, как плавился металл; серебряные рубли дождем летели в огненную массу… Не может быть, чтобы и этот великан был отлит где-либо в иных местах, кроме российских просторов…»
Такие мысли пронеслись в моей голове. А чудесный колокол все гудел и гудел за синей далью, наполняя мою душу духовной радостью.
– Вот как это услышу, так и защемит сердце, так и защемит! И не перестанет болеть, пока не затихнет колокол. Да и не у одного меня болит сердце: все наши иноки одинаково страдают и плачут, только раздается звон: ведь это наш пленник взывает из темницы, наш русский звон призывает на помощь!
Слова, прозвучавшие совсем близко от меня, были неожиданными, и я невольно вздрогнул от неожиданности, услышав их. До этого момента я был уверен, что нахожусь один на террасе, и теперь был несколько озадачен присутствием какого-то неизвестного.
Я осмотрелся и увидел высокую и темную фигуру инока, по-видимому, вышедшего из храма вслед за мной. Монах стоял, прислонившись к перилам, и смотрел в лунную даль, в ту сторону, где рождались чудесные колокольные звуки.
– Да… звонит, звонит наш колокол, наш горемычный пленник! – опять заговорил высокий инок. – Взывает… А мы бессильны, немощны, чтобы выручить его из неволи… Наказаны Господом за наши грехи! Только и осталось нам, что слушать его печальный зов из-за чужих стен, а после скорбеть и плакать о потере.
– Простите, батюшка, – решил я задать вопрос скорбевшему иноку, – я не понимаю, о каком пленнике вы говорите и что это за колокол?
– Ах, господин, простите меня, грешного! В темноте-то я не разглядел, что вы из наших гостей будете. Значит, недавно на Святой Горе пребываете? А из каких мест России?
Я поспешил удовлетворить любознательность собеседника, который так и встрепенулся при моих словах:
– Так мы же земляки! Вот радость-то: ведь я и сам из тех краев. Земляки мы с вами! Только уже давно покинул я страну нашу… ой, как давно! Ушел в иночество еще задолго до Японской войны и с тех пор так и не отлучался от нашего святого места.
Обменявшись со старым монахом еще несколькими фразами о предметах внешних, я все же поспешил возвратиться к главной теме разговора, завязавшей и наше неожиданное знакомство.
– Да, касательно колокола мы и забыли! – спохватился инок. – Как же, как же… таких дел нельзя забывать, дорогой землячок, нельзя!
И он обстоятельно начал рассказывать волновавшую его историю, в то время как причина его волнения все гудела под ночным афонским небом.
– Еще много лет тому назад было положено начало этой обиде, земляк… Случаются несогласия и распри, конечно, и в нашей, монашеской среде. Враг-то человеческий еще ехиднее среди нас расставляет свои сети… Вот и уловил он нас однажды, – нас, то есть насельников этой русской кельи и монахов-греков того монастыря, на земле которого наша келья воздвигнута. Разговор за разговором, хозяйственный спор за спором – и чем дальше, тем больше и серьезнее. Пошли неприятности, жалобы друг на друга, резкие и ненужные слова при встречах, и очутились мы с греками на положении чуть не настоящей войны. Тяжело это было братии монашеской, но оставить дело так, как грекам хотелось, все же нельзя было, пришлось бы поступиться достоянием и правами обители, а это грозило уничтожением ее. И вот… проходили годы в неурядицах и спорах с греками. И преставился Господу Богу наш старец, неуклонно боровшийся за права обители в течение долгих лет. И как раз случилось так, что в это же время пришел к нам из России громадный и чудесный колокол, пожертвование благодетелей, постаравшихся для нашей кельи. Приплыл колокол на пароходе из Одессы. И вдруг очутились около него наши спорщики… «Не получите колокола! – заявили они. – Колокол этот пойдет прямо в наш монастырь за ваши долги!» И забрали они колокол в плен, а мы с плачем и рыданием вернулись в свою обитель без благодетельного дара из России.
У моего собеседника теперь уже чуть ли не после каждого слова прерывался голос, настолько глубоко переживал он снова их общее монашеское горе.
– Вам, мирским людям, быть может, даже и диковинно слышать о том, что мы, иноки, так горюем из-за такого случая, как этот колокольный звон. Но ведь и наша-то жизнь особенная… И чуем мы, что здесь свалилась на нас незаслуженная и тяжкая неправда, – и вот скорбим безутешно. Ведь наш родной, благодатный русский колокол у нас пленили… И как же не скорбеть-то нам?
– Что же, так и не удалось вам отстоять ваше достояние? – спросил я скорбящего инока. – Неужели же высшие власти не устранили несправедливости?
– Э, где там! – махнул рукой инок. – Подошла после этого Великая война, а за ней и страшная российская смута, прекратившая всякое заступничество великой России. И пошло еще хуже для нас на Афоне… для нас, русских насельников, конечно. А сила солому ломит, дорогой земляк… ох как ломит! Ну и кончилось тем, что теперешний наш старец, спасая беззащитную обитель, попросту решил сказать грекам примирительно: «Да простит вас Господь наш Иисус Христос, братие, за все прежние обиды. Будем жить так, как говорит слово Божие, в мире и согласии! И в знак этого, братие, держите наш колокол, плененный вами, и владейте им!» Вот так и кончилось все.
Монах перевел дух, нервно поправил на голове клобук и закончил уже совсем тихо:
– Горько, горько мы все плакали, когда утверждался наш великан на греческой колокольне… Были и мы там и даже сами помогали грекам… Правда, после этого всякие распри с ними кончились, мир и согласие восстановились между нашею кельей и их монастырем. Но сердцам нашим все же осталась от колокола в наследство скорбь большая. Как зазвонит, как загудит он в их монастыре, так и наполняются наши сердца печалью безысходной. А бывает, что и плачут многие наши братья. Все еще не в силах мы перебороть нашей человеческой немощи, слушая эти родные звуки. Ведь наш это, наш русский, колокол плачет в неволе – и как же не скорбеть русскому сердцу? Бывает, что наш старец и выговаривает нам, напоминает о бренности всего мирского, о пренебрежении инока к горестям земли. Но и он порой сам задумывается при том же скорбном звоне: ведь и старец наш сам костромской, из-под Кинешмы. Ах, Россия… Россия, мать наша родная!..

Преподобный Афанасий Афонский. Фреска работы Мануила Панселина. Византия. XIV в. Взято с сайта www.ruicon.ru.
При этих словах инока я заметил, как он сначала поднял руку для крестного знамения, а затем задержал ее на полпути для того, чтобы утереть набежавшую слезу, сверкнувшую на его впалой щеке.
Я молчал, до глубины души проникшись настроением моего собеседника.
– Ну, а теперь, дорогой землячок, скажите, каково у нас там… на Родине? – снова заговорил монах уже более спокойным тоном. – Что вы слышали за последнее время в миру о нашей матери-родине? Долго ли еще терпеть русскому народу его крестные муки? Конечно, все в руках Божиих, и пути Господни неисповедимы… Но как рассуждают мирские-то люди?
Я, как мог, отвечал на его вопросы, успокоительно говоря о том, что было одинаково дорого для нас обоих: о далекой родине, ее невзгодах и грядущем светлом дне ее воскресения.
Ведя нашу беседу, мы простояли на монастырской террасе так долго, что при наступившем прощании нашем давно не было слышно ни монашеского пения из опустевшего храма, ни чудесной мелодии плененного колокола-великана, имеющего историю, столь волнующую русское сердце. Он умолк во время нашего оживленного разговора, чтобы в положенный час снова огласить афонский простор.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































