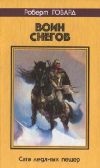Текст книги "Воин аквилы"

Автор книги: Владислав Шмыглёв
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
– Да, однако же, какие грустные слова вкупе с печальным ответом прорезали мой слух. Не знаю, римлянин Владиус Рутилий, сбудется ли твой преисполненный погибелью посыл в отношении всех нас, даков, но вот что касаемо лично твоей доли, то её итог мне отчётливо уже виден. Незавидный итог. Ха-ха-ха! Но такова воля небес, как ты сам ранее посмел заявить. Что же, и я этой воле помогу осуществиться. Да будет так. Стража, бросьте-ка этого своенравного храбреца в темницу к этим носителям новой веры христианам. Я слышал, они не больно жалуют римлян, так вот пусть его, если захотят, и добьют. И если это вдруг произойдёт или ещё что-то случится, вот ты, мой верный военачальник Дий Випсаний, мне обо всём и доложишь. Знаю, ты давно уж перестал считать себя римлянином, но этот центурион, как ни крути, но всё же по природной сущности своей относится более близким к тебе соотечественником, чем все мы остальные вместе взятые, и вот поэтому ты за него теперь и будешь держать ответ. Всё, а теперь все с глаз моих долой.
– Слушаюсь, царь! Всё будет исполнено так, как ты и пожелал! – выпрямившись в струнку, произнёс находящийся в дальней тени тронного зала видный дакийский командир и взглядом проводил с незамедлительностью принявшихся исполнять царское повеление стражников, за скреплённые путы рук нещадно поволочивших за собой заметно утратившее силы тело центуриона.
Центуриона, то приходящего в себя, то вновь теряющего сознание, но при этом не чувствующего в себе ни капли боли, страха и вины как перед собственной совестью, так и перед маячащей в славных образах римской отчизной. На пути в дворцовое подземелье надзиратели, как и ранее в беседе с дакийским владыкой указал Владиус, объятые безграничной непримиримостью и ненавистью ко всему римскому, сорвали с обессиленного пленника потрёпанный алый плащ, стянули доспехи. И в продолжение своих диких намерений ещё несколько раз, вместе с проклятиями на родном языке нанеся сильные удары по и так уже заметно истощённому телу и лицу молодого воителя, как и было приказано, наконец бросили истекающего кровью центуриона в темницу.
Глава II
О Боги, римляне захватили крепость Тибиск! Это свершилось! Произошло первое кровавое сражение двух армий! Легионы, несмотря на всевозрастающее сопротивление, уже вплотную подошли к перевалу Тапы! Именно такие по большей части пусть и отрывочно передаваемые изредка из уст в уста вести стражниками темницы удавалось слышать и благодаря полученным ещё в Риме знаниям языка даков понимать центуриону Владиусу, практически утратившему ход времени, но ни в коем случае не растерявшему силу внутреннего духа. Не растратившему эту силу, несмотря на безмерный ком свалившихся испытаний и мрачных чаяний и надежд дакийского владыки, в первую очередь связанных как раз с помыслами, выражающимися в том, что не захотевшего служить Дакии строптивого римлянина обязательно добьют христиане. Но, видимо, Децебал слишком переоценил этих самых совершенно загадочных носителей новой веры. Переоценил их внутренний мир, преисполненный на самом деле совершенно иными оттенками восприятия жизненной сути, лишённой какого бы то ни было желания причинить боль и зло как хорошо изведанным, так и вовсе непознанным человеческим сердцам и душам самых разных религиозных и национальных волн и течений. И вот поэтому эти самые христиане, в темницу к которым и бросили истекающего кровью римлянина, вместо того чтобы проявить агрессию, наоборот, предоставили центуриону пусть и скромный, но такой необходимый кров и уход. И по искреннему веянию для страждущего ещё и не пожалели также последнего куска хлеба и амфоры воды, чем, кстати, Владиус, исходя уже из собственных в целом добрых побуждений, и пожелал воспользоваться, дабы дать своему пусть и ослабленному, но всё же стойкому духу необходимое основание для сохранения и накопления внутренних сил, которые пусть и не сразу, но возвратились. Сил, а вместе с ними и сознания, отзывающегося болевыми искорками как от памятных перипетий славного прошлого, так и совершенно неизведанной и волнительной доли настоящего и скорого грядущего. И всё же если с помыслами точно похожего на мираж прошлого было многое понятно, а с вязким, как густой туман, скорым будущим ничего толком неизвестно, то, наоборот, в образных ответвлениях сущего же царила сплошная интрига. И ведь неспроста. Ещё когда заметно исхудавший и бледный центурион только потихонечку стал приходить в себя, уже тогда, пусть и ещё и рассеянным взором, но он смог заметить и разглядеть из пяти христиан, находящихся в темнице, одного выделяющегося, в особенности по внешнему вполне цивилизованному и благородному облику среди этого общего числа незнакомцев, старца. Старца, по белоснежному и жилистому лицу которого, дополненному прядью седых и редких волос, виделась и читалась не боль, не обида и не ужас от возможно перенесённых жизненных тяжб и скитаний. Нет! В ясном лике этого преисполненного как внешним, так и внутренним спокойствием человека, одетого в потрёпанный шерстяной плащ пенулу, всецело излучался какой-то ранее неведомый отчасти для молодого римлянина лёгкий и тёплый свет доброты. Именно что излучался, несмотря на повсеместно окружающую мрачность и сырость, пронизывая и согревая подчас даже самые потаённые и скрытые глубины души и сердца всякого его почувствовавшего, подчас пронизывая и согревая настолько глубоко и сильно, что Владиус уже, будучи не в силах сдерживать собственные волны мысленного притяжения, в один из овеянных томной обыденностью отрезок не то дня, не то ночи крайне безудержным тоном вслух прошипел:
– Христиане, почему вы все помогаете мне? Мне, римлянину! Помогаете, вместо того чтобы люто меня презирать?!
И точно в одно мгновение слова, пущенные ещё окончательно не окрепшими устами центуриона, разлетелись и растворились в серой гуще темницы, тем самым не вызвав какого-либо ответного движения и посыла от находящихся чуть в отдалении остальных узников, кроме одного – как раз того самого старца, который полными умиротворённости плавными движениями беззвучно подошёл к распластавшемуся на худой соломенной подстилке римлянину и, взяв за пусть и ослабленные, но не переставшие выделяться мужественностью ладони центуриона, и в ответ голосом, полным благодати и спокойствия, произнёс:
– А за что нам тебя презирать, отважная ты душа?! Ты же ведь ничего нам худого не сделал, ну а если и сделал бы, то всё равно без помощи ни я, ни мои собратья по вере тебя не оставили бы. Бог свидетель моим словам. Возможно, сейчас ты меня тут же захочешь спросить, почему? Так, римлянин, учит нас наш Господь! Спаситель всего сущего Иисус Христос! Он велел помогать ближнему своему, какого бы верования и рода он ни был, каким бы внутренним запалом, здравым или же злым, ни пылал. Для нас, уверовавших во Христа, это неважно. Возможно, тебе это сложно сейчас понять, воитель, но сие всё есть так. Истинно говорю тебе.
Однако же на самом деле для Владиуса, горячо ощущающего посредством прикосновений рук старца то самое, что и чуть ранее ещё при виде лица своего собеседника необыкновенное, словно магическое, тепло, более глубоких откровений сути уже было не нужно. Потому что римлянин лично для себя уже многое понял и с каждым проведённым с глазу на глаз с этим добрым и мудрым христианином мгновением ещё больше стал понимать. И всё же ещё один вопрос по-прежнему витал несвязным облаком в мыслях Владиуса, и посему, как только воспалившиеся эмоции в душе и сердце стали немного затихать, центурион горячо посмотрел в полные света и нежности глаза старца и тут же с интересом и дрожью в голосе тихонечко сказал:
– Что же, старик, скажу искренне, твой ответ касаемо природы внутренних и благих побуждений, теплящийся в вас, христианах, меня удовлетворил и с лихвой насытил моё неуёмное языческое нутро. Однако теперь, исходя из всего этого, вопрос, имеющий целью познания твоего имени, я попросту также не могу не задать!
– И правильно, римлянин, сей вопрос никакой тайны не требует. Я ни перед кем никогда своего имени не скрывал и перед тобой не стану. Так вот, имя моё Евсевий!
– Евсевий?! Постой-ка, ты что же, выходит, грек? – вдруг заметно оживившись от услышанных слов, громко переспросил Владиус.
– Да, я грек, а вот остальные мои братья – фракийцы! – совершенно невозмутимо произнёс в ответ старец и, чуть пораздумав, продолжил: – Но все мы, римлянин, несмотря на своё происхождение из разных земель и социальных слоёв, являемся христианами! Все мы! Понимаешь?!
– Да это я уже теперь стал понимать! А ещё я чуть ранее понял и то, что ты грек. Вернее, я догадывался об этом, явно представляя тебя в образе эллина или римлянина. И, как оказывается, не напрасно. Скажу искренне: мне приятна наша занимательная и вполне открытая беседа, Евсевий, хоть она и получается не совсем обстоятельно полной. Но получается она таковой отнюдь не по твоей, а по моей вине, каковую, я считаю, пора уже в корне исправить. Помнится, ранее ты упомянул о том, что никогда ни перед кем не скрывал своего истинного имени, что же, до сей поры и я поступал похоже. Хочу это же сделать и сейчас. Моё имя Владиус Рутилий, и я являюсь центурионом первого италийского легиона. Всё ещё являюсь, несмотря ни на что, центурионом и верным слугой благочестивого императора Траяна и теперь ещё и по духу благости и чести вашим должником, мирные христиане. Ведь я знаю, что если бы не ваша помощь, то я до сего момента уже не дожил бы.
– Ха-ха! Ах, Владиус, пусть ещё и слепая, но, однако же, какая добрая ты душа! Как мне, так, знаю, и всем остальным моим братьям сейчас, конечно, очень приятна эта твоя честная и искренняя благодарность, выражающаяся, если говорить твоими же устами, словом «долг». Да вот только я тебе скажу, центурион, что выжил ты благодаря не только жертвенному хлебу и воде, но по большей части и посланной свыше исключительно для тебя Божьей милости и благодати. Да-да, Владиус, ты, конечно, можешь сейчас не верить моим словам, но ты должен знать то, что Бог в тебя уже поверил. Должен знать это, а также и то, что свой долг теперь суждено тебе держать не перед всеми нами, но перед самим Иисусом Христом! И это есть истина, мой мальчик!
– Что? Истина?! Да что ты такое несёшь, Евсевий? А если нас всех через минуту возьмут и убьют, в этом тоже будет Божья истина? Молчишь?! Хорошо, а если взять вот всех вас, христиан, в вашем отношении какая есть Божья истина, милость и благодать?! Вы же ведь добрые и мирные люди, но всё равно страдаете, находясь здесь?! Что, разве что-то страшное совершили?
– Нет, Владиус, ничего такого страшного и плохого мы, конечно же, не хотели и не думали совершать на этой суровой земле. Как у меня, так и у моих собратьев был только один помысел, выражающийся в несении светлого слова Иисуса Христа. Слова, наделённого добротой, радостью, любовью! Однако нас оттого, что мы явились с римской стороны, даки посчитали лазутчиками, за что и упрятали в темницу. А мы ведь пришли с миром!
– Эх, пришли-то с миром, да вот только уйти теперь не иначе как в царство мертвых вам придётся в мучениях. Раз уж даки наградили вас ярмом лазутчиков, то откреститься от него будет практически невозможно. Не пугайтесь, но впереди вас, скорее всего, будет ждать теперь только смерть. Впрочем, как и меня! – невольно опустив опечалившийся взгляд, тихонько выговорил Владиус.
И здесь бы как раз на время наступить грустному затишью, да вот только старец Евсевий явно был категорично против этого. Настолько, что, стараясь оставаться внешне и внутренне выдержанным, спокойным грек задумчиво из стороны в сторону несколько раз покачал головой и, ещё сильнее охватив едва теплящиеся руки молодого римлянина, без промедления со строгим укором воскликнул:
– Ооо, мальчик мой, не нужно вот так глубоко отчаиваться. Ты что, разве не знаешь, какой это тяжкий порок для души?
– Нет, Евсевий, не знаю. Да и откуда мне, по большей части провинциальному язычнику, об этом всём знать? Откуда?!
– Ну хорошо, в целом ответ мне понятен. А вот взгляд твой горящий искрами неподдельного интереса к познанию ранее произнесённых мною слов о греховном душевном пороке ясен, но не совсем?! Что-то уж больно на опьянённый самоуверенностью взор провинциального язычника он вовсе не похож?! Или я не прав, центурион? Возрази, если это не так. Ну? Видимо, это так, раз уж ты всё ещё молчишь. Что же, в таком случае познай следующее! Отчаяние – это, конечно, весомый душевный порок, но не одним лишь им злые стороны человеческого естества полны. Да, помимо отчаяния, мальчик мой, душами и сердцами людей также могут повелевать такие веяния мрака, как необузданный гнев, чрезмерные тщеславие и гордыня и всепожирающая алчность. А также ещё множество и множество других ядовитых течений.
– Но, Евсевий, там, где повсеместно существуют ядовитая полутьма, ведь должна же быть веха и светлого противодействия?!
– И она, конечно же, есть, Владиус! Эта самая веха, выражающаяся пришествием в наш бренный мир Спасителя – сына Божьего Иисуса, который пусть и недолгим своим пребыванием на земле посредством данных учений и заповедей как раз и сумел в уверовавших в него людях зажечь священный огонь этого самого противодействия злу. Зажечь священный противодействующий злу огонь и при этом ещё и разворошить во многих окаменелых душах, до поры находившихся в забвении, родники человеческих добродетелей, например, таких, как справедливость, благоразумие. Да вот только, мой мальчик, мне жаль, что немногие этот священный огонь способны сейчас узреть, потому как человеческим душам и сердцам в сию мрачную данность намного легче и проще податься на уловки пороков, иной раз вовсе ни о чём не задумываясь.
– Хм, а эта вера во Христа оказывается не только доброй, но и очень поучительной, настолько, что с лёгкостью заставляет как раз над многими вещами и призадуматься. Однако призадуматься не только о вере, но и о явно наделённом мудростью жизненного опыта её проповеднике, то есть в данном случае конкретно о тебе, Евсевий. Человек ты, как я уже во многом успел убедиться, очень образованный, и поэтому мне очень хотелось бы ну хоть немножечко, а узнать про твою, вероятно, насыщенную разными событиями колею жизненного пути. Если, конечно, на ней нет каких-либо уж очень личных тайн и секретов.
Медленно опустив увенчанную сединой голову с воспалившейся на душе и сердце колкой задумчивостью, греческий старец ненадолго замолчал, после чего сглотнул застрявший в горле комок и, тихонечко прикрыв дёргающимися и иссохшими веками ясные глаза, в ответ промолвил:
– Ах, эта колея моего жизненного пути! Давно уж я не глядел на неё со стороны. И не из-за тайн и секретов, а всё потому, что попросту не было на это действо особого желания как лично моего, так и моих многих собеседников. Да по большей части никому особо не было дела до самых глубинных жизненных водоворотов человека по имени Евсевий, пока вот с жаждой искреннего познания о них не спросил меня ты, Владиус, за что я тебе очень благодарен, мальчик мой. Так благодарен, что это самое сказание о колее моей сущей доли, которое ты так верно ждёшь, я уже попросту не хочу внутри себя удерживать. Всё, хватит этого болезненного и тяжкого молчания и тишины! Довольно! Итак, начну я сказ с того, что родился я не в самой Греции, а на прекрасном и чудесном острове Крит. Семья у меня была, Владиус, уважаемая и вполне обеспеченная. Отец был очень способным архитектором, вследствие чего от самых различных предложений, поступавших со всех уголков империи, попросту не было отбоя. Так как семья не была лишена хорошего достатка, то и образование родители мои мне смогли дать соответственно хорошее. Я учился и в Риме, и в Александрии. Ещё с детства мечтал связать свою жизнь исключительно с медициной, потому что к ней у меня была и особая тяга, и стремление, к тому же у меня были немалые знания о многих лечебных травах, которые дала мне мама, явно самой первой разглядев мои способности к врачеванию. В Бога не то что одного, но и во множество других я тогда не верил.
– Но что-то же тебя, Евсевий, ведь так или иначе, но подтолкнуло к вере? – не вытерпев, эмоционально бросил Владиус.
– Жизнь, сын мой, подтолкнула! Мне никогда не забыть того самого момента, когда я первый раз в жизни увидел не то что капли, а целые реки человеческой крови, никак не связанной с медициной, но крепко соединённой именно что с религией. Это было в Риме в пору моего бурного обучения. Я любил ходить в цирки и амфитеатры до той самой поры, пока воочию не увидел разрываемых на арене под гул неуёмной толпы людей, уверовавших, в отличие от многих остальных обывателей империи, в одного-единственного Бога. Тогда первый раз что-то ёкнуло у меня внутри, впоследствии отозвавшись болью, жалостью и состраданием как к несчастным замученным христианам, так и к их объятым слепой жаждой ненависти и злобой палачам. После всего этого я уже не мог существовать в реалиях мирной обыденности и посему, дабы хоть как-то отвлечь себя более важными и нужными делами, отправился добровольцем в армию, хотя отец и был против этого, но ничего с моим упорством поделать в итоге не смог. Попал я в ряды медицинской службы, а именно капсарием в одну из вспомогательных когорт, приданных усилением к пятнадцатому легиону Аполлинарис. Хотя это всё и неудивительно, важно другое: попал я на службу как никогда вовремя. Как раз шла практически незатихающая и по-настоящему ожесточённая очередная вой на между римлянами и даками, и первые, время от времени терпя частые поражения, несли при этом немалые потери, относящиеся в основном к большому числу израненных воинов, что, в свою очередь, уже было сугубо по моей части. И, возможно, без устали делая свою работу в пылу непрекращающихся битв, я с пришедшей воинской закоренелостью и обрёл прежний внутренний покой, так или иначе примирившись с воспламенёнными гранями своего мировоззрения, если бы не она, эта прекрасная, грациозная, порхающая, словно бабочка на лёгком ветру, римлянка Ливия. Точно богиня, не влюбиться без памяти в которую было просто невозможно. И всякий новый раз, обрамляющий нашу встречу, я млел перед её необыкновенным обаянием, перед её чарующим взглядом, который она подолгу не хотела от меня отводить, будто предчувствуя что-то тревожное и неладное своим добрым и любящим сердцем. Да вот только, к сожалению, посредством ослепительной неземной и взаимной любви со своей стороны я ничего такого тревожного так и не ощутил тогда, за что и был сурово наказан. Ох, Владиус, как же я был всё же ослеплён своей влюблённостью. У Ливии в приграничной с Дакией провинции Верхняя Мезия жил дядя, приходящейся ей самым родным человеком. Она к нему часто из Аквилеи приезжала погостить и заодно вместе с торговыми караванами, следуемыми по пятам за легионами, умудрялась ещё и ко мне, хоть и ненадолго, наведываться. Ничего её не пугало и не отталкивало от проявления настоящей любви. Пробралась она в затерянное в лесах крепостное расположение моей когорты и в тот злополучный вечер. Мы толком-то и налюбоваться друг на друга ещё не успели, как на небольшой лагерь внезапно со всех сторон налетели даки. Налетели, без разбору вырезая каждого, кто попадался на объятые воинственностью и беспощадностью глаза. Догадываясь о горькой неминуемости, грозящей всем окружённым в крепости, я и моя возлюбленная, совершенно не думая о пощаде врага, а также о маячащем, в особенности для Ливии, рабском плене, решили тогда умереть вместе с отчаянно сражающимися воинами когорты. Да, мы оба решили именно так, только вот небеса с нашим этим обоюдным загаданным пожеланием распорядились по-своему. Я не знаю, почему и за что, но не иначе, как только Бог мне, капсарию уже не существовавшей к тому времени когорты, умереть не позволил. Я выжил после той страшной бойни, совершенно как изнутри, так и внешне изменившись. Конечно же, тогда мне было и несказанно больно, и одиноко, ведь, помимо потери своей драгоценной возлюбленной, судьба в скором времени ещё лишила меня и моих дорогих родителей, обоих упокоив под толщей мраморных и бетонных стен дома, не пережившего сильного волнения земли. Видя моё настолько опустошённое состояние, вскоре, как того и следовало ожидать, меня также уволили из армии, оттого что под нормы капсария, что под нормы простого легионера, наделённого оружием, я уже попросту подходить не мог. И вот так я в тот временный момент достиг черты своего жизненного края, которую переступить мне не дал лишь он.
– Иисус? Я прав, Евсевий?
– Да, Владиус, ты прав. Это был Иисус! Господь, являющийся и спасителем, и утешителем для каждой человеческой души, в него уверовавшей и откликнувшейся на его благое учение и небесную любовь в разных судьбоносных ипостасях. Пусть я тогда в части религиозного преклонения и был во многом невежествен, но вот что касаемо как самого Иисуса, так и его бессмертного учения, представлявшегося мне отчего-то образами тех самых замученных на арене, но не отказавшихся от своих убеждений во имя Христа людей, я всё время помнил. Помнил, бывало, подолгу прокручивая это необычайно пленительное новое вероучение в своих отягощённых мрачными картинами войны мыслях. Вспомнил я об этом живом помысле и в те самые жизненные мгновения, когда мне было особенно тяжело, и без излишней на то надежды попросил Иисуса о помощи. О той самой помощи, что в итоге и предопределила всю мою дальнейшую жизнь. Да, центурион, удивляйся не удивляйся, но я вскоре ощутил от Господа то, что я у него с искренним желанием и попросил. Иисус дал мне любовь, а вместе с ней и силу для познания совершенно иного для человеческого сердца и души ранее мне неведомого сущего откровения с последующим коротким временным течением, приведшим меня в самое что ни на есть благое и священное место, а именно в римскую провинцию Иудея, где, посетив места жизни, искушения, распятия и воскрешения Спасителя рода человеческого, я, мальчик мой, и обрёл тот самый благодатный душевный покой и наконец осознал свой настоящий удел, предопределённый мне свыше. Удел, ради которого мне и сохранил жизнь Бог.
– Нести его слово?!
– Да, мой внимательный римский собеседник! Именно в этом и заключался мой удел. И не просто нести слово Божие неизвестно куда. Нет! Нутром я чуял небесное повеление, указывающее на земли Дакии. В эти самые земли, которые глубоко и больно перекликались с моими пусть и прошлыми, но очень памятными событиями. Но, тем не менее, как можешь теперь это заметить, Владиус, я всё же отправился в сей суровый край, правда, перед этим распродал все оставшиеся семейные наделы и ценности, большую часть из которых тут же раздал пожертвованиями нуждающимся, а меньшую оставил себе на пропитание, одежду и дорогу. В этой самой дороге, проходящей по мирной провинции Фракия, я встретил этих четверых отверженных скитальцев, впоследствии ставших мне братьями по вере, ну а что стало дальше со всеми нами, ты уж, Владиус, и без дальнейшего жизнеописания сам сейчас прекрасно всё знаешь. Но, тем не менее, судя по твоему искрящему любопытством лицу, всё ещё задаёшься внутри целой уймой вопросов?.. И это несмотря на то, что для твоего, центурион, ослабленного состояния даже небольшая беседа особенно опасна и вредна. Ну хорошо, любопытный римлянин, пусть мы уже о многих вещах и так с лихвой успели поговорить, но прежде чем дать нашим душам и сердцам необходимый покой, я, так и быть, выслушаю от тебя ещё только один не терпящий ожидания и тишины вопрос! Слышишь, только один вопрос! Говори!
И, словно ожидая именно таких желанных слов от греческого старца, Владиус с подступившей воодушевлённостью незамедлительно в ответ произнёс:
– А даков, Евсевий, ты по-прежнему всё ещё ненавидишь?
– Нет, мальчик мой, вот кого-кого, а даков-то я как раз давно уж и простил. Да, простил, когда ещё ходил отшельником по святым местам в Иудее, ведь знаешь, Иисус-то в своих проповедях учил так: если тебя ударили по правой щеке, то нужно подставить и другую щёку. Понимаешь?!
– Понимаю, но не совсем!
– Ничего, Владиус, придёт время, и ты всё поймёшь, конечно, если этого сам захочешь. Ведь сущее откровение в закрытую дверь без благого на то повеления само вой ти не сможет. А сможет лишь только в неё постучать, надеясь на слух расположенной за порогом этой самой закрытой двери человеческой души. А теперь, мой друг, всё, довольно слов и рассуждений, будет им ещё время. Сейчас настало время предаться необходимому как для тебя, так для всех нас отдыху. Да пребудут мир и тишина во всех снах твоих, центурион. Отдыхай! – в завершение своего сказа тихонько промолвил Евсевий и с ещё большей аккуратностью расположив на захудалом лежаке практически засыпающего римлянина в такт разлетающимся в полумраке волн умиротворения, чуть переведя дух, неспешно направился обратно в свой угол темницы.
Владиус же, пусть и оставшись наедине с повсеместно крепнущей негой сновидений, но также всё ещё и чувствуя редкие мысленные искорки осознанности, в ответ греческому старцу не промолвил ни слова. Почему?! А всё просто! Центурион был просто наповал внутренне поражён, сражён и околдован как изложенной жизненной исповедью Евсевия, так и вырисовывающейся и предстающей в ещё более ярких и новых красочных цветах силой благодати и переосмысления веры во Христа. По-человечески римлянин был поражён настолько глубоко, что о чём-то ином уже и мыслить не мог. И не мыслил, напротив, всё сильнее проваливаясь в обжигающие разум думы до тех самых пор, пока не погрузился в них, полностью одновременно подпав и под невидимое, но очень навязчивое влияние сладостного морфея. Итак, волны умиротворения, ощутив легкость, наконец наполнили собой овеянную полутьмой темницу, а вместе с ней – души и сердца заключённых в ней узников. Ну а дальше-то что? А то, что в этой самой преисполненной как мудростью живого общения, так и положенными тактами тишины гармонии совсем незаметно и пролетело несколько дюжин дней за короткое, но очень насыщенное время которых Владиус по-особенному смог ещё сильнее сблизиться со всеми обывателями подземелья. А кое с кем из узников, а конкретно с греческим старцем Евсевием, так и по-настоящему подружиться. И ведь смог сблизиться и подружиться не просто так, но благодаря безудержно пылающему внутри желанию сначала посеянных, а по происшествии этих самых проведённых в блаженстве и спокойствии дней взошедших ростков нового мировоззрения, неразрывно связанного с заповедями и учениями Иисуса Христа. Однако же, сколько бы Владиус ни старался ещё сильнее приблизиться к познанию нового жизненного пути, освящённого светом благодатной веры, но и взращённое ещё с юности понимание жёстких и непоколебимых моральных устоев римского общества забыть также не мог, прекрасно помня о своём долге как перед императором, так и перед народом Рима, из-за чего внутреннее напряжение молодого сердца от разрывающихся надвое помыслов всё больше усиливалось. Дыхание болезненной дилеммы неустанно нарастало. Казалось, ещё день, час, миг – и сознание центуриона, накрепко закалённое во множестве кровавых боёв, но в то же время и горячо всё ещё ощущающее многими подзабытые чувства искренней человечности, попросту не выдержит. Возможно, это всё и произошло бы, если бы не одна, ну а именно по воле судьбы в опережении всех иных действ не пришедшая пора жизненной участи. До поры во многом чуть раскрепостившимися узниками темницы благополучно подзабытая, но теперь с отголосками о скором грядущем пробуждающим потоком внезапно нахлынувшая и представшая в образе не какого-нибудь стражника, а в лице одного из что ни на есть видных военачальников даков, а именно Дия Випсания, сурового военного специалиста, который, ввалившись в темницу без церемоний и прикрас посредством злобных воплей, отвергнул установившуюся в полутьме тихую идиллию и, отблёскивающим от горящего факела взором прищуренных глаз заметив римлянина, то есть самого первого из узников, откликнувшегося на шум, без промедления провопил:
– Собирайтесь, псы! Ваша участь наконец-то решена! Все вы отправляетесь на рудники. Ух, теперь-то ваша жизнь пойдёт без всяких на то промедлений! А то, я гляжу, избаловались здесь в царской темнице. Но ничего, всё это поправимо!
И на это, разразившись не то чтобы злобой, а больше невыносимой досадой, Владиус сжав нервно кулаки, мигом ответил:
– Что это за дикую речь сейчас слышат мои уши, которая извергается по праву рождения устами всё ещё римлянина?! Неужели в тебе, Дий, даже капли ничего родного и отческого не осталось?!
– Как же не осталось?! Осталось! Разве ты не заметил этого?! Моё мерзкое римское имя. Чтоб ему. Тьфу. И здесь всё ещё продолжает преследовать меня порой обжигая былыми воспоминаниями. И я бы и это всё искоренил и перекроил на дакийский лад, да вот только, увы, не властен, потому как сам царь мне запретил это делать. Ему отчего-то пришлись по душе моё и личное и родовое имя. И вот поэтому я так и остался Дием Випсанием, но не римлянином. Прежняя моя сущность уже далеко в прошлом. Уяснил это, центурион?!
– Да, это-то я худо-бедно, Дий, уяснил, а вот в то, что ты с окаменелой ненавистью смог навечно забыть всё своё прошлое, в это мой римский дух поверить отказывается! – не унимаясь, с твёрдостью в голосе промолвил Владиус.
– Ах, так, но ничего, центурион, вот когда окажешься вместе с остальными строптивыми пленными, своими соратниками, а также с христианскими лазутчиками в том самом прекрасном и чудесном месте, куда мне повелели всех вас доставить, я тебе обещаю, твой дух там не то что верить, а вообще всячески проявлять себя перестанет. Считаешь себя самым храбрым и внутренне выдержанным?! Хм! Посмотрим, ведь дакийские рудники и более закоренелых воителей рано или поздно перемалывали, меняя подчас их всю ранее устоявшуюся геройскую сущность. Всё, довольно болтовни. Солдаты, давайте поскорее заканчивайте здесь с ещё оставшимися и нерасторопными узниками. Собирайте всех в колонну по два, и в путь, а то дорога и так уж всех нас заждалась. Слышите, заждалась! – грозно прокричал Дий Випсаний и, стараясь то бешеным, то неожиданно переходящим в блеклую рассеянность взором больше не глядеть в овеянные силой благородства и бесстрашия глаза центуриона, повернувшись, быстро поспешил прямиком к выходу из подземелья.
Безмятежно миновав несколько лёгких мгновений, эхо от строгих воплей дакийского военачальника постепенно растворилось, и стражники, точно следуя командирским приказаниям, принялись методично выволакивать наружу во многом всё ещё оторопелых несчастных обывателей темницы, в числе которых был и заинтересовавшийся очень странным поведением Дия Випсания Владиус. Да, неожиданная суетливость дакийского надзирателя, конечно же, заслуживала гораздо более пристального взора со всех мысленных аспектов, исходящих от сознания молодого центуриона, да вот только времени для этого уже не было вовсе. Наоборот, подходили минуты для осмысления совершенно иных вещей центром притяжения, для которых теперь являлась лишь дальнейшая поступь всей жизненной участи, навеивающая сплошь мрачную неизведанность. Что же, и Владиус это прекрасно понимал и посему, пусть и нехотя, но всё же отпустив обжигающие не меньшей загадочностью помыслы о дакийском военачальнике Дие, этим самым более важным вещам и отдался, да так сильно и самозабвенно, что и не заметил с обуреваемой скованностью нахлынувшие первые потуги начавшегося пути, будучи, в свою очередь, преисполненного ворохом вовсе не романтических вдохновляющих оттенков, а напротив, находящихся в зените своего могущества гамм суровости беспощадности и долготы, кои, конечно же, тоже умело могли очаровать всех угодивших в их скользкие и мрачные сети. И на первый взгляд вдруг могло показаться, что это всё не так уж и плохо для по-настоящему отчаявшихся, скованных цепями путников! Ах, эти несчастные-пренесчастные бедняги, если бы они только знали, что цена за столь краткосрочное удовольствие полной тишины и покоя, данное всякому сдавшемуся на милость испытаниям, усталому и обессиленному от долговечности дороги пленнику, предъявлялась неизменно одна – жизнь. Однако первые уподобившиеся сему временному блаженству счастливцы этого ведать, конечно, не могли. А вторые уже хоть и знали неумолимую участь своих предшественников, но то ли под гнётом всё тех же невыносимых испытаний пути, а может, завидев в быстрой смерти особую благость, без всяких на то воззрений последовали вслед за первыми. И вот наступал черёд проверить свой внутренний предел жизни и смерти и третьей волне пленников, помимо немногочисленной кучки христианских проповедников, в числе которых также находился и римлянин Владиус. Кучки совсем не притязательной по виду, но полной монолитной уверенности и силы духа изнутри, благодаря которым как раз исход всего изнурённого тракта и предопределился, в предрассветной алой заре бесчисленного по счёту дня явив перед едва теплящимися от усталости, но всё ещё живыми пленниками вид на конечное место всего следования. И здесь бы самое время наконец возрадоваться уставшим от долгих дорожных и природных лишений и тяжб глазам, сердцам и душам изнемождённых узников достигнутому с таким трудом вожделенному пределу?! Да только вот сплошь усеянный изрытыми котлованами, горными проходами и снующими в безысходности и предсмертном бессилии каторжниками пейзаж едва ли мог вселить хоть какой-либо трепет и уж тем более жизненный задор. Нет, этот непотребный вид, как и ранее пройденный до сего места сам путь, также в большей степени норовил сказать совершенно об обратной стороне творящихся в столь непотребных местах деяниях. И всё же, несмотря на всё это мрачное великолепие, ни христианские проповедники, ни тем более Владиус окунаться в глубины бескрайнего страха не торопились, как и прежде, оставаясь вместе, только теперь уже в новой темнице, на порядок более глубокой и сырой, нежели предыдущая царская. И если Евсевия, а также его собратьев от пагубного ощущения боязни спасала крепкая вера, то на центуриона отвлекающей мерой от всякого рода беспокойств и опасений в данный временный отрезок служило накрепко засевшее в голову одно пусть и болезненное, но воспоминание о событии, которое как раз и произошло ещё в горниле неустанного следования. Раз за разом в памяти закованного в цепи воителя обжигающим эхом отзывалась картина замертво падающих от изнеможения и бессилия тел римских пленников и тотчас устремляющихся точно им вслед образов безжалостных утешителей в лице даков и их заострённых мечей, добивающих решительными ударами ещё не остывшие на промозглой земле тела. Но с ещё большим незатихающим огненным вихрем в сердце и душе Владиуса откликался и сам разговор с находящимся всё время поблизости от эпицентра столь мрачных и кровавых свершений и расправ Дием Випсанием, этим неумолимым дакийским военачальником, бывшим когда-то и верным римским птенцом. Сказанные в злостном порыве отрывки слов буквально будоражили, пронимали насквозь и креплёным памятным потоком без устали в ушах центуриона то и дело отображали следующее:
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?