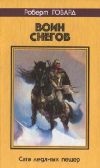Текст книги "Воин аквилы"

Автор книги: Владислав Шмыглёв
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
– Ну что вы с ними возитесь, олухи?! Давайте, скорее, кончайте с павшими пленниками. Или вы вздумали здесь в этих непроглядных и холодных местах навечно застрять? У меня приказ, слышите, приказ в живых не сумевших дойти до рудников узников не оставлять. Поэтому не смотрите на меня так непонимающе, а лучше делайте то, что от вас требуется, и всё, а с остальным уже волки разберутся.
– Дий, да что же ты творишь такое?! Очнись, безумец. Это же твои соотечественники. Неужели тебе их совсем не жаль?! Чисто по-человечески?
– Кто это там посмел открыть свой рот?! Ааа, ну конечно же, это ты, центурион! Я про тебя уж было позабыл, вовремя очнулся. Ха-ха! Ты что-то там про жалость упомянул? А разве Рим с его бесконечными вой нами границы этой самой жалости, что во мне, что и в тебе, не размазал?! Вспомни, сколько крови и смертей успели повидать, скажем, уже твои пусть ещё и такие молодые глаза, и что, разве в них осталась хоть капля жалости?!
– Капля не капля, Дий, а упиться её спасительной силой хватит целой охапке человеческих жизней! Истинно тебе говорю.
– Что? И такое говорит мне центурион римской армии?! Глупец! И даже не просто глупец, но и неважный, выходит, воитель, потому как жалость, человечность и милосердие – это всё предтеча слабости. Видимо, общаясь с этими христианами, ты об этом уже явно позабыл. Хотя какое мне до этого дело. И какое мне дело до этих несчастных пленников. Да никакого, слышишь, Владиус! Единственное, до кого у меня есть дело, так это к моей дорогой семье. К прекрасной жене дакийке и двум очаровательным сыновьям. Эх…
– А ведь у этих пленных, наших соратников, Дий, возможно, тоже где-то остались и любимые жены, и дети, и родители.
– Вот и оставались бы с ними. Сюда их никто не звал. Слышишь, центурион, никто всех вас сюда не звал. А если уж попали в плен и были бы так дороги, то родные, плюнув на всё, перешли бы на другую сторону и многие остались бы живы, храня в сердцах надежду на воссоединение с семьями. Так нет же, присяга и вера Риму оказались для большинства главнее всего. Ну что же, и итог для многих, кто избрал путь чести, уже получился, как ты теперь можешь воочию увидеть, соответствующий, мрачный и печальный. И этот итог ещё будет шириться и расти, пока всех вас, и имперских храбрецов, и вот этих с виду таких безобидных христианских лазутчиков, рано или поздно полностью не проглотит – кого в дороге, а кого и на рудниках. Знаешь, то единственное, по-настоящему дельное, чтобы я тебе посоветовал, так это поберечь свои силы, центурион. От болтовни душевной, коей ты так хочешь меня пронять, они ведь не умножатся. А мне очень хотелось бы, чтобы ты застал живым то чудесное место, куда мы направляемся. Так что будь добр, побереги себя. И напоследок, дабы уж, так и быть, немного успокоить твой душевней сострадательный порыв, скажу тебе вот ещё что: в отношении всех этих пленных я и так применил максимум своей жалости в сравнении с той мерой, которую все они заслужили. Ведь сам посуди: разве это не благо – принять вполне человеческую смерть от клинка, чем от неуёмных волчих клыков.
Именно в порыве вот таких колких памятных отголосков и пребывал в повсеместной мирной обыденности следующих друг за другом нескольких дней и ночей Владиус, порой внутренне совершенно отказываясь верить в низменность и окончательную низость духа Дия Випсания. И, возможно, центурион продолжил бы пребывать в них, и впредь пытаясь-таки докопаться до то и дело ускользающей истины. Да, может быть, вот только если бы перед своими ещё не пробудившимися глазами во временной поступи очередного будничного утра вместо привычного силуэта дака, приносящего по обыкновению несколько захудалых кусков хлеба и амфор затхлой воды, вдруг не заметил представший точно бесчувственным исполином образ самого что ни на есть бывшего соотечественника, по грозному и холодному виду которого всецело читалось только одно и явно недоброе намерение, которое, в свою очередь, вскоре и свершилось, излившись будоражащим и громогласным воплем дакийского военачальника:
– Эй вы, грязные бездельники, просыпайтесь! Ну же! Что, не ожидали меня увидеть в столь ранний час? Верно, привыкли уже и здесь к повсеместной темноте тишине и пропитанию, льющемуся благодатным потоком всем вам словно по щедрости Божьей?! А? Ну что же, в таком случае спешу кого-то обрадовать, а может, кого-то и огорчить. Ха-ха! Вполне сытное и спокойное пребывание для вас, узники, с этого момента считайте что закончилось. Всё, больше никаких поблажек. С сегодняшнего дня один из вас отправится на рудники работать. До той самой поры, пока не загнётся там. За ним на работы направится следующий узник. И так будет до самого конца всей вашей разношёрстной братии. Уяснили?! И да, вот ещё что. Кто будет первым и каждым последующим счастливцем, которому предстоит отправиться на работы, меня мало волнует сейчас и совершенно не будет волновать потом, решайте это с помощью своих жребиев, однако запомните главное: центурион при всех ваших желаниях и раскладах, как бы то ни было, пойдёт последним. Всё, живее определяйтесь с первопроходцем! Мои люди за ним скоро придут.
И не успело грозное воззвание военачальника дака толком устремиться ко всем остальным нишам захудалой и мрачной темницы, как оно тотчас было встречено и поглощено ответным возгласом оживившегося Владиуса, в промозглой полутьме звучно прокричавшего:
– Эй, Дий, почему я? Это ты так решил?! Ну что же ты отворачиваешься, бравый дакийский воитель?! Или у тебя не хватает духа и сил для ответа?! Чем эти люди хуже меня? Дий? Дий?!
Неумолимо подчас растрачивая такие драгоценные внутренние силы, всё взывал и взывал к ответу точно в мгновение лишившегося и слуха и речи дакийского военачальника Владиус до той самой поры, пока Дий Випсаний, так и не проронив ни слова, угрюмо и неспешно не покинул темницу. А ведь приближалось время избрания первой жертвы, и посему, немного переведя дух, римлянин, теперь уже отбросив все лишние помыслы, со всем своим настороженным вниманием устремился к христианам, в душе особенно яро переживая за одного из общего числа приверженцев учения Иисуса. Однако за этого самого приверженца не тайно, а наяву также переживали и все остальные собратья по вере, единогласно считая своего греческого наставника достойным последним среди христиан принять вызов смертных трудов. И Евсевий, явно предчувствуя кое-что им ещё не завершённое, с тяжёлым усилием всё же принял посыл своих собратьев, при этом открыв перед учениками пусть и страшную, но неминуемую череду выбора и смерти. Ненасытную и такую скорую череду жатвы человеческих жизней, которая по происшествии неполного десятка холодных ночей, на рассвете очередного утра забрав самого истощенного и обессиленного, четвёртого по счёту христианина, неумолимо явилась обжигающим напоминанием и греческому старцу. Да, напоминанием, обжигающим, но ни в коем случае не являющимся для естества Евсевия по-особенному пугающим, потому как у грека ведь, помимо бескрайней внутренней веры, за все эти пусть и тревожные дни прояснилась и ещё одна отдушина, олицетворением сущего смысла которой всецело стал Владиус. Центурион, который уже и раньше по чрезмерной своей любознательности и так проявлял интерес к учению Иисуса, но в связи с событиями, выпавшими на долю приверженцев Христа, во много крат этот самый импульс как в душе, так и на сердце молодого римского воителя, преобразившись, лишь преумножился. Подсознательно предчувствуя неминуемое приближение смертной участи как для своего греческого собеседника, так и для себя самого, Владиус с каждым новым уходом из темницы очередного христианина всё больше и больше старался расспросить Евсевия о новой вере, порой совсем не обращая внимания на день и ночь. Римлянин, пусть по-прежнему и боясь признаться об этом наяву, вслух, в своих мысленных откровениях уже искренне пылал огненным желанием познать священную истину и суть, вожделенным потоком для которых являлись изо дня в день толкуемые шёпотом греческого старца изречения Иисуса. Однако же дни, а вместе с ними и живительное время всё так же неумолимо таяли, и, по-видимому, уход четвёртого несчастного узника явился-таки для центуриона некой решительной чертой, потому как, ещё толком не дав пробудиться расположившемуся неподалеку от себя греку, Владиус приподнялся и, из последних сил набравшись решительности, вымолвил:
– Евсевий, я вот что хочу тебе сказать! Вернее, думал чуть ранее это сказать, да всё не решался. Ох, сказать о том, что я, оказывается, и доли понимания не имел об истинности как человеческого, так и всего живого бытия до встречи и разговоров с тобой. Такое ощущение, будто бы я был глух и слеп. Да, я многое старался видеть и познавать, но то было всё совершенно другое, нежели это, что воспламенилось за эти последние дни огнём правды в моём сердце. Учитель, прошу тебя, спаси мою заблудшую душу и помоги мне ещё сильней ощутить Божью силу, которую я от тебя здесь почувствовал. Ощутить до того, как и моя и твоя жизни покинут сей мир.
– Да, покинут сей мир, сын мой, дабы навечно познать вечную жизнь Царства Небесного! – встрепенувшись, со сложенными к губам ладонями оживлённо в ответ проговорил греческий старец и затем, взяв недавно принесённую стражником даком амфору с водой и испуская при этом в такт догорающего отблеска факела полный теплоты и доброты взор, добавил: – Вижу, есть в тебе вера, центурион. И сказанные тобой слова искренны и блаженны, и посему в довершении своих помыслов и намерений, ниспосланных мне свыше Господом Иисусом Христом, я, раб его Евсевий, крещу тебя, римлянин Владиус, во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Восторженно произнеся столь священные слова, подкрепляемые мирно льющимися на приклонённую голову молодого узника ручейками очищающей воды, старец, немного переведя дух, собирался уже было продолжить своё дальнейшее изречение, как вдруг в тот же самый момент звук неожиданно распахнувшейся дверцы темницы разом перечеркнул все устремлённые намерения грека. И не просто перечеркнул, а точно ввергнул их в небытие, потому как перед своими содрогнувшимися от шума лицами Владиус и Евсевий узрели образ вестника совсем недобрых намерений и пожеланий, а именно уже хорошо примелькавшегося Дия Випсания, который в мрачной задумчивости выдержал несколько мгновений тишины и после, блеснув взглядом холодных глаз, лаконично заявил:
– Эй, старик, живо собирайся! Пришёл и твой черёд.
– А ну-ка постой-ка, Дий, а как же порядок и праведность тобой же сказанных слов?! Ведь ты же сам говорил, что на рудники узники будут уходить из темницы на рассвете каждого дня?! А на рассвете сегодняшнего твои люди уже одного несчастливца забрали?! Неправильно как-то получается, не находишь, дакийский прислужник?! – совершенно плюнув на теплящиеся было терпение и спокойствие, с подступившими силами вдруг громко воскликнул Владиус.
– Ну ты, пленённый храбрец, гонор свой воинственный поубавь. Порядка и праведности, значит, захотел?! А может, верно, забыл, где ты сейчас, а? Чай, не в Риме находишься! – тут же в ответ грозно прошипел военачальник дак и, злобным взором горячо посмотрев на возбуждённого римского пленника, продолжил: – Болтай не болтай, а своему новому другу, центурион, ты уже никак не поможешь. Ни словом, ни чем иным, потому как предшественника его, взятого на рассвете и упавшего замертво ещё перед самым карьером, ведь снова не оживишь?! Вот то-то и оно. Этой своей пустой и никчёмной горячностью меня только ещё сильнее можешь разозлить, что впоследствии будет только для тебя, Владиус, самого и хуже, ведь находиться в темнице с кем-то или же совершенно одному – это, я тебе хочу сказать, совершенно не одно и то же. Совершенно.
– Ну ладно, ладно, Дий, согласен, погорячился я чересчур, поэтому прощений от тебя я сейчас, конечно, не жду, однако на проявление маленького благородства, выражающегося в том, что ты позволишь попрощаться, как ты уже это верно чуть ранее подметил, со ставшим мне и другом и отцом Евсевием я всё же надеюсь.
– Будем считать, центурион, что ты своим предсмертным пожеланием уже воспользовался. Прощайтесь, но только поскорее, потому как стражники за стариком вскоре вернутся.
И не успели за могучими плечами Дия Випсания захлопнуться массивные двери темницы, как Евсевий, приблизившись вплотную к слегка потрясённому и растерянному от всего происходящего римлянину, успокаивающе проронил:
– Владиус, мальчик мой, очнись! Владиус! Ох, у нас осталось так мало времени, поэтому послушай вот что. Моя участь уже предрешена волей не этих вот бездушных горе-слепцов, а намерением свыше. Я это отчётливо чувствую, слышу, вижу и не только это, но и то, что конец собственно твоего земного пути в этом мрачном месте ещё недостаточно ясен и очевиден. Сердце мне подсказывает, сын мой, что отправлять тебя на рудники вслед за мной даки не станут, предпочтя скорой твоей погибели в карьере смерть более долгую и мучительную от одиночества, темноты и холода здесь, в темнице. Поэтому, что бы ни произошло, Владиус, главное, ничего не бойся, ибо страх порождает тьма, а надежду – вера, которой в тебе немало. Не страшись возможного одиночества, мальчик мой, ибо его не будет, потому как отныне с тобой Господь, а вместе с ним я и все уверовавшие в него. Владиус, где бы и когда бы ты ни оказался, помни эти сказанные мной изречения. И ещё на вот, возьми мой плащ, мне он всё равно уж не помощник. Надзиратели там его у меня отберут, а здесь он для тебя ещё немалую службу сослужит. Возьми его в знак моего последнего предсмертного дара тебе, мой смиренный ученик, уважь старика.
– Я благодарю за дар тебя, Евсевий, и насчёт сказанных изречений твоих знай: не забуду их никогда. Обещаю тебе. Слышишь, никогда, и Бог моим словам свидетель! И ещё, учитель, прошу: прости меня за то, что я стал пусть и невольным, но всё же виновником твоих так и незавершённых духовных деяний на этой пропитанной страданиями дакийской земле! Прости! – с подступившим чувством боли, сожаления и раскаяния в голосе тихонечко в ответ изрёк центурион и в следующий же миг вдруг всем телом резко содрогнулся, потому как в дальнем полумраке темницы ясно услышал раздавшийся звук медленно открывающейся дверцы.
Этот же противный скрипящий звук, пусть и без содрогания, также уловил и греческий старец. Непродолжительно взором, полным доброты, поглядев на застывшего растроганного римлянина, Евсевий, молча повернувшись, неслышно сделал несколько шагов вперёд и, уже на самой границе дверного проёма вспомнив о так и не данном ответе на искренний позыв прощения отважного молодого сердца, наполовину развернув свой исхудалый стан, спокойно напоследок сказал:
– Негоже, римлянин, уж так пылко сокрушаться в прощениях перед моим смиренным ликом, потому как нет на тебе никакой вины. Наоборот, по высшему повелению Спасителя ты для меня, Владиус, здесь стал настоящей радостной благостью. Да так и есть, ибо я в последние дни наконец понял то, что, обратив твою пусть и воинственно отважную, но очень добрую и мудрую душу к взору Господнему, я тем самым как раз и завершил предсказанное мне свыше в этих пропитанных суровостью и непримиримостью землях последнее жизненное предназначение. Помни данный мною тебе завет, друг мой. Помни его, помни.
Словно буйным ветром, отголосок прощальных слов, произнесённых греческим старцем, тотчас пронесся в пропитанной сыростью полутьме и так же быстро умолк вместе с надёжно захлопнувшимися дверцами темницы, ознаменовавшими исход очередного узника. Владиус, оставшись наедине с нещадно догорающим факелом, дабы хоть как-то себя приободрить и отвлечь, тут же вспомнил первые дни, проведённые с Евсевием, его долгие и интересные рассказы о собственной судьбе и жизни Спасителя. Однако же чем более вкрадчиво центурион прокручивал в голове жизненные моменты, связанные с греческим старцем, тем всё сильнее душу переполняла внутренняя боль от потери этого самого человека, в сложный жизненный период подставившего не только свою правую щёку, но и открывшего потаённые уголки своего доброго сердца. И эта колкая боль, вызванная как уходом учителя, так и само собой разумеющимся усилившимся наплывом чувства одиночества, возможно, ещё сильнее бы окутала заметно обессилевшее сердце центуриона, если бы то и дело не приходящее отрезвляющим импульсом воспоминание о данном самим Владиусом обещании старцу несмотря ни на что, верить, надеяться и жить. Да, римлянин точно находился на краешке мысленного помутнения, однако, как бы ни было Владиусу больно и одиноко на душе, в сердце всё ещё теплилось жизненное начало. И оно отчасти поддерживалось не только данной ранее клятвой, но также то и дело всплывающими огненными массивами из потаённых глубин осознания, до поры отброшенных, а теперь являющихся не иначе как успокаивающим бальзамом ярчайших памятных отголосков. Да и не просто отголосков, а судьбоносных веяний, неукротимо и накрепко связанных как с ранней юностью, родительской любовью, так и, конечно же, с незыблемой гаммой жизненного отпечатка, имеющего просто-таки сакральное отношение исключительно к Симин. Владиус прекрасно помнил тот печальный сказ, поведанный Евсевием, и поэтому, уже толком не обращая внимания на летящее в сгустившемся мраке время, на усиливающиеся с каждым прожитым мгновением холод и голод, а также на постоянное копошение неугомонных крыс, собрав последние силы, шёпотом, изредка прерываясь, молвил:
– Симин, радость моих глаз, я так перед тобою виноват в том, что, возможно, пленив тогда твоё юное девичье сердце, теперь лишаю тебя и себя возможности когда-нибудь вновь осуществить нашу встречу в этом мире. Господи, как бы я хотел её ещё раз увидеть здесь, на этом пропитанном всеми красками жизненных страданий свете. А может, она меня давно и позабыла?! И я зря сокрушаюсь? Что если она где-то там обрела своё истинное счастье? Ведь не зря же эти мысли меня посещают который раз. Не знаю?! Но вот что точно я знаю и ведаю, так это то, что её забыть до своего последнего вздоха уже не смогу. И как бы то ни было, я буду держаться, я не хочу отступать, слышите меня, небеса?! Боже, я знаю, ты меня слышишь, так дай же мне ещё сил и терпения, дабы продержаться здесь. Я хочу пожить, сам знаешь, ради кого. Я выдержу! Всё выдержу! Выдержу!
А тем временем дни, и ночи и впрямь точно безудержным лошадиным табуном, не обращая внимания на страдания и лишения римского центуриона, неслись бурно вперёд, стараясь как можно сильнее приоткрыть загадочную завесу проказницы судьбы. Однако вестники земных светил были не едины в своём стремлении увидеть окончательный финал цепляющегося всеми силами за жизнь молодого и отважного человеческого духа. За медленной агонией Владиуса, явно умирающего, но не просящего пощады и снисхождения от своего врага, за все эти успевшие пронестись лихим потоком ночи и дни также неустанно, а самое главное, потаённо, порой подолгу вглядываясь в темноту, наблюдал и Дий Випсаний. С молчаливой выдержкой надзиратель следил за слабеющим внешне, но никак не внутренне римлянином, не находя всему видимому объяснений и ответов. И вот под сенью томной неизменности в прохладное утро очередного наступившего дня Дий вновь явился, дабы, как и прежде, возможно, с тайным умилением, а может быть, и с застывшими на душе каплями ненависти и зависти узреть неукротимые мучения строптивого пленника. По привычке рьяно вглядываясь в темноту пропитанного сыростью места, взор надзирателя уже явно предвкушал заметить пусть и заметно исхудавшее, но в тоже время, не растерявшее нотки живости внутреннего естества тело узника, да только вот в прошествии не одной, а уже целой дюжины минут глаза Дия так никого и не увидели. И тотчас, внутренне преисполнившись гаммой разноликих чувств, надзиратель, более не сдерживая внутреннего порыва, резко распахнул полную тайности массивную преграду, следом хорошо осветил буквально кишащее крысами помещение и, завидев в противоположном углу знакомый силуэт мирно сидящего в изорванных лохмотьях центуриона, с неподдельным облегчением без капли смятения воскликнул:
– Живой всё-таки! Н-да, Владиус, а ты, выходит, и впрямь настоящий римлянин, которого не так просто сломить.
– Да, Дий, и правда, как видишь, со мной не всё так просто получается! – тихонечко, явно сберегая силы, проговорил центурион и, чуть прокашлявшись, добавил: – А ты что это ко мне вдруг пожаловал так ретиво, что, скука по моему обществу вдруг тебя одолела или же, наоборот, не завидев меня на прежнем месте, уже хотел было лично, так сказать, для надёжности убедиться и возрадоваться моей кончине?! А?
– А что ей, этой твоей кончине, радоваться, всё равно она неминуема, Владиус. Рано или поздно она к тебе придёт, уж поверь мне, потому как здесь её истинная вотчина. А насчёт того, чтобы лишний раз поговорить с тобой, это как раз я планировал, потому как и повод под руку подвернулся стоящий для разговора. Ты знаешь, центурион, я вот, долго наблюдая за тобой, приметил одно очень важное: получается, смерти-то ты не особо боишься, будь она медленная или быстрая. Я о ней сейчас промолвил, а ты и ухом не повёл. И вот не знаю, отчего так получается. Что тебя так успокаивает и дарует тебе силы?! Хм, может, быть, ты думаешь, что тебя освободят твои бравые соотечественники?! А? Молчишь? Так вот я развею твои мечтательные помыслы и скажу, что римляне прекратили своё наступление и бегут с Дакии на свои зимовки, как будто думая, что они их спасут. Так что всё, мой бравый бывший соотечественник, никто к тебе на помощь не придёт, слышишь меня, никто.
И на этот раз Владиус, сжав губы, ничего не стал в ответ молвить преисполненному ехидством надзирателю, потому как мысленно ясно осознавал то, что римская армия вполне может отступить на зимний отдых в обустроенные лагеря лишь на время, но ни в коем случае не бежать без устали от своего заклятого врага. Дий же, видя ничуть не изменившееся, несмотря на эмоциональные нападки, внешнее и внутреннее состояние римлянина, слегка перевёл свой дух и гораздо более живым и подобревшим тоном вновь выпалил:
– А знаешь, Владиус, если отбросить все эти волны противоречий, накопившихся за время неутихающих между Римом и Дакией столкновений, а наоборот, взглянуть с трезвостью на, увы, уже здесь многими позабытые чувства воинской чести и отваги, то я бы сказал тебе как на духу, мне жаль тебя. Да, очень жаль тебя как воина, вот так мучить измором, тем самым исполняя данный с чувством мерзкой прихоти приказ. Повторюсь, я внимательно наблюдал за твоей медленной агонией, однако больше этого делать не желаю. Слышишь меня, центурион, не хочу.
– Да слышу я, Дий, слышу. Вот интересно, и что же ты предлагаешь мне сделать такое, дабы избавить себя и меня от таких тягостных мучений?! Уж не побег же мне с моими-то силами устраивать?! Ха-ха.
– Нет, не побег как таковой, а нечто другое, более быстрое и вполне осуществимое! – в свете пылающего факела блеснув взором возбуждённых глаз, тихо промолвил военачальник-надзиратель и, спустя мгновение аккуратно положив в расположенную рядышком с узником овеянную мраком нишу вытянутый из-под доспехов небольшой кинжал, с придыханием добавил: – Теперь, надеюсь, ты уловил скрытую суть моего заманчивого предложения. Исполни его, римлянин, потому что как для тебя, так и для меня от его осуществления будет только легче. Уж поверь.
– Да, а ты, Дий, конечно, очень великодушен, настолько, что даже не боишься и пострадать, ведь всякое может случиться?! Согласен?! Не опасаешься ли вдруг потерять свою голову из-за этого кинжала?
– Нет, центурион, не опасаюсь, ведь тебе его могли подбросить и подкупленные стражники. Да кто угодно мог, а поверят-то всё равно мне. В этих краях я сам себе царь.
– Складно молвишь, очень складно, что же, в таком случае благодарю за предоставленную возможность, искренне тебя благодарю, Дий! Признаюсь, я и представить, от тебя такой милости не смел, и потому, пока она ещё не иссякла и пока я ещё в сознании, позволь у тебя испросить кое-что напоследок.
– Ну хорошо, спрашивай, чего хотел?
– Дий, скажи, а что стало с тем христианиномстарцем, которого забрали на рудники последним?
– Его участь, в отличие от других его собратьев, в основном павших от тянущихся трудовых мучений и после чего сожжённых, как по мне, оказалась более благосклонной и снисходительной к нему. Этого старца привалила неожиданно обрушившаяся груда камней в одном из горных туннелей, считавшемся до поры крепким и надёжным. Видимо, такова была его судьба – встретить довольно быструю погибель. Ну что ты приуныл, центурион, или все жаждущие ответа вопросы у тебя уже иссякли?!
– Нет, остался и ещё один не вполне разрешённый вопрос. Помнится, Дий, ты, чуть ранее с хитрыми ухмылками описывая уход римской армии из Дакии, обмолвился таким утверждением, что пусть бегут на свои зимовки, будто они их спасут? Мне просто послышалось или же в этих словах и впрямь что-то есть?!
– Хм, Владиус, чахнуть-то ты от голода и холода здесь чахнешь, да только вот сноровки, привитой тебе в римской армии, как я погляжу, ни доли не растратил. Ладно, так уж и быть, поведаю то малое, о чём сам знаю, потому как всё равно тебе, как бы ты ни сопротивлялся кончине, а уже недолго осталось, помучиться тем более, когда клинок теперь под рукой. Так вот, что касаемо моих слов о вероятно бесполезной зимовке римских вой ск я сказал тебе так, потому что краем уха сам услышал о них! Да, мои уши это слышали от многочисленных племенных союзников дакийского царя, якобы собранных им воедино для всеобщего зимнего удара по римлянам. А вернее, как я понял, именно удара по тем местам, где ни Траян, ни его легионы ожидать не будут.
– Погоди, то есть ударить по самой римской территории?! Ох, как хитёр, оказывается, царь Децебал! – скривив болезненную гримасу на своём исхудалом лице, с горечью и болью в голосе промолвил в ответ центурион и, внутренне чуть успокоившись, продолжил: – Ты только представь, Дий, сколько невинных мирных римлян может погибнуть, если у царя всё получится?! Ну что ты молчишь, неужели в тебе, проявившем ко мне пробудившуюся былую воинскую честь, совсем не осталось и капли жалости и милосердия к обычным мирным гражданам?! Вспомни, Дий, ты же когда-то был в их числе.
– Да, я был римлянином, и не простым провинциальным, а что ни на есть столичным, плоть от плоти, и мечтал я тогда им же и оставаться до скончания жизненных дней, совершенно, слышишь меня, совершенно не помышляя о воинских тяжбах.
– И что же твоим помыслам и мечтам тогда вдруг помешало осуществиться?
– Не что, а кто, а именно такой вот человек, как ты, и помешал мне. Мой отец – римлянин старой закалки, почитающий правило воинского служения императору превыше всего остального. Он жаждал видеть перед своими глазами достойного наследника и потому, не дав мне толком насладиться течением мирной жизни, отправил, меня, о Боги, простым легионером в римскую армию. И это с его-то связями и деньгами. Я уж верил: одумается, внемлет просьбам и слезам матери, но нет, положение хотя бы простого, но преторианца он мне заполучить тогда так не позволил. Пришлось мне, Владиус, всё же постигать все воинские премудрости, и не где-нибудь, а на границе с Дакией. Помню, отец тогда нарадоваться не мог, что его единственный отпрыск наконец сможет сполна прочувствовать настоящие веяния службы Риму.
– И ты их прочувствовал?
– А то как же, Владиус. Я был тогда таким молодым и горячим юнцом, впитывающим всё и вся в себя, отчего довольно быстро и дослужился до опциона. Насмотрелся столько крови, боли и хаоса, что одно время даже подумывал вообще сбежать из армии. Потому как надоело тогда всё, понимаешь?
– Понимаю, Дий, я уже встречал в своей жизни похожего на тебя человека, сыночка одного богатого сенатора, который вообще не хотел идти служить Риму даже преторианцем, но потом, правда, одумался. А ты-то вон, хоть скрипя зубами, но обычным легионером служить пошёл. За что тебе моё искреннее почтение. И что же было дальше?
– Ох, смотрите-ка, почтение самого центуриона заслужил. Вот чудак. Ха-ха. Да, о твоей кончине, когда придёт её время, я буду особенно сожалеть, запомнился ты мне, римский воитель. Ну да ладно. А что было дальше? А ничего лично для меня плохого как раз и не было. Как-то попал мой небольшой отряд в засаду. Помню, больше половины воинов подразделения даки тогда вырезали, а оставшимся в живых римлянам предложили перейти на их сторону. И знаешь, я не раздумывая, согласился.
– Почему ты так поступил, Дий?! Отчего?
– Злость, Владиус, я так был тогда всё ещё зол на отца, на весь римский мир, что в итоге и решил стать предателем.
– А сейчас?! Эта нестерпимая злость всё ещё в тебе осталась? – не убирая ни на миг сосредоточенный взор измученных глаз, спросил центурион.
– Сейчас?! А сейчас, Владиус, уже поздно о чём-то мыслить и сожалеть, потому как слишком много воды утекло. Поэтому как дакийский военачальник я тебе ничего не говорил, и вообще этого разговора между нами не было.
– А как бывший римлянин, опцион, что мне скажешь?
– А как римлянин, опцион, вернее, то, что от него осталось, я тебе, Владиус, посоветовал бы верить. Верить своему внутреннему духу, тому, что оно тебе подсказывает, потому как я, верно, знаю, таким сердцем, какое есть у тебя, может обладать лишь настоящий римлянин. Воин аквилы!
Произнеся в искреннем порыве эти слова, Дий в следующее же мгновение растерянно повернулся и с опущенной головой быстро и бесшумно покинул пределы темницы. Владиус же вновь, как и прежде, оставшись наедине самим с собою и при этом не переставая прокручивать в голове свершившийся разговор с дакийским военачальником, про себя немедленно изрёк: «И всё-таки я не ошибся в тебе, Дий. Хоть капля чего-то человеческого, маленькая частица римского в сердце твоём всё же осталась. Спасибо, надзиратель, за кинжал, но так быстро умирать я всё же не хочу. Ты посоветовал мне прислушаться к своему сердцу, а оно мне совершенно другое внемлет. Нет, мне нельзя умирать, надо постараться обязательно выжить, дабы успеть поведать своим соратникам о тайных кознях врага. Теперь ни в коем случае нельзя умирать! Боже, дай мне ещё сил, прошу тебя. Если уж не для встречи с возлюбленной, так хотя бы для помощи отечеству моему. Последней помощи. И да, надо бы хорошенечко припрятать оружие, ведь оно мне ещё пригодится, а то мало ли что.
И только пленный центурион успел в голове своей произнести последние слова своего задуманного посыла, как в тот же момент совершенно неожиданно для себя услышал наверху неразборчивые, но громкие и хаотичные людские окрики, ржание лошадей и ни с чем не сравнимое и до боли знакомое лязганье оружия. Не мешкая и подобрав с промозглой земли кинжал, узник спрятал его за спину, дабы ещё лучше разобрать доносящиеся звуки, дёрнулся к расположенной напротив самого входа в темницу стене, но в следующий же миг резко застыл на месте, потому как впереди себя завидел двух спускающихся в подземелье дакийских стражников. И спускающихся явно с недобрыми намерениями, потому что у обоих в свете сопровождающего их умеренный ход огненного поводыря в накрепко сжатых кистях отчётливо виднелись, переливаясь ярким блеском, полностью готовые к кровавому действу мечи. С каждым новым пройденным стражниками шагом, приближающим заведомых охотников к месту вожделенной жертвы, и без того витающий в темнице безудержным вихрем накал теперь же от неминуемой скорой развязки вовсе мог лопнуть, так и не выдержав финального исхода. И всё же, несмотря на грозящую смертельную участь, Владиус был по-своему в общем и целом спокоен, и не от того, что у себя за спиной, накрепко сжимая, держал готовый к бою кинжал. Нет, остриё клинка, конечно, придавало уверенности и надежды на жизнь, но всё же основополагающим источником временной вспышки радости и надежды для центуриона было нечто другое, а именно нечто услышанное из разговора двух даков. Ведь пока стражники ещё только спускались в подземелье и, скорее всего, даже не подозревали о том, что пленный может их понять, Владиус, вот тогда-то и смог разобрать главное из всего услышанного. А именно то, что на рудник напал неизвестно откуда взявшийся римский конный отряд и что теперь им волей-неволей придётся на такой случай выполнять приказ, данный кем-то ещё из самой столицы, как можно скорее перебить всех пленных. Тем временем даки, разделившись, уже было приготовились к исполнению заранее оговорённых умыслов, и если деяние первого заключалось в зорком наблюдении за входом в темницу, то страшный умысел второго был понятен без излишних дум. Шаг за шагом, прокладывая себе освещаемый неистово горящим светом факела путь вперёд, в самые тёмные ниши полумрака, стражник уж явно видел в своих мыслях так легко исполненное повеление. Однако этот путь был для него и последним, потому как, успев сделать ещё один шаг, воин тотчас рухнул плашмя на землю от накрепко вонзившегося прямиком в обнажённую широкую шею острого кинжала. Заметив, что боевой соратник сражён, второй стражник, со злостью и свирепостью бросив в окружающий полумрак своё светило, безудержно кинулся вперёд в надежде добить-таки оказавшегося не таким уж и простым и безоружным пленника. Но римлянин, сохраняя в себе неизвестно откуда взявшиеся, но явно последние силы, к рывку своего врага был готов. Быстро подобрав меч чуть ранее лично поверженного дака Владиус, ко всему прочему отлично приноровившийся к темноте, стал раз за разом отбивать атаки своего взбесившегося оппонента, поджидая своего благоприятного момента. И он, стоит это признать, возможно, лишь по счастливому случаю или же в знак награды за пережитые испытания от проказницы судьбы, но всё же настал. Отбив выпад стражника, правда, увенчавшийся для дакийца лёгким нанесением пореза по бедру узника, центурион с трудом, но оправившись от пробежавшей по всему телу острой боли, эфесом своего меча ударил по открывшемуся боку противника и, не дожидаясь, пока опешивший враг придёт в себя, со всей силой разрубил его надвое. Слегка переведя дух, Владиус услышал всё ещё раздающиеся сверху с ещё большей силой окрики, отчего, не мучая себя догадками, собрал воедино оставшиеся силы и, прихрамывая, направился прямиком к выходу из подземелья, где через несколько мгновений чуть ослеплёнными от света глазами, собственно, и узрел полную ожесточения картину. Повсеместно окропляя тёплыми ручейками крови слежавшийся в Сарматских горах девственный снег, не жалея друг друга, вели даже не битву, а настоящую резню между собой римские всадники и охранявшие рудник даки. Вели как есть, до последнего вздоха, даже не помышляя о какой-либо уступке врагу. Да, зрелище и впрямь выглядело поистине завораживающим для любого стороннего обывателя, а для соскучившегося по свету и людям центуриона оно выделялось особенно сильно. Так животрепещуще сильно, что, засмотревшись и буквально ненадолго потеряв былую концентрацию, Владиус и не заметил, как со стороны карьера на него в полной готовности-таки исполнить свой священный долг воина-защитника наставил лук с последней отравленной стрелой пусть и раненый, но всё ещё сражающийся стражник-дак. Пффф – едва слышно пронизывая воздух, устремилась вдаль из слабеющих рук воина смертоносная сила в надежде достигнуть своей вожделенной цели. И что же, она её достигла, как и положено, всем остриём вскоре вонзившись в тёплую человеческую плоть римлянина, но вовсе не в Владиуса, а в долю роковой секунды успевшего прикрыть всем своим телом ничего не подозревающего центуриона бывшего когда-то опциона римской армии Дия Випсания. Всё произошло так быстро, словно свершившимися временными веяниями руководил пришедший из взбудораженного океана вихрь. И потому не сразу, а лишь заметив, когда рухнувший на промозглый снег военачальник-дак испустил болезненный стон вместе с излившимся изо рта небольшим сгустком алой крови, Владиус только тогда, наконец осознав картину всего произошедшего, быстро наклонившись к распластавшемуся спасителю, непонимающе эмоционально вскрикнул:
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?