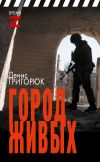Текст книги "Временное пристанище"

Автор книги: Вольфганг Хильбиг
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Вольфганг Хильбиг
Временное пристанище
Ради того, чтобы писать свои книги, я пожертвовал своей биографией, своей личностью. Дело в том, что уже с ранних пор мне казалось, будто жизнь мою ставят на сцене, чтобы мне со всех сторон ее видеть. Это примирило меня с несчастием и научило воспринимать себя как объект.
Август Стриндберг. Черные знамена
Я бреду во мраке.
Но меня ведет благоухание дрока.
Николас Гомес. Давила
* * *
В Нюрнберге, в раздвоенной подсветке бутика, с ним произошел случай: когда он спускался по плоским вытянутым ступеням в полуподвальный этаж, следуя за изгибом сужающейся наподобие винтовой лестницы – неслышным и неритмичным шагом ступал на раздражающие, разной длины ковровые ступени, он вдруг ощутил, что на него сейчас нападут сзади. Тусклая тень обогнала его, он предугадал вознесенную руку – может, вооруженную, а может, и нет – и с быстротой мысли крутанулся на каблуках. В следующий миг он поразился тому, как безотказно до сих пор действуют все его инстинкты. Левая, автоматически взлетев от бедра наперерез угрожающе занесенной руке, кроссом ударила в подбородок, которого он даже толком не разглядел. Этого, верно, хватило бы, но он тут же провел удар в корпус правой, с опорой на полусогнутые, ощутил роговую пуговицу небрежно застегнутого пиджака (куда он и метил), рука по инерции скользнула вдоль тела противника вверх, пуговица отлетела, пиджак распахнулся – апперкот вырубил нападавшего. Перекачнувшись снова на обе ноги, – вторым кроссом слева еще раз достал непокрытую голову. С типом было покончено, он посыпался на куски.
Скрипнув, малый упал на перила, сложился было над ними пополам, затем откинулся, с грохотом сел на ступени и, прежде чем распластаться на животе, произвел весьма неизящный кувырок по лестнице, попутно свалив торшер, который тут же погас. В полумраке было видно, как фигура роняет из рукавов пиджака обломки переломанных членов; лицо, вывернутое на затылок, укоризненно скалилось. Снизу, из торгового зала бутика, раздался пронзительный разноголосый визг; отряхнувшись от гипсовой пыли, Ц. перешагнул через сломанный манекен, вроде бы на него нападавший, и, не обращая внимания на суматоху сзади, ретировался; ускоренным, но размеренным шагом он вышел на яркое солнце Брайте-Гассе. Покачал головой и нервно огляделся, чувствуя, как ни странно, что-то вроде подспудных уколов совести: сомнений нет – контратака была чересчур интенсивной, хватило бы, наверное, и половины дублета.
Вот и весь случай: обыденный вечер, все ведет себя очень обыденно, Брайте-Гассе охвачена будничной толчеей, в которую можно неприметно нырнуть. Сейчас, когда до закрытия магазинов остались считанные часы, напор был особенно сильным; нет никого, кто неспешно плыл бы вдоль сверкающей череды витрин, – все проявляют резвость и рьяность; все несут на челе убежденность, что служат самому правому делу на свете – шопингу. Внизу, по краю улицы, пересекающей Брайте-Гассе, – неугомонная вереница такси: стоит машине притормозить, как на заднее сиденье или в багажник тут же летят туго набитые пластиковые пакеты, такси одно за другим заполняются и одно за другим ускользают, мягко, игриво, освобождая место напирающим сзади, такси урчат к центру или в окраинные районы, где принимают новых, еще ненасытившихся покупателей, чтобы доставить их к пешеходной зоне. Так оно все и сновало туда и сюда, в вечном круговороте купли-продажи, как однажды сказал президент то ли банка, то ли страны, консервативный и гибкий в купле-продажности одной из своих речей; и трамваи, подъезжая к вокзалу, открывали двери, извергая потоки людей, которые вмиг разбегались по пешеходной зоне. А под асфальтом неслись поезда метро; под командные голоса динамиков они выпускали на волю новые сонмища покупателей, отсылая толпу на тесные эскалаторы, выносящие ее прямиком в светозарность торговых улиц. И довольные там смешивались с недовольными и перемешивались заново; обманутые объединялись с необманутыми и, счастливые, обнимали своих обманщиков, когда входили в бутики, шопы, драгсторы и галереи, и покупали, и платили, и снова платили, подмахнув чек окрыленной рукой. И когда они вновь выходили на Брайте-Гассе, то светились, осиянные блеском своей ликвидности, и каждый из них был достаточно великолепен и значим, чтобы нести в своем сердце благоволение Господа. Так ходили они туда и сюда, и над ними грудилось башенье ближних соборов…
Тем временем Ц., весь потный, сидел в тени тента, растянутого над столиками перед входом в кондитерскую, и пытался неторопливо пить тепловатый кофе; заказанный к кофе стакан воды был опрокинут в один присест.
Вот бы где хватило народу! – обиженно думал он, глядя на копошение толпы. Персонажей хоть отбавляй, на толстенный роман наберется. Даже критика осталась бы довольна – литературная критика, которая с благословенной поры почтовых карет все подсчитывает «носителей действия» в повествовательных произведениях. Личностей, личностей, личностей! Вечно одна и та же песня. Но мне-то какой резон играть в эти игры… тут самому бы как-нибудь исхитриться снова стать личностью. А в сражении с критикой я спасовал еще до его начала. – То была одна из довольно пустопорожних речей, что вошли у него в привычку, когда, оставаясь наедине с собой, он принимался делиться мыслями (в основном о литературе) с неким призрачным визави; нередко в те минуты, когда хотелось передохнуть после пережитых волнений.
В каком-то неясном направлении, куда он взглянул по случайности, где-то над высокими крышами зданий по левую руку от вокзала, солнце спряталось в нависшую над городом пелену; в дымке оно еще раз, будто из последних сил, зажгло свое зарево, и раскаленный цвет словно излился косыми лучами на улицу. Наступил вечер. Повсеместная хлопотливость выказывала первые признаки усталости. В пока еще плотно сомкнутой стене автомобилей вдоль тротуара возникали зияния, которые более не заполнялись, людской ток по направлению к пешеходной зоне стал иссякать, зато все больше людей устремлялось в обратную сторону. За столиками перед кондитерской вдруг появились свободные места, и посуду уносили уже не столь расторопно – основной наплыв посетителей схлынул. Молодая пара, сидевшая с ним за одним столом, вдруг устремилась прочь, как будто в их головах звякнул сигнальный звоночек. Прежде они со злобными лицами уминали глыбы клубничного торта со сливками; больше трети оставили на тарелках, не преминув хорошенько размять и раскрошить вилочками остатки, чтобы предотвратить вторичное их использование. Решили, что он голодающий? Пока они набивали желудки тортом, Ц. смотрел на них как зачарованный. Ошибаетесь, его глаза блестели от жажды! Причиной же скоропалительного отбытия пары было разочарование: на часах полседьмого, а значит, пора покидать торговый квартал. Перед входами в универмаги стояли мужи с ключами, отпирая стеклянные двери последним клиентам, припозднившимся в лабиринте товаров; разрумянившиеся, те выходили на волю – все кончено! Вечер пуст, бесконечна грядущая ночь. Тягуча и томительна подступающая темнота, граничащая с небытием, и неизвестен ответ на вопрос, удастся ли завтра прошвырнуться по магазинам. Чего доброго, сомкнутся во мгле над городом полотнища туч – о, непредсказуемый сентябрь! Солнце окрасило дымку ядовитым красно-желтым отваром, вечерний зной не в силах более выжечь запахи городских закоулков. И вот они, осмелев, потянулись наверх: неизъяснимая вонь прогорклых жиров поднималась из сточных канав, оседая мылистым потом на плетеном узоре пластиковых скатертей перед кофейней. В тепле малиново-красная желейная масса на остатках клубничного торта подтаяла, и в лужицах на тарелках барахтались осы, привлеченные в ловушку цвета и аромата. Кафе, конечно, работало до двадцати ноль-ноль, но этот мужчина, который остался за столиком в одиночестве и вот уже битый час сидел над полупустой чашкой кофе (по светло-бурой поверхности плавает желтый глазочек жира, не растворившийся после того, как молоко размешали), мужчина, не пожелавший более ничего заказать, давно ловил на себе косые взгляды обслуги, состоявшей из блондинки и брюнетки неопределенного возраста. О чем думает этот мужчина, явно прибывший сюда, на периферию торгового квартала, без машины? Впрочем, ему и перевозить-то нечего: вся добыча состоит лишь из тощего, квадратной формы, содержимого пластикового пакета, размером сантиметров тридцать на тридцать. По всей вероятности, приобрел одну-единственную пластинку, а здесь, за столиком, заказал один-единственный кофе плюс минералку и сразу, как только его обслужили, расплатился. На чай – ни пфеннига. К какому-либо разряду его не причислишь, но, судя по выговору, мужчина не нюрнбержец. Скорей из восточных земель; но поди доберись сюда из восточных земель, нет, что-то не складывалось в картинке. Его манера нимало не походила и на повадки троих пивохлебов, расположившихся за отдаленным столиком у обочины и небрежно швырнувших на скатерть ключи от автомобилей. Трое парней, уже не юнцов, и ключа тоже три, на каждом – логотип автомобильной марки и брелок с золотистым или серебряным блеском. Со скучающим видом они поигрывают звякающим металлом, недешевого свойства, энергично крутят брелоки на пальцах. На всех троих пестрые рубахи из набивной ткани, расстегнутые чуть ли не до пупа; видны курчавые волосы, у кого посветлее, у кого потемнее, и загорелая кожа – парни пекутся о собственном теле. Короткие рукава облегают мускулистые плечи и бицепсы; двое щеголяют разноцветными татуировками, на руках у каждого золотые часы и золотые цепи тонкой работы, в волосах на груди тоже мерцает золото. Они подливают пиво, держа бутылку тремя пальцами, – цепи блестят в лучах вечернего солнца, – внимательно смотрят за тем, чтобы пена не переливалась через край… Ц. ощутил жажду, пока глядел, как они пьют; они пили выверено и рассчитано, подобная манера пить означает «за все заплачено»; Ц. отродясь не умел так пить; парни его не замечают, знают, что барышни наблюдают за ними с надлежащей серьезностью… и продолжают беседовать: вежливо и в то же время чуть свысока. Говорит без умолку только один, двое внимают и, словно по негласной договоренности, отхлебывают из бокалов. Тот, что без татуировок, – Ц. видно его лицо, – глотнув, тщательно вытирает пену с пышных усов, после чего подкручивает заостренные кончики, очень четко и якобы отрешенно; удлиненные, загнутые кверху стрелки колышутся на коротковатой верхней губе, когда приходит его черед говорить, и Ц. завороженным взглядом следит за их колыханием; летящим коршуном усы исчезают вдали. Плавно покачиваясь, официантки пускают бедра скользить между неубранных столиков. Составляют все на подносы, выметают крошки из узорчатых переплетений, временами исчезают в недрах кафе. Объедки так и стоят перед Ц.; ощущая себя свободным от всякой опеки, он думает: «Кончено…»
«Кончено! – повторяет он, и это уже похоже на отголосок из сна. – Кончено, поздно проситься назад. Через минуту-другую я исчезну в каком-нибудь направлении. Что-то сломалось, что-то сместилось. Может, вдруг открою глаза и увижу, что это было…»
Он в Нюрнберге, и это до сих не укладывалось в сознании. Вообще-то он не отсюда, но сейчас в Нюрнберге – городе, где молодцеватый мерзавец известного сорта щеголяет усами, скопированными с вильгельмовских. Нюрнберг – город реминисценций, город подделок; чтобы расширить ассортимент бутиков, здесь как будто растиражирован каждый гран человеческого существа.
Стало быть, он в городе, где можно исчезнуть бесследно. Исчезая назад и направо, по направлению к старому центру, он вскоре опять пересек пешеходную зону, теперь почти опустевшую, и очутился у так называемого Бургберга, отсюда дорожки отвесно ведут наверх. Любая прогулка становится здесь нелегким подъемом; маловат объем легких, а ведь когда-то они принадлежали спортсмену. Впрочем, это осталось в другой его жизни. В предзакатный час бабьего лета на свободных площадках у крепостной стены раскинули свой бивак те, кого именуют «туристами-рюкзачниками», и вместе с ними внушительный батальон той нюрнбергской молодежи, что мыслит себя небуржуазной. Казалось – должно было казаться, – будто на грубо мощенных площадках расположилась целая армия перебежчиков и дезертиров; войско млело в последних лучах заходящего солнца. Любители альтернативного стиля полагали, что то короткое время, пока не стемнело, они сопротивляются здесь потребительскому угару, только-только улегшемуся уровнем ниже, на не столь утомительной для подъема ступени города. Среди скопления попивавших вино и пиво людей кто-то затренькал на гитаре и, похоже, привлек внимание окружающих. Даже добился того, что Ц. замедлил шаги… Что он нашел в этом показном концерте? Да ничего особенного, только припомнил пластинку, которую сразу же поставит дома.
Среди тех, кто здесь сидел, лежал и прогуливался, были и другие – те, кто пришел сюда с ознакомительной целью, однако Ц. не относился и к их числу. Это были получше и подороже одетые люди, во всяком случае те, кто уже не чувствует своим долгом облекаться соответственно социальному статусу в джинсу и потертую кожу (а может, им сегодня не захотелось влезать в тиски этих идейно зауженных размеров прет-а-порте), кто совершил закупки к полному своему удовольствию и уже отволок добычу домой. И, выпрямив спины, они шагали по Бургбергу, источая всеми порами толерантность и, разумеется, сами на нее претендуя. И получали ее в виде полнейшего пренебрежения. Так вышагивали они, с вознесенной главой, сквозь дымок жареных сосисок, что на подушке пивных паров плыл на уровне носа, струясь вокруг крепостной горы. Все киоски вокруг были открыты, и продавец не напрасно ждал своего покупателя этим жарким вечером позднего лета. Ц. хотелось домой, поставить пластинку, он неустанно твердил себе это. А застревать у пивного ларька ему не хотелось. Он не причастен здесь ни к одним, ни к другим – ни к тем, кто полеживает на площадках, ни к тем, кто похаживает вокруг, пялясь во все глаза. Что ему эта свобода? Сам он куда свободнее. Он невольник своей свободы: ни на той стороне мира, на которой лежат и фланируют по Бургбергу, ни на другой, где томятся желанием полежать здесь, – ему нет места…
Сейчас он двигался торопливо, отмеряя глазом кратчайший путь между сидящими группами; замедлил шаги только раз: по булыжнику с громким звяканьем катилась пустая бутылка из-под вина. Наконец кто-то подставил ногу. Пластинка била по левому бедру; перекинув пластмассовые ручки через запястье, он засунул руку в карман; свободной рукой он держал сигарету и курил, что хорошо сочеталось с целеустремленным выражением лица. Спустившись с Бургберга, он вынужден был признаться, что сильнейшая жажда победила все ощущения. Несколько раз приостанавливался у ресторанчиков, двери которых были открыты настежь (верно, чтобы впустить вечерней прохлады). Принуждал себя двигаться дальше, пока наконец не нашел такси, в которое и сел.
Таксисту пришлось везти его самую малость – вот уже и приехали. Вспомнилось (времени-то прошло изрядно), как какое-то время, начисто лишенный пространственной ориентации, он чуть ли не каждый вечер добирался домой на такси. И как частенько бывало, что таксист, ухмыльнувшись, огибал два угла и, миновав небольшой проезд, через минуту подруливал к дому. Вероятно, он и без немыслимых доз алкоголя, которые выпивал, был бы лишен всякой ориентации: в западногерманских городах он плутал. Очень долго не мог освоиться в Нюрнберге, как и за несколько месяцев до того – в Ханау под Франкфуртом, хотя городишко был невелик и казался расчерченным по линейке. На западных улицах никогда не бывало темно, к тому же их затоплял инфляционный поток письменных знаков, эмблем, пиктограмм и прочей символики; опорных точек из этого изобилия не позаимствуешь и в памяти не удержишь. На рынке опорных точек царила инфляция, любая опора была верна и в то же время фальшива; письменность, повернувши свое развитие вспять, вновь становилась безалфавитной.
Он и поныне толком не ориентируется в Нюрнберге… а ведь пора бы уже разобраться. Следовало ожидать, что однажды придется справляться здесь самому. Но ожидать-то он ожидал, а все каждый раз оставалось по-старому… Он и во времени не ориентируется, потерял счет времени. Впрочем, это уже не суть важно, он здесь, что не подлежит сомнению; к тому же он здесь в настоящем времени – с каждым днем настоящем по-новому, – придется его осилить. Когда кто-нибудь спрашивал, он отвечал, что прошел почти год… и сразу же приходило в голову, что, пожалуй, уже целых два… если не больше… он словно противился пробуждению, не желал добиваться ясности в вопросе о том, сколько лет он уже в Нюрнберге. Сколько лет его жизни уже утекло в этом городе. Он все держал в голове тот первый год… и полагал возможным, что и после трех в голове ничего не отложится, а может, и после пяти.
Так было с самого начала, он и прибыл сюда уже в беспамятстве, месяцами скрывал ото всех, что переехал в Нюрнберг. И как бы для отвода глаз держал за собой, в придачу к нюрнбергской, крохотную ханаускую квартирку, большая часть почты еще не один месяц шла на ханауский адрес, а после (по договору) пересылалась дальше. Он прибыл сюда словно под гипнозом. В состояние гипноза его повергали мысли, они все кружились вокруг образа женщины. Кружились вокруг ее образа, вокруг ее облика, но сделать ее своей, реальной так и не удалось. Ему это ни с одной еще не удалось.
Когда стало уже невозможно утаивать перемену места, Ц. промямлил в трубку что-то про недорогую квартиру, причем даже врать не пришлось.
– Но квартира в Ханау тоже недорогая, – сказал женский голос на том конце провода. – Даже намного дешевле.
Ц. прекрасно расслышал в голосе глуховатый призвук, назревавшее напряжение грозило в любую минуту сорваться на крик.
– Нюрнбергскую квартиру мне предложили, – объяснил он, – а раз предложили, то как откажешься. И потом, Ханау похож на Лейпциг гораздо больше, чем того хотелось…
– Значит, тебе никогда не нравилось в Лейпциге, – огорченно сказал голос – Тебе, наверное, и у меня никогда не нравилось.
– Глупости, – сказал он. – Ты же не Лейпциг, ты просто живешь там.
– А если Лейпциг тебе не нравится, значит, ты не вернешься.
– Твои вечные страхи.
– Кстати, квартиру в Ханау тебе тоже предложили. Разве такое бывает? Разве ты захочешь вернуться, если тебе одну за другой предлагают квартиры.
Ц. с ужасом слышал, как в голосе нарастает рыдание. Пытаясь растворить его в глупой шутке, он сказал:
– Да у меня тут, понимаешь, завелись кой-какие благодетели. Подыскать мне что-нибудь на год – это им ничего не стоит. Но через год дело примет серьезный оборот, и моя позиция тебе известна…
– Ты хотел сказать – благодетельница! Ты хочешь мне сообщить, что через год, когда дело может принять серьезный оборот, ты намерен с ней расстаться…
Что за ахинею он нес! Конечно, это вранье: никто ему никакой квартиры в Нюрнберге не предлагал; поиск жилья показался, помнится, мукой адовой. Он только затем это ляпнул, чтобы отвлечь от истинной причины своего переезда в Нюрнберг. Но ничего не вышло – и лейпцигский голос захлебнулся в рыданиях.
Не способный после такой беседы ни минутой дольше оставаться в квартире, он незамедлительно направился в пивную. Уговаривал себя, как больного: в конце концов, он ведь не покривил душой, он и вправду поселился в этой квартире временно. Алкоголь посодействовал, и мысли о лейпцигской женщине мало-помалу исчезли – нюрнбергская снова взяла верх. Но она ни в какую не соглашалась его принимать, когда от него разило спиртным.
А алкоголь, между прочим, подстегивал любовное чувство – вплоть до того, что оно выходило за грань всякого правдоподобия, вплоть до приступов несвойственной Ц. говорливости. По мере того как действие винных паров слабело, трезвели и чувства, и он пугался всего, что наплел ей часами раньше. Беспокоился, сумеет ли сдать эти чувства в архив, когда срок его здешнего пребывания завершится: наподобие того, как припасаешь в закромах памяти крепкий материалец. Сможет ли оставить чувства позади, когда придет пора сматывать удочки.
Расстаться с квартирой, пожалуй, будет легко. Он никогда не прилагал ни малейших усилий, чтобы придать ей жилой вид. В первые месяцы в комнатах, если не считать матраса на полу, вообще не было мебели. Прошла целая вечность, прежде чем обзавелся столами, стульями и книжными полками; тут срок нюрнбергского пребывания почти уж наполовину истек. Стеллажи стояли собранные, но порядка не было; вместо книг на полках обитали кастрюли и сковородки, по соседству – ворох рубашек и исподнего. Пластмассовая корзинка для столовых приборов навек поселилась на кухонном столе, хотя для нее имелся под раковиной специальный ящик; ножи и вилки группировались вокруг, заняв всю столешницу. Он как будто без устали метил пространство знаками временности своего пребывания. Как будто должен был проводить разъяснительную работу, доказывать, что это именно так. Кому доказывать? Себе самому?
На самом-то деле все это – типичный случай депрессивного нежелания действовать, усугубляемого алкоголем, а пуще того – фазами отрезвления, переносить которые стало совсем невмочь. При этом глаза мозолили неразобранные картонки, он все двигал их из угла в угол. В картонках лежали книги, они лишали покоя – отгоняли, можно сказать, самую идею покоя. С аллергическим раздражением реагировал он, когда ему намекали на символическое содержание этих нераспакованных ящиков. Или когда сам вдруг задумывался: не заметить символики этого состояния невозможно. Особенно эти два ящика… они являли собой недоработанное. Они всегда на глазах, налицо, в наличности, но воплощают собой утрату.
Он. давно подошел к тому, что большинство размышлений упираются в один вопрос, очень простенький и применимый к чему угодно. «Куда же мне идти дальше?» – Казалось бы, этот вопрос владел им всегда, но сейчас его власть стала едва ли не монопольной. Стоило худо-бедно сделать или попробовать сделать шажок-другой, как вопрос вырастал у него на пути. Докучал тем неотвязнее, чем меньше хотелось на него отвечать. Ц. подавлял его, но, даже когда случалось выйти из дому по каким-то вполне безобидным делам, вопрос увязывался следом; хуже того, нападали в квартире. С тех пор как он занимал трехкомнатное жилье плюс кухня и душевая, располагая пространством неведомого доселе размера и могущества, ему случалось в самом разгаре странствия по паркету вдруг застывать соляным столпом, будто невольно оборотив взгляд на Гоморру, и растерянно вопрошать: «В какую комнату мне идти?» – «За рабочий стол подобает тебе идти!» – отвечал он себе. Что и проделывал, но едва выводил на бумаге несколько строк, как ощущал, что изнутри поднимается знакомая жажда, от которой он вот-вот снова сорвется с места. Ц. впадал в досаднейшее смятение, когда, спустившись на улицу, видел, как ноги сами собой, словно иначе и не могло быть, несут его к маленькой площади под названием Шиллерплатц. По пять раз в день он ходил туда и кружил по площади; будто под гипнозом, будто заведенный, снова и снова шел на площадь Шиллера. Но сегодня его там не ждали! Этим летом что-то сломалось, между ним и женщиной, которая там жила, образовалась дистанция. Беседы сделались немногословны, свелись к вещам практическим; все чаще, когда он что-нибудь спрашивал, она отвечала: «Это не должно тебя беспокоить. Я сама справлюсь». Или так: «Не волнуйся. Мои дела обстоят лучше, чем ты полагаешь». Она, бывало, и раньше частенько требовала, чтобы он оставил ее на какое-то время в покое, но сейчас оборона приобрела новое качество. И вдруг ему говорят, что ее нет. Уехала… Это похоже на правду: маленькая машинка, стоявшая у подъезда, исчезла. Допросив с пристрастием всех знакомых, он наконец выяснил: она в Мюнхене, в частности, для того, чтобы побыть подальше от него. Ежели он решится на какое-то время оставить ее в покое, то однажды она непременно вернется…
Стало быть, он поворачивал обратно. А поскольку на улицах на каждом шагу пивные, удалялся в свое жилище, чтобы ходить там из комнаты в комнату. На соседнем дворе, под окном помещения, которое он избрал для своего «кабинета», лаяли гончие соседского мясника, лаяли до глубокой ночи.
Он догадывался, у кого она остановилась в Мюнхене, но позвонить не решался. У нее там друзья: муж и жена, они жили на разных квартирах, и квартира мужа, который постоянно ездил в командировки, нередко днями, а то и неделями пустовала.
Прошлой зимой Ц. тоже там побывал, прожил недели две или три; позже он выразился поэтически: заброшен в Мюнхен по воле рока. Мюнхен издавна привлекал его (не зимой, правда, но что поделаешь, весной и летом путь неизменно пролегал в стороне). Все, что читал Ц. об этом городе, питало в нем какой-то остаточный романтизм, звучало приблизительно как Италия (очень похоже, кстати сказать, обстояло с городом Вена); преисполненный восторженным оптимизмом, он и прибыл тогда на Центральный вокзал Мюнхена.
Первое, на что упал его взгляд, – гигантская надпись под перекрытиями вокзала, превозносившая Мюнхен как Мировую столицу пива… он тогда уже начинал видеть проблему в своих неумеренных возлияниях. О Старой пинакотеке, значит, ни слова; здесь главенствует пивоварня, это тебе объясняют уже на вокзале. И последующие недели свелись к борьбе с амбицией этого города, что было не лишено известного комизма: проникнуть в мюнхенский мир Ц. так и не довелось, по сути, вокзал стал конечной точкой его путешествия.
Он вообще уже не чувствовал сопричастности какому-либо миру. Он осознал это в Мюнхене, в те предрождественские дни, – даже не то чтобы осознал, просто начал держаться этаким деревенщиной, которого случай забросил в современную метрополию. Двух лет западной жизни как не бывало; странный водоворот, в который его затянуло, неудержимо тащил назад и вглубь. Внезапно его осенило, что он, вообще говоря, из другой страны… в уходящем году это почти забылось, теперь эта забывчивость показалась ему болезнью. Точно обосновать он не мог, однако подозревал, что весь минувший год он был никем. Два года назад (за год до этого) все еще было иначе: тогда у него была виза и он был занят лишь тем, что, цепенея, ждал окончания срока, который был отпущен ему этой бумагой. В конце концов, проигнорировав окончание визы, остался на Западе: с той самой минуты и началось это беспамятство.
В иные дни он забывал, зачем ему выдали эту визу. Он запрашивал и получал ее «в качестве писателя», процедура была трудна, но в конце концов все сложилось. И вот за последний год это «в качестве писателя» (так он с ненужной громоздкостью сам обозначил в анкетах) до того оттеснилось на задний план, что его, того и гляди, придется назвать утраченным. В этой стране он в писатели не годится, думал Ц.
Он вдруг задумался, откуда к нему пришло сие качество, но доискаться не мог. Ему виделся некий призрачный лес, когда он размышлял об этом «откуда», – лес, в котором стало темно… тот край, та территория психики лежит в отдалении, за границей, через которую назад не перебраться. Как же ему вернуться к этому писательскому качеству, если он навечно отрезан от его источника, который казался ему чем-то вроде доказательства собственного существования – пусть даже путаного и расплывчатого.
Вообще говоря, он поехал в Мюнхен затем, чтобы навести порядок в своих мыслях и, если получится, их записать: все возможности для этого как будто закрылись… в этом городе он еще дальше отодвинулся от своих истоков.
Теперь он каждую ночь приходил на Центральный вокзал, где имелся некий киоск; когда огромный холодный зал к полуночи постепенно пустел, этот киоск все еще осаждали те, кто, подобно ему, не находил покоя в своих четырех стенах… при условии, что эти четыре стены у них были. Стоя рядом с киоском, можно было читать табло перед входами на перроны, он пил и смотрел, не мигая, на названия обозначенных пунктов прибытия, так хорошо знакомые: Лейпциг, Центральный вокзал; Берлин, Центральный вокзал. А может, там было указано только время прибытия… в одну из ночей он стал свидетелем эпизода, который заставил его призадуматься. Он записал происшествие, то было единственное письменное свидетельство мюнхенского периода. Из одного из последних, полуночных, поездов на перрон сошел юноша, который, едва почувствовав под ногами твердую почву, вскинул руки и разразился ужасным воплем, чем тут же привлек к себе всеобщие взоры. Размахивая скудными пожитками, юноша двинулся к выходу (при этом он подражал строевому шагу: нога топала по бетону, колено взлетало до самой груди), скандируя в такт шагам: ДОЛОЙ ГДР! ДОЛОЙ ГДР! Ц. сразу сообразил, что это за разновидность: юноша был отъезжантом, то есть тем, кому удалось, подав бумаги на выезд или путем не менее утомительных операций, перебраться через границу и доехать до Мюнхена. И вот он предавался восторгу свободы, громогласно его выражая под мирными сводами мюнхенского вокзала. Когда крикун дошел до киосков, зароились первые полицейские… Его быстро окружили и скрутили. Паренька уже уводили, заломив руки за спину, а голос его все гремел: Долой ГДР… долой ГДР!
От этой сцены на вокзале сделалось неуютно. Ц. купил в киоске бутылку водки, вскочил в такси и поехал к своему временному пристанищу.
Этот эпизод, помнится, долго его преследовал; с тех пор похожие сцены на многих вокзалах Федеративной Республики стали, наверное, частым явлением. В последнее время в прессе полным-полно репортажей о том, как юные граждане «государства СЕПГ» легионами подают на выезд; писали о беженцах в будапештском и пражском посольствах и о том, что все больше людей выпускают. Сочетание «волна отъездов» возникало и раньше, но никогда еще не подкреплялось столькими фактами. А темы ГДР касались с такой осторожностью, что любой без подсказки соображал, что «там» совершается явный процесс распада. О симптомах распада поговаривали и раньше, и Ц. всегда считал такие разговоры несбыточным утопизмом. Но новый советский генсек произносил слова, не услышать которые было невозможно: «Кто опаздывает, того наказывает жизнь…»…положим, он сказал это в качестве самокритики, но для ГДР такие слова звучали веско. Кое-кому в них и вовсе слышался смертный приговор.
В связи с этим Ц. вспомнился еще один эпизод, показавшийся значимым. Когда однажды он вынужден был провести ночь в тюрьме города А. (районного центра той местности, где родился), он сразу понял, что в той норе, куда его заперли, ему не удастся проспать ни минуты. Камера, вероятно, была вытрезвителем: повсюду зримые следы катастроф, сопровождающих сей процесс… В ГДР, подумалось Ц., пристрастие к алкоголю все еще рождает незабываемые образы, так что, с точки зрения писателей и художников, не так уж и нелепо посвящать свои дни беспробудному пьянству. Камера, дверь которой за ним захлопнулась, состояла из нескольких кубометров зловония, там были нары, колченогий стул и треснувший унитаз, у которого не отключался смывной бачок; внизу стояла мутная осклизлая лужа. За нарами по стене тянулся широкий след подсохшей блевотины; лампочка в двадцать пять ватт тускло светила на стены, покрытые слоем непонятной грязи – похоже, человеческими экскрементами и брызгами крови; кроме того, стены были испещрены нацарапанными на них надписями, сообщениями и адресами. Чтения хватило на всю ночь. И один из первых лозунгов, которые он прочел, без обиняков провозглашал: Да здравствует капитализм!