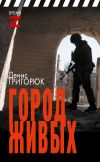Текст книги "Временное пристанище"

Автор книги: Вольфганг Хильбиг
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
На вокзал он явился рановато, но, засидевшись в привокзальном кафе, автобус все-таки пропустил. На автобусе он прокатился бы с удовольствием: миновав южные окраины Лейпцига и долгие, до самого горизонта, голые равнины – бывшие угольные карьеры, напоминавшие местами пустыню где-нибудь на Луне, – автобус ехал по местности, казавшейся идиллической. Здесь, в этом южном уголке Саксонии, в ложбинах между зеленых холмов, таились заброшенные захолустья; узенькие шоссе, по которым никто не ездит, петляют вокруг густых первозданных рощ, повсюду разбросаны маленькие долины, напитанные водой, заросшие темно-зеленым камышом. Внезапно эти остатки пейзажа обрываются, впереди – карьеры, открытые разработки; водитель, приобретая широкий обзор, жмет на газ, и старенький драндулет, опасно кренясь, мчится по краю песчаных оврагов. Затем, приглушив скорость, рывками, взвывая на виражах, снова ныряет гирляндами поворотов, и с обеих сторон волнуется ненасытно растущая зелень, уже отдающая в синеву. – Он едет домой, вот он запах этих мест, запах песка, перемешанного с золой, и сернистой воды его детства, и дымного воздуха, и разносимой ветром горечи жестких сухих тополиных листьев… Готфрид Бенн был не прав, они здесь, эти тополиные рощи. Конечно, это всего лишь убогие кривоватые недоростки, несравнимые с теми серовато-желтыми деревьями, что пышно растут на отвалах; в мае-июне тут случаются метели, полчища тополиного пуха взмывают ввысь; они так легки, что, поднявшись вверх в знойном воздухе, разлетаются на километры; когда вечерами приходит прохлада, они опадают на землю, чтобы сугробами лечь по краям дорог.
Г. был сыном писательницы и мать свою люто ненавидел, во всяком случае любил заявлять об этом во всеуслышание. Пару раз Ц. ее видел, она была маленькой, очень подвижной особой, излучавшей всем своим видом энергию убеждения и какую-то тупую назидательность. Г. корчило от боли, когда ему приходилось выслушивать неколебимые суждения матери обо всем и вся. И все же его магически тянет к ней, размышлял Ц.
– Ты ей нравишься, неинтеллектуальные мужчины – ее слабость, – сказал как-то раз Г. – Но имей в виду, скоро она захочет с тобой переспать.
– Ну и что? Что в этом опасного?
– Она изнашивает мужчин, тебе придется делить ее с полдюжиной других.
– Ты вправду считаешь, что ей так просто удастся меня износить? – спросил Ц.
– И ты без всяких колебаний свяжешься со стопроцентной партийкой?
– Я в полной безопасности, – сказал Ц. – Ты за меня все подводные камни, видишь издалека.
В другой раз они снова заговорили о его матери, и Г. спросил:
– Хочешь знать, что она о тебе сказала, или лучше не надо?
В ответ на его молчание Г. продолжал:
– Я рассказывал ей о том, что ты делаешь, превозносил до небес твои стихи. А она, она только головой покачала и говорит: меня на мякине не проведешь. У поэта глаза – не такие.
Ц. невозмутимо выслушал эту речь и ничего не ответил, однако прекрасно почувствовал испытующий взгляд своего собеседника… устремленный, как видно, в его глаза! Он отметил тонкую ироничную складку в уголках его рта, которая, как ему хорошо известно, быстро перерастает в сарказм: должно быть, Г. и сам немного верит в то, что сказала мать. Несмотря на его обычные уверения, что ее уста не источают ничего, кроме лжи.
Ц. умел надолго заболевать тем или иным высказыванием о собственной персоне, и Г. был, пожалуй, одним из немногих, кто знал об этой слабости. Ц. не догадался спросить, какие, интересно, глаза полагаются поэту; он предчувствовал, что фраза матери Г. будет стоить ему борьбы. Сперва он тихо ужаснется этим словам, потом впадет в бешенство, которое сменится подавленностью; лишь через несколько дней ему удастся вытеснить их из головы. Потребовалось несколько лет, прежде чем он смог сказать себе, что фраза представляла собой высказывание, весьма типичное для правящего мышления ГДР. В обществе научного материализма дерзают обходиться в жизни без аргументов и сыпят направо-налево нерациональными мистическими тезисами. Когда ему случалось, по наивности, отсылать в гэдээровские издательства свои тексты, то приходившие ответы все были в том же духе и повергали его в такую же депрессию. Чертовщина этих необоснованных отказов в том, что тебе предоставляют право искать недостающие аргументы самостоятельно… и такие, конечно, находятся! Беспричинными, кстати сказать, отказы вовсе не считались – причины не назывались, это да… называть их бессмысленно, зачем растрачивать аргументацию на безнадежный случай. Надежда в условиях диктатуры распределяется по строгому регламенту. И точно так же дело обстоит с его заявлениями на выезд: отвечать на них необязательно…
Пропустив автобус, он обычно поездом добирался до районного центра А., откуда пригородная электричка привозила его к месту назначения. На Лейпцигском вокзале он залил шнапсом неприятные мысли, а пока час ждал в А. – добавил еще. Когда наконец доехал до матери, сразу рухнул в постель; перед тем как заснуть, подумал: интересно, как все развернется. Странное чувство – лежать на этой постели и думать о будущем: на этой кровати он родился…
Здесь, в этой постели, он начал жить, сам не зная как… не зная, как он стал тем, сам не зная чем. Зависть и неприязнь точат его на корню, писатели, точно стадо свиней, кусают друг друга в рыло, прокладывая дорогу к корыту. В ту пору, когда он еще не был писателем, публичным писателем, он был им полезен, служа объектом для всевозможных нот протеста, коими они обличали государство в подавлении искусства. Теперь, когда он сам стал публичным писателем, когда пытается идти своим путем – путем, на котором нередко приходится пробираться вслепую сквозь безнадежную мглу, – теперь он их не устраивает. Не годится на роль героя памфлетов, сочиняя которые становишься борцом сопротивления. Нужно оставить эти порядки, нужно исчезнуть из этой страны, повторял он снова и снова…
Ему казалось, будто предложенная стипендия приведет к решению всех проблем. – Нужна передышка, чтобы опомниться, сказал он себе. Взглянуть на все со стороны. Подумать, чего он, собственно, хочет и куда он, собственно, хочет. Год для таких раздумий – срок приемлемый. Когда ему прислали из Нюрнберга желтую куртку, Мона с особым оттенком в голосе произнесла: «Какая славная курточка на переходное время!» Он не вполне уловил, только ли это издевка или еще и страх. Ее догадка верна, он тоже понял слово переходный не только в демисезонном смысле – год он просуществует в переходном состоянии. Хотелось не только отведать западной жизни, но и понять – каким бы фразерством это ни звучало, – как обстоит с его собственной.
– Значит, наметил себе временную остановку? – спросила Мона.
– Правильно формулируешь, – ответил он.
– А сменить женщину за это время ты не намерен? – поинтересовалась Мона.
Он помнил, что дал ответ, прозвучавший твердым обещанием по окончании года вернуться к ней.
В полусонном мозгу вдруг возник образ матери Г., проворной, росту от силы метр шестьдесят, женщины, что выглядела на десять лет моложе своего возраста и подвизалась в амплуа ведущей писательницы района, в котором жила. Г. всегда интересовался ею – не столько, впрочем, по той понятной причине, что она его мать, сколько из страха за младшего брата, который, живя с матерью, подвергается-де всем дурным влияниям, какие только можно себе помыслить. Вместе с несовершеннолетним сыном она жила в доме на берегу большого озера в Мекленбурге; дом был построен на берегу озера, в лесу, и стоял на отшибе; она уже не раз проговаривалась, рассказывал Г., что иногда ей там страшновато. Так пусть переезжает в город, в одну из своих квартир, у нее их несколько, говорил Г. Но на это она не пойдет – там, на озере, она не чувствует себя под надзором. Кроме того, может охмурять мужчин, которые приезжают сторожить ее вместе с домом. Был уговор, что Ц. тоже выступит в этой роли, будет охранять дом от грабителей, а заодно чинить к зиме подтекающие оконные рамы. Но когда они с Г. приехали в дом на озере, там уже устроился другой. По тому как сильно Ц. в первую минуту огорчился, стало понятно, что он многое себе возомнил, ожидая встречи с этой женщиной. Замечание Г., что мать когда-нибудь затащит его в постель, занозой сидело в памяти. Какие там нравственные колебания! Его интересует в этой женщине только телесный низ, найти применение ее мыслям ему вряд ли удастся. Пусть себе агитирует сколько влезет – идеологически убедительно, с сознанием собственной непогрешимости, в котором так преуспела ее партия, и женственно-материнским тоном, словно нужно заговорить упрямого дитятю – какая пленительная смесь! – известно, что между ног у нее непредсказуемая дыра, вмонтированная божественным оппонентом ее партии, о которого вдребезги разбивается весь атеизм ее научного мировоззрения. Она будет по-сучьи сладострастно повизгивать, когда к ней в пещеру вползет классовый враг.
С этими мыслями Ц. провалился в сон. Мать разбудила его около полудня. Это было непривычно, обыкновенно она давала ему выспаться вволю, хоть до вечера; она знала, что сын всю ночь бодрствовал, в ее маленькой квартирке ему никто не мешает трудиться. Так повелось с тех пор, как мать вышла на пенсию, лет шесть назад, и перестала каждый день просиживать с восьми до четырех в конторе. Только в конце месяца, когда из-за нехватки рабочих рук начинался аврал и некому было рассчитывать зарплату, ее вызывали на предприятие. Это был как раз такой случай, поэтому Ц. удивился, что мать в обеденное время уже дома. Мона приехала, ждет уже больше часа, что-то срочное, ей никто не открыл, она разузнала у людей дорогу и сама пришла в контору, объясняла мать. У Моны очень расстроенный вид, что-то случилось, пусть он скорее встает. Когда, заспанный, взлохмаченный, он наконец появился на кухне, Мона выглядела бледной, и глаза у нее были расширенные и растерянные. Из Берлина в Лейпциг пришла телеграмма, она лежала на кухонном столе рядом с его незакрытой тетрадью.
– По счастью, мне сегодня не нужно было в университет, – сказала Мона. – Телеграмма пришла с утра, и мне ничего не оставалось, как привезти ее самой, кажется, дело срочное.
В телеграмме значилось, что до конца недели он должен зайти за визой. Главное управление работает до половины шестого. На часах почти двенадцать, пятница… какой-то зловредный гад в этом так называемом Главном управлении, филиале министерства культуры, задержал отправление телеграммы на день или даже на два. Г. не преминул бы насмешливо ухмыльнуться: «Это они чтобы власть свою показать, чтобы унизить – нешто не чуешь?»
На подобные мысли времени не оставалось… Г. сказал бы: «На такие мысли у тебя никогда времени не остается!» Натягивая брюки, путаясь в штанинах, он на ходу выпил сваренный матерью кофе.
– Хоть бы зубы почистил, – сказала Мона, следившая за его действиями с нескрываемым недоумением.
– Не буду! – отрезал он. – В ГУ мне никого лобызать не придется.
– Так ты в Берлин?! – испуганно спросила мать; по ней видно: столь поспешный отъезд для доклада начальству ничего хорошего не предвещает.
– Мона тебе все объяснит! – крикнул он, сорвал с гвоздя желтую куртку и выскочил за дверь.
– А для куртки не слишком прохладно? – крикнула мать вдогонку…
Для куртки действительно становилось прохладно, октябрь кончался, по ночам уже подмораживало. Он поехал в Берлин через А.; по дороге проверил, все ли в наличности: документ, загранпаспорт, кошелек с деньгами. Прибыв в начале шестого на Центральный вокзал, схватил такси и помчался на улицу Клары Цеткин, где размещалось Главное управление по делам издательств и книжной торговли, филиал министерства культуры, где сидел зам. министра. Ровно в семнадцать тридцать Ц. стоял в приемной, за барьером предупредительно лыбился какой-то пенсионер.
– Мы тут вас уже третий денек поджидаем, – сказал старикан. – Присядьте, покурите, секундочку подождите…
– Неужели вы думали, – спросил зам, когда без малого через час Ц. наконец пустили к нему в кабинет, – что мы когда-нибудь кончаем работу в человеческое время? Нет, конечно, и напрасно вы так себя загоняли.
– Но сегодня пятница, – сказал Ц.
– Что вы говорите?! Опять пятница… Ну что ж, вы здесь не в первый раз и понимаете, что я имею вам сообщить. Но я вас уже много раз инструктировал, распишитесь здесь, что инструктаж проведен, и спускайтесь к секретарше в турагентство, вы знаете куда. Я позвоню, на месте ли она еще… документик на поездку получите у нее. Скажете ей, с какого дня открыть визу – с сегодняшнего? С завтрашнего? Желаю удачи, до новых встреч…
Все вдруг пошло так гладко, что ему опять стало не по себе. Он ждал, когда возникнет ловушка, но нет – все идет как по маслу. Внизу, у секретарши, он расписался за несостоявшийся инструктаж, который звучал бы примерно так: вы гражданин ГДР и в капиталистической загранице также подлежите законам своего государства. Ведите себя в соответствии с законами и моральными представлениями вашей страны. Не нарушайте законодательства страны, в которой находитесь. В случае конфликта немедленно обращайтесь в постоянное представительство ГДР…
Через полчаса Ц. снова стоял на улице – ему даже новый загранпаспорт выдали, у старого кончился срок действия, он его сдал. Фото на паспорт у них, значит, имелось… когда он расписывался за новый паспорт, в глаза бросился черный чернильный штемпель, закрывавший почти всю седьмую страницу синенькой книжицы; в правом углу: Служебная виза одно – многократного действия сроком до… дата определяла срок в четырнадцать месяцев; виза вступит в силу 31 октября 1985 года и закончится 31 декабря следующего года; в строке про количество въездов зачеркнуто слово «одно», то есть Ц. может въезжать и выезжать сколько захочет. Такую визу дают журналистам, консульским работникам и тайным агентам, подумал Ц.
Он окинул взглядом улицу с ее голыми, отталкивающими служебными зданиями: здесь ему больше нет места! Стемнело, по Берлину полз сырой холодный туман; Ц. медленно шел к Фридрихштрассе. Пойди он в обратную сторону, через какие-то сотни метров уперся бы в стену: она усохла до нелепости! Еще вопрос, когда она снова вырастет перед ним. Суждено ли ему еще раз вернуться в Восточный Берлин? Может, и нет, думал он.
Впереди – последние выходные в ГДР… ничто не могло отвлечь его от этой мысли.
– А вдруг Горбачева завтра свергнут? И Восток возьмут в оцепление, – сказал он.
Мона схватилась за голову. Взгляд ее был примерно такой, как тогда, в ту ночь, когда она назвала его сумасшедшим.
Он с трудом помнил те выходные (сколько же все-таки лет прошло?): его обуревала неописуемая тревога, в которой затонули все подробности. Мона растерянно стояла рядом. Изредка исчезала в спальне и час-другой не показывалась; не тратя времени даром, он успокаивался шнапсом. С получением визы личность, которую он, мало-мальски уверенно, мог принимать за свою, как будто враз уничтожили. Вместо нее внутри 'зарождается нечто, что всякое твое телодвижение ставит под сомнение, критикует, объявляет бессмысленным. Упаковав было сумку, он тут же вытряхнул и разбросал на полу все содержимое: на кой черт ему вся эта дрянь? – Вспомнилось, что тетрадь с начатым текстом, над которым работал последние дни, осталась на кухне у матери. Мона тоже не догадалась привезти тетрадку в Лейпциг… или нарочно не взяла?
И как это не оправдать. Вот уже который месяц, больше полугода, он глух ко всем ее возражениям, действует подобно бесцеремонному роботу, а она еще думай о его забытой тетрадке. Начатый текст – это нанизанные без всякого замысла предложения, ничем не обоснованные; письмо ради письма. Он писал потому, что ничего другого не может… нельзя же сидеть сиднем, глядя, как твоя жизнь проносится мимо, и не писать! Это-то он и силился изобразить; длинными, все более отвлеченными предложениями кружа вокруг одного вопроса. Почему у него в этой стране аграфия. В стране, в которой он сидит, точно в клетке. Пока что его предложения и близко не подобрались к ответу…
Кажется, все сводилось к тому, что тексту можно было остаться в городишке М. В субботу вечером он поехал трамваем на Центральный вокзал покупать билет. Билет выписывали в особом окне по предъявлении разрешения на выезд – причем за валюту, то бишь за западные марки, либо за «форум-чеки», незамысловатого тиснения бумажки, которые дают в банке в обмен на западные купюры и на которые можно отовариться в Интершопе. От последней поездки в Регенсбург сохранились две сотни; после покупки билета оставалось еще добрых пятьдесят. На них он купил в Интершопе бутылку виски. Из-за этого они с Моной опять рассорились: хотели купить в Интершопе новую кофеварку, старая на ладан дышит. Оставшихся форум-чеков на это уже не хватит!
– Рыдаешь из-за какой-то дурацкой кофеварки, а ведь очень скоро мы сможем купить кое-что получше! – И он протянул ей билет: пусть убедится, что в оба конца. – Вернусь самое позднее через месяц!
– Я не из-за кофеварки, я из-за тебя!
Слезы вымыли из уголков Мониных глаз черную тушь; сконфузившись, она убежала в спальню.
В воскресенье вечером приготовления завершились, по крайней мере он объявил, что они закончены. На полу стояла собранная сумка; он уже плохо помнил, что там внутри. Спросил осторожно: не хочет ли Мона сходить с ним поесть и выпить вина – к примеру, в тот ресторанчик в восточном городе, который считался вообще-то сносным и где они уже не раз бывали. Она согласилась, они сели на трамвай и поехали на восток. Вопреки ожиданиям, в ресторане даже нашелся свободный столик, и обслужили их быстро; загвоздка была только в том, что предлагалось выбрать одно из двух блюд, и, как назло, из того, что Мона обычно не ела. Все кончилось тем, что Мона резала жилистый кусок мяса, погребенный под грудой красной переперченной подливы вперемешку с такими же разваренными овощами; на краю кучкой лежала истекающая жиром картошка. Гадливым жестом она отодвинула тарелку на середину стола; вступила в пререкания с официанткой, когда та пришла убирать посуду. Еда безобразная. Видно, и здесь уже стали равняться на принятые лейпцигские стандарты. Ответ, как и следовало ожидать, граничил с хамством; Ц. заплатил по счету, и, оставив бутылку красного вина на треть недопитой, они удалились.
– И хорошо, что вернемся не поздно, – сказала Мона в трамвае. – Мне завтра утром, еще до работы, к психоаналитику. Лягу сегодня пораньше.
Ц. вздохнул с облегчением, когда Мона отправилась спать: он наконец остался один. Водворился покой, словно бы завывание фурий, бесновавших вокруг него все выходные, в одночасье затихло. Он устоял… но какой ценой? Такое чувство, будто задел, обидел, оскорбил все свое окружение, каждого, кто для тебя что-то значит. Он потому ранил их, что искал себя, по крайней мере так ему казалось. Они оттого обижались, что внезапно не узнавали его… он же не узнавал себя никогда и потому вел себя, как угодно им, согласно их представлению. Они нарисовали себе его образ, он же постоянно образ этот воплощал. Стоило раз выпасть за рамки, как они, раздувая щеки, шарахнулись в разные стороны. Плакали в три ручья: на кого ты нас покинул. Но покинул их тот, кого они себе придумали… каков он на самом деле – их не волнует.
Он откупорил интершоповскую бутыль и отхлебнул… деваться-то некуда. В шесть утра нужно быть на вокзале, ложиться уже не имеет смысла.
Нет, ему есть чем заняться, одна мелочь все же осталась: письмо написать. Он сел за машинку: сочинить ответ на послание, которое получил вот уже два месяца назад, но до сих пор не ответил, хотя, вообще говоря, все время собирался. Но ничего убедительного в голову не приходило, и письмо все глубже затягивало в толщу отложенных бумаг, которые он потому только не выбрасывал, что там могло скрываться что-нибудь нужное, незавершенное. Он даже Моне показывал то письмо: не знаю, мол, как ответить и нужно ли отвечать. Мона тонко заметила: письма, которые не ищут ясного ответа, суть замаскированные любовные послания… отвечать следует либо в том же сдержанном тоне, либо вовсе не отвечать.
Сейчас он писал ответ на это письмо, пришедшее из Нюрнберга. На конверте значилось имя Гедды Раст; Ц. не представлял, кто это такая. Да и сейчас знал не многим больше: она писала, что знакомство их было мимолетным, состоялось оно в машине, по дороге в его гостиницу в Регенсбурге; «знакомство» – это, пожалуй, чересчур: виделись они всего минут пять, она сидела на заднем сиденье. Теперь, прочтя его книги, она знает о нем чуть больше, но это еще вопрос, много ли узнается из чтения книг – тех же стихотворений – о человеке, их написавшем.
В первом предложении он извинился, что долго медлил с ответом, второе забуксовало. Регенсбург помнит смутно, слишком много было вокруг незнакомых людей. Вероятно, она подруга той женщины, которая заговорила с ним, а потом подвезла до гостиницы; с ней он, между прочим, тоже практически незнаком…
Почти после каждого предложения, отстучав на машинке до точки, он вставал и бродил по квартире… поразительно, как в эту конуру (метров, наверное, в сорок), со множеством углов и закоулков, умудрились еще и ванную встроить. Совершил этот подвиг Монин отец; инженер на монтажном заводе (Ц. много лет на подобных работал), один из тех мужиков, которым, как выражается Мона, все по плечу. Они были едва знакомы, в его отношении к себе Ц. всегда чувствовал оттенок высокомерия – должно быть, из-за того, что заявление об увольнении по собственному желанию у него приняли на том заводе без всяких проблем. Зряшный ты человек, коли тебе так просто уволиться.
Встройка ванной, конечно, отъела кусок у спальни, теперь туда помещались только узенькая тахта да шкаф, стоявшие почти вплотную, дверцы шкафа даже не открывались полностью. С тех пор как Ц. стал манкировать совместным спаньем на тахте, он ложился только после ухода Моны. Конечно, мог бы поспать и на диване в гостиной, но тогда Мона разгадала бы уклонительскую тактику; лучше, если, вставая с утра, она застает его за работой… или, по крайней мере, в позе человека, который работает.
Проходя мимо кухни, он отхлебывал виски, потом снова садился за машинку. Есть вероятность, выстукивал он, даже почти уже наверняка известно, что в ближайшее время его надолго выпустят в ФРГ, он уже не первую неделю ждет разрешения. Как только определится его западный адрес, он снова даст о себе знать. А вдруг судьба занесет его в Нюрнберг…
Когда он покончил с письмом, бутылка была наполовину пустой. Он сунул ноги в ботинки, накинул куртку, решив сразу отправить письмо. Завтра, в предсказуемой утренней спешке, скорее всего забудет. До почтового ящика было от силы метров сто пятьдесят: по мостовой тяжело барабанил осенний дождь; не надень он куртки, промок бы насквозь. Поднявшись в квартиру, повесил брюки на спинку стула, а стул пододвинул к печке, от изразцов еще тянуло теплом. Полотенцем высушил волосы… дождь как-то странно освежил его, голова вдруг стала на удивление ясной. На пару минут открыл оба окошка, чтобы проветрить комнату, в трусах и в майке лег на диван. Лейпциг затих, этой почти зловещей тишиной последних полутора-двух часов, пока на Георг-Шварцштрассе не загрохочет транспорт. За окнами шелестел дождь.
Когда он проснулся, в комнате ярко светило солнце. Вмиг стало ясно: он все еще в Лейпциге – проспал. Вскочил с дивана, кинулся в ванную, встал под ледяную струю. Затем стал обдумывать положение… какие проблемы, с таким же успехом он может поехать и завтра утром! Идиотизм, конечно, но ничего страшного…
Недопитое виски стояло на кухне, он даже не спрятал бутылку; Ц. брезгливо отправил ее в холодильник. Перед тем как уйти чуть свет, Мона поставила на столик рядом с диваном будильник: без четверти пять он звонил, Ц. не услышал. Еще там стояла чашка и маленький термос с горячим кофе. То-то она удивится, застав его вечером дома… да вот обрадуется ли? Не значит ли это, что следующей ночью разыграется тот же спектакль? Несмотря ни на что, захотелось вдруг увидеть Мону… может, остаться, поговорить с ней вечером обо всей этой неразберихе? Неизвестно, хватит ли вечера… может, придется проговорить неделю, чтобы наладился мало-мальски устойчивый мир. Он не уверен, что сможет потом без колебаний уехать…
Остаются еще две возможности: съездить к матери за забытым черновиком… или сесть на другой, вечерний, франкфуртский поезд. Но что ему делать во Франкфурте в пять или шесть утра… во Франкфурте, где никто, наверное, не знает, что ему разрешили выезд. И вот еще что: во всей этой суматохе он позабыл дать телеграмму; телеграмму в издательство с извещением, что виза получена, что Ц. едет во Франкфурт…
Он с яростью опрокинул в себя кофе, взял сумку – она получилась пухлой и довольно увесистой – и вышел на лестницу. Спустившись на первый этаж, бросил в ящик ключи… мосты сожжены! Если передумает вдруг, то придется вечером в дверь звонить. И пошел отправлять телеграмму.
И вот он стоял на улице – на осеннем солнце, ослепительно ярком, но бессильном согреть, решительно не способный принять решение. Голова раскалывалась – печально знакомое последствие дешевого виски из Интершопа. Наконец (как будто недостаточно еще наломал сегодня дров) остановился на идее навестить друга, писателя Г., который жил на Георг-Шварцштрассе. Очень возможно, что тот еще не пришел – Г. подхалтуривал слесарем в ближайшей больнице, – но жена, наверное, дома. Так и есть: Марта открыла дверь и расхохоталась. Марта – славный человек, притворство ей чуждо, такая если хохочет, то будь уверен, что вправду рада.
– Ты с Запада или по дороге туда? – спросила она. – Бледный какой. Кофе небось хочешь.
– По дороге. Сейчас был бы уже там, если бы не проспал.
– Известное дело. Горбатого могила исправит. Но я не внакладе – вот ты стоишь один-одинешенек и волей-неволей звонишь в мою дверь… хоть раз в полгода, но звонишь.
– Бросил ключи в Монин почтовый ящик, в квартиру уже не попасть.
– Нельзя тебе так много пить, – сказала Марта, поставив на стол две чашки крепкого кофе, сваренного по-турецки. – Можешь, конечно, подождать, пока Мона придет домой. Но похоже, тебе не хочется?
– Вроде того.
– Приятель твой Г. тоже исчез, вот уж почти две недели не появляется. К мамаше поехал…
– К мамаше?
– Там с младшим братом неладно. То ли взлом, то ли серия взломов. В предвариловке мальчик… а ведь ему всего пятнадцать.
– Что творится с этим мальчишкой, что творится со всей этой молодежью?
– Что творится со всем этим государством? Что с нами со всеми творится?
По тому, как Марта это сказала – Г. исчез, почти две недели не появляется, – было не очень похоже, что дело только в братишке.
– Еще вопрос, – сказал Ц., – как мы поступим, не разбежимся ли врассыпную?
– Похоже, нажим спадает. Все, что исходит от государства, кажется каким-то странно непринудительным. И все наши маленькие вынужденные содружества распадаются первым делом.
– Стало быть, все не так плохо?
– Может, еще окажется, что мы не способны постоять друг за друга. Что так и не научились…
Марта предложила вечером посидеть где-нибудь: в одном из этих кафе под открытым небом, каких на западе Лейпцига, в лабиринте садовых участков, превеликое множество.
– Только пить много не будем, максимум пару бокалов вина, – предупредила Марта. – Если хочешь, ночуй у меня. Можешь не сомневаться, я тебя с утра разбужу.
Ночью снова пошел дождь. В сложной системе дорожек (второй город садоводов и огородников, по выражению Марты) было легко заблудиться, но сейчас деревья уже обнажились, вдали на горизонте над городом висела красноватая светящаяся дымка, в сторону которой следовало идти. Осенью большинство садовых кафешек в одиннадцать уже закрывалось; на обратном пути они шли, вцепившись друг в друга. С черного неба стекали сплошные завесы дождя, кое-где по дорожке не пройти, вода стояла по щиколотку; через полчаса, промокшие до костей, они добрели до Марты. Ц. снова повесил одежду на печку сушиться.
Но и утром, в битком набитом трамвае, одежда была еще влажной. Впрочем, в трамвае все было влажное; зажав сумку в ногах, он стоял в проходе, а вокруг, точно желая отжать друг дружку насухо, теснились и извивались люди. Трамвай шел неровно, рывками, в черноте за окнами проносились в фонарном свете косые стрелы дождя. В купе межзонального поезда он вошел изрядно промокшим.
Поезд, казалось, мчался в темное небо, а сзади, над оползающим Лейпцигом, уже подымался мутноватый рассвет. Он подпер правой рукой голову и закрыл глаза. Напротив сидело двое парней; немного спустя он услышал, как один говорит: «Вон внизу трамвай в БадтДюрренберг…»
Он поглядел в окно: поезд катил по высокой насыпи, с глухим грохотом двигался по веренице мостов. Внизу, в долинообразной впадине, и вправду ползли два трамвайных вагончика; вдали, над обширным промышленным комплексом, мерцала путаница разноцветных огней. Химические заводы Лейны. «Лейна I» или «Лейна II», на обоих заводах гигантского ареала он долго работал. Заводы заняли весь горизонт, градирни, цилиндрические, гротескного вида башни, футуристические шаровидные резервуары, взлохмаченный войлок штанг, схваченных перетяжками, вонзались в блеклый рассвет, озаренный желтыми и красными газовыми факелами. Дождь перестал. Ц. вспомнил, что когда-то (лет восемнадцать назад, если не больше) и он ездил на этом трамвайчике в Бад-Дюрренберг; один из нескольких тысяч монтеров для наружных работ, распределенных по двум заводам Лейны; он обитал там в рабочем общежитии. Иногда то время казалось поистине неисчерпаемым материалом – но и пугающе трудным: если начать писать об этом, то уйдешь в это с головой на долгие годы. У него о том времени мало написано (почти ничего, думает он); когда заторможенный, ни на что не годный, он изнывал за письменным столом, терзаясь своей импотенцией (или терзая свою импотенцию) – эспрессионистски окрашенные факелы Лейны почему-то не всплывали в памяти. Он грешник и транжир, коли пренебрегает гигантским отрезком жизни, в котором, как ни крути, знает толк! Но может, он потому об этом не писал, что жил в Бад-Дюрренберге не своей, а общежитской жизнью…
Да и кому это все интересно там, куда он сейчас направляется? Поклонницам литературы, которые приходят на его чтения? Той женщине в Регенсбурге, что брала у него автограф, фиксируя взглядом расширенных глаз его неверную руку, которая силилась вывести на форзаце имя, но подпись не вышла и казалась как будто подделанной… Женщине, чьи бледно-розовые лакированные ноготки пощипывали его рукав, направляя Ц. сквозь хлынувший дождь к машине и любезным жестом, будто важного чиновника, усаживая впереди рядом с собой, владея им, будто перышком, что от одного дуновения губ летит в нужную сторону…
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?