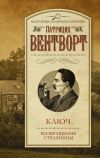Текст книги "Голуби в траве"

Автор книги: Вольфганг Кеппен
Жанр: Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц)
Красный свет преградил Эмилии путь. Она торопилась в ломбард, он закрывался в двенадцать, потом она хотела забежать к Унферлахту, старьевщику, сидящему в сыром подвале, он полезет к ней под юбку, затем к антикварке Фос, старой ворчунье, она ничего не купит, зато это рядом, и, наконец, она чувствовала, она знала, что придется пожертвовать жемчугом, тусклым, как луна, ожерельем, она должна будет зайти к Шеллаку, ювелиру. На ней были туфли из настоящей змеиной кожи, красивого фасона, но каблуки стоптались. Она надела тончайшие чулки, потому что Филипп любил тонкие, как паутина, чулки и становился нежнее, когда зимой, в сильный мороз, она возвращалась домой с обмороженными ногами, но – увы! – разрекламированные петли ползли и струились, как ручьи, вниз от колена к лодыжке. На подоле платья треугольная прореха, кто ее будет штопать? Меховой жакет, слишком теплый для этого времени года, был заношен и потрепан, хотя когда-то на него пошли лучшие сорта белки, что поделаешь, он заменял Эмилии демисезонное пальто, которого у нее не было. Ее юный рот был накрашен, легкая помада скрывала бледность, щек, распущенные волосы развевались под сырым ветром. Вещи она завернула в шотландский портплед, точно багаж путешествующих лордов и леди на карикатурах Вильгельма Буша и на страницах журнала «Флигенде блеттер». Умиление юмористов старого времени не передалось Эмилии. Любая ноша отзывалась в ее плече ревматической болью. А когда Эмилии было трудно, она делалась несносной, в нее вселялись упрямство и злость. Рассерженная, стояла она под красным светом и раздраженно смотрела на движущийся поток.
В консульской машине, в беззвучно и плавно скользящем кадиллаке, в экипаже богачей и в обществе богачей, крупных чиновников, политиканов, преуспевших дельцов, если только все это не было иллюзией, в просторном, сияющем чернотой катафалке мистер Эдвин переезжал перекресток. Его утомило путешествие; он проделал его, правда, лежа, но не сомкнув глаз. Он уныло всматривался в тусклый день, в незнакомую улицу. Это была страна Гете, страна Платена, страна Винкельмана, по этой площади ходил Штефан Георге. Мистер Эдвин мерз. Он вдруг почувствовал себя ненужным, брошенным, старым, слишком старым, дряхлым стариком, каким он и был на самом деле. Всем своим старым, но и теперь еще по-юношески стройным телом он вжался в мягкую обивку сиденья, словно хотел уползти. Поля его черной шляпы терлись о подушки, он снял шляпу, легкую как пушинка, изделие с Бонд-стрит, и положил на колени. Длинные шелковистые седые волосы Эдвина были тщательно расчесаны на пробор. Благородное лицо, в котором угадывались аскетизм, самообладание и собранность, стало сердитым. Черты заострились, он стал похож на старого хищного коршуна. Секретарь консульства и литературный импресарио Американского клуба, посланные на вокзал встретить мистера Эдвина, сидели впереди на откидных сиденьях, они нагибались к нему, считая своим долгом вести с ним беседу и развлекать лауреата, знаменитость, диковинное животное. Они ему указывали на мнимые достопримечательности города, объясняли, где и когда состоится его доклад, болтали – создавалось впечатление, будто уборщицы непрерывно шлепают мокрыми тряпками по пыльному полу. Эдвин убедился, что эти господа говорят на самом обычном жаргоне. Это его раздражало. Временами, приобщаясь к прекрасному, мистер Эдвин любовно пользовался обыденной лексикой, но в устах благовоспитанных господ, принадлежавших к той же, что и он, социальной среде (Моя социальная среда, какая среда? одинаковое отношение ко всем, посторонний наблюдатель, вне классов, вне группировок), этот жаргон, американский язык, тягучий, как жевательная резинка, угнетал его, раздражал и злил. Эдвин еще глубже забился в угол машины. Что несет он этой стране, стране Гете, Винкельмана, Платена, что несет он ей? Они будут внимательны и, возможно, мнительны, эти побежденные, они будут настороже, уже воспряв от несчастья, пугливы и подозрительны – ведь они были на краю бездны, заглянули смерти в глаза. Есть ли у него миссия, несет ли он утешение, объясняет ли людское страдание? Он собирался говорить о бессмертии, о вечности духа, о неумирающей душе западного мира – что же теперь? Теперь его охватило сомнение. Его миссия была бездушной, его знание – избранным. Да, избранным. Он вобрал его в себя из книг, он получил, собирая по капле, экстракт из духа тысячелетий, он отбирал из всевозможных наречий; да, избранным, ибо это был святой дух, отлитый в слова, драгоценные, избранные слова, квинтэссенция, сверкающая, дистиллированная, сладкая, горькая, отравляющая, целебная, почти объяснение, но объяснение одного лишь исторического процесса, да и то, говоря по правде, объяснение весьма сомнительное, отточенные, умные фразы, чувствительные реактивы и все же: он прибыл с пустыми руками, без даров, без утешения, с ним была не надежда, лишь печаль и усталость, нет, не апатия – пустота в сердце. Не отказаться ли от выступления? Он и до этого видел разрушения, оставшиеся от войны, разве мог не заметить их тот, кто побывал в Европе? Он видел их в Лондоне, во Франции и Италии, страшные неприкрытые раны городов, однако здесь, на самом пораженном участке Европы, по которой он путешествовал, из окна консульской машины, защищенный от пыли, укачиваемый плавной ездой на пружинистых рессорах и толстых резиновых шинах, он видел иное: все было расчищено, убрано, заасфальтировано, вновь приведено в порядок, и именно поэтому все выглядело так зловеще и так непрочно. Этого уже никогда не восстановить. Он будет говорить о Европе и для Европы, но втайне он, наверно, мечтал разломать, разбить ту маску, в которой перед ним предстала столь горячо любимая им часть света, любимая духовной любовью, или же дело обстояло так, что он, мистер Эдвин, отправившийся в позднее путешествие, дабы насладиться триумфом и заприходовать свою позднюю славу, что пришла к нему – увы! – лишь по случайному стечению обстоятельств, постиг бренность бытия и став собратом птицы Феникс, которую ждал огонь – пусть обратится в пепел пестрое оперение, и эти магазины, и эти люди, и все это, за неимением лучшего, пустая болтовня в машине, до чего глупо; так что же он им скажет? Может случиться, что он умрет в этом городе. Сообщение. Заметка в вечерних выпусках. Несколько некрологов в Лондоне, Париже и Нью-Йорке. Этот черный кадиллак словно катафалк. «О ужас, мы задели велосипедиста, он качается, нет, не упал».
Он не упал, сохранил равновесие. Он завихлял из стороны в сторону, но удержался и вывел велосипед на свободное место, он, доктор Бехуде, психиатр и невропатолог, нажал на педали в покатил вперед, сегодня вечером он должен быть в Американском клубе, там состоится доклад мистера Эдвина, беседа о европейском духе, речь о могуществе духа, о победе духа над материей, дух побеждает болезни, болезни обусловлены психическим состоянием, страдания излечиваются через душу. У Бехуде кружилась голова. На этот раз процедура отняла у него силы. Вероятно, он слишком часто соглашается на сдачу крови. Миру нужна кровь. Доктору Бехуде нужны деньги. Торжество материи над духом. Быть может, завернуть за угол, слезть с велосипеда, зайти в пивную и чего-нибудь выпить для бодрости? Он плыл в потоке машин. Он чувствовал головную боль – когда на нее жаловались его больные, он не придавал этому значения. Крутя педалями, он ехал к Шнакенбаху, измученному болезнью учителю из профессиональной шкоды, даровитому кропателю формул, Эйнштейну из общественного университета, призраку, пристрастившемуся к первитину и бензидрину. Бехуде жалел, что не дал вчера учителю таблеток, на которых тот держался. Теперь он вез Шнакенбаху рецепт на лекарство: оно утолит его болезненную страсть, ненадолго поддержит его жалкое существование и одновременно еще больше подорвет его здоровье. Он с удовольствием отправился бы к Эмилии. Она ему нравилась: он считал, что она находится в более угрожающем положении, чем Филипп, «тот все сумеет превозмочь, даже свою супружескую жизнь, выносливое сердце, невроз, вне всякого сомнения, невроз, псевдостенокардия, одно другого не слаще, но сердце выносливое, по виду не скажешь», и тем не менее Эмилия не шла к нему на прием и исчезала, когда он навещал Филиппа на дому. Он не заметил, что на перекрестке, который он только что проехал, стояла Эмилия, ожидая, когда загорится зеленый свет. Он налегал на руль, правую руку держал на тормозе, указательный палец левой – на звонке: неверный сигнал может быть причиной смерти, неверная доза может привести к разоблачению, неверный ночной звонок… понимает ли он Кафку?
Правя небесно-голубым лимузином, Вашингтон Прайс ехал через перекресток. Сделать это или не сделать? Он знал, что у цистерн в его автопарке есть потайные краны. Риск невелик. Требуется лишь вступить в долю с водителем цистерны, подкатить к немецкой заправочной станции, которую знает каждый шофер, и откачать несколько галлонов. Деньги обеспечены, неплохие деньги. Деньги ему нужны. Он не хочет оказаться в проигрыше. Ему нужны Карла и ребенок от Карлы. В его послужном списке нет еще ни одного взыскания. Он верит в порядочность. У каждого гражданина есть свой шанс. У черного человека тоже есть шанс. Вашингтон Прайс – сержант американской армии. Вашингтон Прайс должен разбогатеть. Разбогатеть хотя бы временно, хотя бы на сегодня, на то время, пока он здесь. Карла поверит богатству. Деньгам она поверит скорее, чем его словам. Карла не хочет ребенка. Она боится. Боже мой, чего она так боится? Вашингтон – самый лучший, самый сильный и самый стремительный игрок в знаменитой бейсбольной команде «Алые звезды». Но он уже не самый молодой. Этот убийственный бег по полю! Дается уже с трудом. Легким не хватает воздуха. Но пожалуй, еще год-два он выдержит. Он еще покажет себя на матчах. Ревматическая боль пронизала его руку, это было предупреждение. Он не пойдет на авантюру с бензином. Он поедет в Американский магазин. Он должен купить Карле подарок. Он должен позвонить домой. Ему нужны деньги. И как можно быстрее…
И как можно быстрее пересесть с шестого на одиннадцатый. Она еще застанет доктора Фрамма. Хорошо бы чуть опоздать и прийти, когда прием окончится. У него будет время поговорить с ней. Это надо сделать. И как можно быстрее. Вашингтон славный парень. Как она тогда боялась! Первый день в расположении части. Одни негры. Лейтенант сказал: «Не уверен, что вы останетесь». Они толпились за дверью, прижимались расплющенными, как пластилин, носами к стеклу, одно лицо, другое, третье. Кто был в клетке? Кем была представлена порода в зоологическом саду, теми, что стояли за дверью, или той, что сидела перед дверью? Неужели так велика была пропасть, отделявшая служащую германского вермахта, секретаршу местного коменданта, от чернокожих солдат одной из транспортных частей армии США? Она писала, бойко писала по-английски, склонившись над машинкой, лишь бы не видеть чуждого ей облика, темной кожи, этой мягкой пластичности, скрытой в эбеновом дереве, мужчину, лишь бы слышать не гортанную речь, а только текст, который он диктует, она не могла не работать, не могла сидеть на шее у матери, не могла оставаться с фрау Беренд, не могла согласиться с ней, что капельмейстер виновен, надо было заботиться о сыне, его отец остался на Волге, то ли под водой, то ли под землей, пропал без вести в русских степях, некому посылать открытки на сталинградский фронт, надо было как-то выкручиваться, грозила голодная смерть, наступили трудные годы, сорок пятый, сорок шестой, сорок седьмой, голодная смерть, она твердила себе «надо», почему ей говорят «не надо», разве они не такие же люди? Он появился вечером. «Я отвезу вас домой». Он шел с ней рядом по коридору. Ей казалось, что она голая. В проходе стояли мужчины, темные в коридорных сумерках, их глаза были как беспокойные белые летучие мыши, их взгляды – как неподвижные мишени на ее теле. Он сел рядом и взялся за руль. «Где вы живете?» Она ответила. Он молчал, пока они ехали. Перед ее домом он остановился. Открыл дверцу. Протянул шоколад, консервы, сигареты, целое богатство по тем временам. «Всего хорошего». И больше ничего. И так каждый вечер. Он заходил за ней в канцелярию, вел ее по коридору, где застыли в ожидании темные фигуры мужчин, отвозил ее домой, молча сидел рядом в машине, что-то дарил ей, говорил: «До свидания». Порой, устроившись на сиденье, они оставались в машине возле ее дома по часу и больше, молча и не шевелясь. На улицах тогда еще были груды щебня – остатки зданий, разрушенных при бомбежке. Ветер ворошил мусор, поднимал пыль. Все лежало в руинах, словно в краю мертвых, по ту сторону реальности каждого вечера, Троя, Геркуланум, Помпеи, исчезнувший мир. От сотрясения рухнула стена. Облако пыли вновь окутало джип. Через месяц с небольшим Карла не выдержала. Ей уже снились негры. Ей снилось, что ее насилуют. К ней тянулись черные руки, хватали ее, они появлялись из-под развалин, как змеи. Она сказала: «Больше не могу». Он поднялся в ее комнату. Так бывает, когда тонешь. Не Волга ли? Увлекающий ее поток был не льдом, а пламенем. На другой день стали приходить соседи, знакомые, пришел ее бывший начальник по вермахту, все они явились, стали просить сигарет, консервов, кофе, шоколад: «Ты скажи своему другу, Карла, он ведь отоваривается и в Американском магазине и в Американском клубе», «Послушай, Карла, кусок мыла, твой приятель не смог бы, а?» Вашингтон Прайс покупал, доставал, приносил. Друзья Клары нехотя говорили «спасибо». Казалось, Карла выплачивает дань. Друзья Карлы забывали, что американские товары стоили доллары и центы. Как это выглядело? Смешно? Красиво? Могла она гордиться? Карла в роли благодетельницы? Она уже ничего не понимала, а думать ей было в тягость. Она оставила работу в военной части, поселилась в квартире, в которой другие девушки принимали других мужчин, стала жить с Вашингтоном, она не изменяла ему, хотя возможностей для этого было достаточно, даже более чем достаточно, поскольку все, и черные и белые, и немцы и не-немцы, были убеждены, что, раз она теперь живет с Вашингтоном, значит, она пойдет с каждым, это ее распаляло, и, неуверенная в своем чувстве, Карла спрашивала себя; «Люблю ли я его, люблю ли я его на самом деле? Нет, мы как чужие, ну и пусть, я не хочу изменять ему, не буду, это то, что я должна ему, ему и никому больше», и, проводя время праздно, она осваивала красочный мир бесчисленных журналов, которые рассказывали ей, как живут женщины в Америке, автоматизированные кухни, стиральные и посудомоечные чудо-машины все делают сами, а ты лежишь в кресле, смотришь телевизор, Бинг Кросби выступает в каждом доме, мальчики из венского хора разливаются соловьями перед электрическим камином, в пышных подушках пульмановского вагона можно проехать с востока на запад, вечером в Сан-Франциско на берегу залива сидишь в автомобиле обтекаемой формы, наслаждаешься огнями и пальмами во всем их великолепии, страховые общества и изготовители пилюль дают гарантии на любой случай, и тебя больше не тревожат сны, потому что, выпив искусственного молока, you can sleep soundly to-night[13]13
ты ночью будешь крепко спать (англ.)
[Закрыть], там женщина – королева, ей все служит и приносится в жертву, она – the gift that starle the home[14]14
украшение дома (англ.)
[Закрыть], а у детей куклы плачут настоящими слезами; и это единственные слезы, которые проливаются в том раю. Карле хотелось стать женой Вашингтона. Она была готова последовать за ним в Штаты. Через своего бывшего начальника, коменданта, который теперь заведовал делопроизводством в юридической консультации, она достала свидетельство о гибели мужа, пропавшего без вести на Волге. И вдруг оказалось, что она ждет ребенка, чернокожего, он шевелится у нее в животе, он был не ко времени, он вызывал тошноту, нет-нет, он ей не нужен, доктор Фрамм ей поможет, поможет ей от него-избавиться, и как можно быстрее…
«Перед вами квартал, который был полностью разрушен. За пятилетний восстановительный период благодаря демократическому руководству и поддержке со стороны союзников город вновь превращен в цветущий торгово-промышленный центр». План Маршалла включает и Германию, программа помощи Европе сокращена, сенатор Тафт против субсидий. Туристский автобус с группой учительниц из штата Массачусетс проезжал перекресток. Сами того не зная, они путешествовали инкогнито. Ни одному немцу, смотревшему на женщин в автобусе, не пришло бы в голову, что это учительницы. Это были дамы, удобно расположившиеся на сиденьях из красной кожи, прекрасно одетые, в меру накрашенные, молодо выглядевшие и на самом деле молоды, так по крайней мере казалось; богатые, холеные, праздные дамы, убивающие время на осмотр города. «Если б вы не бомбили город, здесь все имело бы иной вид, да и вас бы здесь не было, американские солдаты, ну ладно, но зачем же тратить оккупационные деньги на этих баб, ведь они все тунеядки». Американская учительница получает – сколько же она получает? – а-а, все равно бесконечно больше, чем ее немецкая коллега в Штарнберге, бедное запуганное существо: «Окружающих нельзя шокировать, самую малость косметики священник сочтет за безнравственность, директор может занести в личное дело». Образование в Германии – тягостное и тоскливое занятие, чуждое радостям жизни, изящество, мода – а ну их! Да и вообще вообразить-то немыслимо, чтобы накрашенная, надушенная особа стояла у доски в немецкой школе, чтобы она каникулы проводила в Париже, слушала лекции в Нью-Йорке или Бостоне, штат Массачусетс, бог ты мой, волосы шевелятся от ужаса, нет, этому не бывать, мы – бедная страна, и в этом наша добродетель. Кэй сидела рядом с Кэтрин Уэскот. Кэй был двадцать один год. Кэтрин Уэскот – тридцать восемь. «Ты влюблена в зеленые глаза Кэй, – сказала ей Милдред Бернет, – зеленые глаза, кошачьи глаза, лживые глаза». Милдред было сорок пять лет, она сидела впереди. Один день им был отведен на осмотр города, два других – на поездку по американской оккупационной зоне. Кэтрин записывала все, что говорил человек из американского бюро путешествий «Экспресс», стоявший рядом с шофером. Она думала: «Попробую-ка использовать на уроке истории, это ж исторический материал, Америка в Германии, stars and stripes[15]15
звездно-полосатый флаг (англ.)
[Закрыть] над Европой, я это теперь видела, сама прочувствовала». Кэй решила не записывать во время экскурсий. И так-то почти ничего не удавалось увидеть. Лишь в отеле Кэй переписывала в свой путевой дневник самое существенное из конспекта Кэтрин. Кэй была разочарована. Романтическая Германия? Здесь какой-то мрак. Страна поэтов и философов, музыки и песен? Люди с виду, как и всюду. На перекрестке стоял негр. «Bahama-Joe» неслось из транзистора. Все как в Бостоне, совсем как на окраине Бостона. Вероятно, другую Германию выдумал профессор с кафедры германистики в их колледже. Его звали Кайзер, до тридцать третьего года он жил в Берлине. Ему пришлось эмигрировать. «Наверно, он испытывает тоску по родине, – думала Кэй, – ведь это как-никак его родина, он и видит ее иначе, чем я, Америку он не любит, зато здесь, он считает, одни поэты, здесь меньше поглощены делами, чем у нас, однако ж его заставили отсюда уехать, почему? Он такой милый, и у нас в Америке есть поэты, писатели, и, как говорит Кайзер, крупные писатели, но какую-то разницу он все же видит: Хемингуэй, Фолкнер, Вулф, О'Нил, Уайлдер; Эдвин живет в Европе, совсем порвал с нами, и Эзра Паунд тоже, у нас в Бостоне жил Сантаяна, у немцев есть Томас Манн, но и тот в Америке, даже забавно, и он в изгнании, а еще у них были Гете, Шиллер, Клейст, Гельдерлин, Гофмансталь; Гельдерлин и Гофмансталь – любимые поэты доктора Кайзера, и элегии Рильке, Рильке умер в двадцать шестом, кто же у них теперь? Сидят на развалинах Карфагена и льют слезы, хорошо б улизнуть, побыть без группы, вдруг я с кем-нибудь познакомлюсь, например с поэтом, я, американская девушка, поговорю с ним, скажу ему, чтоб не грустил, но Кэтрин от меня ни на шаг, прямо надоела, я уже взрослая, она не хочет, чтоб я читала „За рекой, в тени деревьев“, сказала, что такую книгу вообще не надо было печатать, а, собственно, почему, из-за маленькой графини? Интересно, а я смогла б вот так сразу?» – «Какой тусклый город, – думала Милдред, – и как плохо одеты женщины». Катрин пометила в блокноте: «Тяжелое положение женщин все еще слишком очевидно, равноправия с мужчиной не достигнуто». Об этом она будет говорить в женском клубе штата Массачусетс. Милдред думала: «Какой идиотизм – путешествовать с группой, где одни женщины, представляю, как мы всем опротивели, женщина – слабый пол, путешествие утомительное, а что видишь? Ничего. Который год подряд впутываюсь в это дело, опасное семя, мучители евреев, на каждом немце стальная каска, да где же все это? Мирные люди, бедны, конечно, нация солдат, не верь тому, кто говорит «без меня», Кэтрин не любит Хемингуэя, зашипела как гусыня, когда Кэй взяла книгу, вот уж страшная книга, графиня ложится в постель со старым майором, Кэй тоже легла бы с Хемингуэем, только где же его отыщешь, вместо этого Кэтрин приносит ей перед сном в постель шоколад. Кэй, душечка, ах, зеленые глаза, они сводят ее с ума, это что такое? Ну, конечно, же, писсуар, такое вот вижу, а памятники пропускаю, уж не обратиться ли к психиатру? Какой смысл? Слишком поздно, в Париже на подобных местах – листы гофрированной стали, как короткие повязки на бедрах у готтентотов, чтоб молодые люди не смущались, что ли?»
Зеленый свет. Мессалина ее заметила. Похотливая жена Александра. Эмилия хотела ускользнуть, спрятаться, но попытка скрыться в туалет не удалась: это был писсуар для мужчин, прямо на углу улицы. Эмилия поняла это лишь тогда, когда увидела перед собой мужчин, застегивающих на ходу брюки. Эмилия перепугалась, споткнулась, оглушенная аммиачными парами и запахом дегтя, у нее в руках был тяжелый портплед, смешной потешный портплед карикатуристов, еще немного – и она наткнулась бы на мужские спины, спины, над которыми в ее сторону поворачивались головы, глаза, задумчиво устремленные в пустоту, глуповатые лица, принимавшие удивленное выражение. Мессалина не теряла из виду выслеженную жертву; она отпустила такси, которое взяла, чтобы ехать к парикмахеру; надо было обесцветить и начесать волосы. Теперь она ждала у выхода из туалета. Сгорая от стыда, Эмилия выбежала из мужского убежища, и Мессалина закричала ей: «Эмилия, детка, ты что, уличных знакомств ищешь? Рекомендую тебе крошку Ганса, приятеля Джека, ведь Джека ты знаешь, они все у меня бывают. Ну, здравствуй, как дела, дай поцелую тебя, личико у тебя такое свежее, румяное. Ты совсем зачахла, заходи-ка вечерком ко мне, будет компания, может быть, приедет писатель Эдвин, он, говорят, уже в городе, я с ним не знакома, не слышала даже, что он там написал, знаю, что получил премию. Джек его наверняка затащит, познакомим его с Гансом, повеселимся!» Эмилию коробило, когда Мессалина называла ее деткой, она ненавидела Мессалину, когда та упоминала Филиппа, любая реплика Мессалины смущала ее и оскорбляла, но так как в супруге Александра, в этой великанше атлетического сложения, она видела подобие мерзостного дьявола, от которого никуда не деться, всесильную и не брезгающую насилием особу, помпезный и уродливый монумент, то она каждый раз испытывала трепет и, встречаясь с ней, с монументом, делала книксен, совсем как маленькая девочка, и смотрела на монумент снизу вверх, что еще сильнее разжигало Мессалину: утонченная вежливость Эмилии приводила ее в неописуемый восторг. «Она соблазнительна, – думала Мессалина, – зачем она живет с Филиппом? Она его любит, другой причины нет, вот смех, я долго этого не могла раскусить, наверно, взял ее девушкой, такие браки бывают, первый мужчина, спросить ее? Нет, не рискну, одета не ахти, все истрепано, фигурка что надо, и с лица не дурнушка, всегда хорошо выглядит, а мех никудышный, беличий, нищая она принцесса, интересно, какова в постели? Думаю, неплоха. Джек на нее давно нацелился, тело как у мальчишки, а вдруг Александр? Да она и не придет, разве что с Филиппом, он угробит девочку, ее надо спасать, живет на ее деньги, бездарность, Александр просил его состряпать сценарий, а он что сделал? Ничего, смущался да отшучивался, после вообще пропал, играет в непроницаемого, непризнанный гений, из тех писак, завсегдатаев „Романского кафе“ в Берлине и парижских кабаре, еще и важничает, чучело да и только, жаль девочку, смазливая и ротик чувственный». А Эмилия думала: «Ну и везет же мне, угораздило ее встретить, когда иду с вещами, обязательно кого-нибудь да встречу, стыд какой, этот идиотский плед, она, конечно, сразу догадается, что я иду в ломбард, к старьевщикам, несу что-то продавать, на мне написано, слепой, и тот бы увидел, начнет язвить, расспрашивать о Филиппе, о его книге, дома лежат белые нетронутые листы бумаги, стыд какой, он, я знаю, мог бы написать книгу, но не получается, военная провокация – начало мировой войны, что она понимает? Эдвин для нее – только имя в газете, ни одной его строчки не прочла, знаменитости коллекционирует, даже Гренинг, врач-феномен, был у нее дома, правда ли, что она лупит Александра, когда застает его с другими женщинами, что она понимает? Надо спешить, зеленый свет…»
Зеленый свет. Они двинулись дальше, «Bahama-Joe». Сощурившись, Йозеф посмотрел на «Колокол», старую гостиницу. Сгорев до основания, она теперь воскресла в виде дощатого барака. Йозеф потянул своего черного повелителя за рукав: «Желаете пить пиво, мистер? Здесь очень хорошее пиво». В его взгляде была надежда. «О пиво», – сказал Одиссей. Он засмеялся, его широкая грудь вздымалась и опускалась от смеха: волны Миссисипи. Он хлопнул Йозефа по плечу: у того подогнулись колени. «Пиво!» – «Пиво!» Они вошли, вошли в старый, знаменитый, уничтоженный, вновь восстановленный «Колокол», рука об руку, «Bahama-Joe», они пили: пена лежала на их губах, как снег.
Филипп задержался перед небольшим магазином, торговавшим пишущими машинками. Он разглядывал витрину. Это – один обман. Он не решался войти. Тощая графиня Анна – исключительно деловая, бессердечная и бессовестная, всем и каждому известная особа из семьи закулисных политиканов, которые помогли Гитлеру стать рейхсканцлером, за что тот, придя к власти, истребил всю семью, за исключением тощей Анны, нацистка с удостоверением жертвы нацизма (нацисткой она была по природе, а удостоверением пользовалась по праву), – тощая графиня Анна встретила в печальном кафе печального Филиппа, автора запрещенной в третьем рейхе и забытой после падения третьего рейха книги, и, всегда отличавшаяся предприимчивостью и склонностью к болтовне, вступила в разговор и с ним. «Ограниченна, весьма ограниченна, боже мой, что ей нужно?» – «Вы не должны болтаться без дела, Филипп, – внушала она ему, – на что это похоже? Человек с вашим талантом! Нельзя жить на средства жены. Надо уметь себя заставить, Филипп. Почему вы не напишете сценарий? Вы же знакомы с Александром? Вы ведь человек со связями. Мессалина сулит вам большое будущее!» Филипп слушал и думал: «Какой сценарий? О чем она говорит? Такой, какие пишутся для Александра? Или для Мессалины? Выходит на экраны, любовь эрцгерцога, не могу я этим заниматься, ей разве втолкуешь? Нет, не могу, не разбираюсь я в этом, любовь эрцгерцога, для меня это пустые слова, киноэмоции – ложь, настоящая ложь, выше моего понимания, кто пойдет смотреть такую чушь? Считается, что все пойдут, я в это не верю, я этого не знаю и знать не желаю!» – «А если вы не желаете, – сказала графиня, – тогда займитесь чем-нибудь другим, продавайте ходкий товар, у меня есть возможность достать патентованный клей, он всюду нужен, ходите по домам и предлагайте. Нынче ни одна упаковка не обходится без патентованного клея, экономия времени и средств. Войдите в первый попавшийся магазин, и две марки уже в кармане. За день можно продать двадцать, а то и тридцать пузырьков – вот и считайте!» Таков был разговор с тощей деловой Анной, болтовня, но над этим стоило поразмыслить, он сидит в луже, нет, стоит с пузырьком клея – он распахнул дверь. Сработала сигнализация, резкий звонок напугал Филиппа. Он вздрогнул, как вор. Его рука в кармане пальто судорожно стиснула патентованный клей графини. Пишущие машинки, сверкали, залитые неоновым светом, и Филиппу почудилось, что клавиши осклабились ему навстречу: строй букв стал глумящейся разинутой пастью, алфавит жадно щелкнул оскаленными зубами. Разве Филипп не писатель? Не повелитель пишущих аппаратов? Их жалкий повелитель! Стоит ему открыть рот и произнести волшебное слово, как они застучат: угодливые исполнители. Волшебного слова Филипп не знал. Он забыл его. Ему нечего сказать. Ему нечего сказать людям, которые за окном проходят мимо. Эти люди обречены. Он тоже обречен. Он обречен иначе, чем люди, которые проходят мимо. Но и он обречен. Само это место обречено временем. Обречено на шум и молчание. Кто говорит? О чем говорится? Как Эмми познакомилась с Герингом, кричали с каждой стены пестрые плакаты. Сенсация века. Что искал здесь Филипп? Он никому не нужен. Он робок. Ему не хватает мужества обратиться к владельцу магазинчика, коммерсанту в элегантном костюме, куда более новом, чем костюм Филиппа, и предложить ему графский клей, эту, как теперь казалось Филиппу, совершенно ненужную и нелепую штуку. «У меня нет чувства реальности, нет серьезности, вот коммерсант – тот человек серьезный, я же не могу принять всерьез того, чем все занимаются, просто смешно что-то ему продавать, а кроме того, я слишком робок, пусть чем хочет, тем и заклеивает посылки, какое мне до этого дело? Зачем ему заклеивать посылки? Чтобы рассылать пишущие машинки, а зачем их рассылать? Чтобы зарабатывать деньги, хорошо питаться, хорошо одеваться, спать крепким сном, вот за кого Эмилии надо было выйти замуж. А что делают те, кто купил у него машинки? Хотят с их помощью зарабатывать деньги, хорошо жить, нанимают секретарш, смотрят на их коленки, диктуют: „Глубокоуважаемые господа, настоящим подтверждаем получение Вашего письма, датированного…“, да я б им в лицо рассмеялся, вместо этого они надо мной смеются, они правы, я – неудачник, с Эмилией веду себя преступно, я бездарен, робок, ненужен: немецкий писатель». – «Что вам угодно?» Элегантно одетый коммерсант склонился перед Филиппом, он, как и все, лез из кожи вон. Филипп скользнул взглядом по полкам, где стояли полированные, смазанные маслом машинки, способные на любой подвох коварные изобретения, которым человек поверяет мысли, известия, послания, объявления войны. Тут же он увидел диктофон. Это был звукозаписывающий аппарат, как-то дважды Филипп начитывал на магнитофонную ленту текст своих радиопередач. На аппарате стояло: «Репортер». «Репортер ли я? – подумал Филипп. – С таким прибором я мог бы сделать репортаж, рассказать о себе, что я слишком робок, бездарен, не способен продать пузырек клея, что я выше того, чтобы писать сценарий для Александра и приспособляться ко вкусу проходящих мимо, и что мне не под силу изменить их вкус, вот в чем дело, я никому не нужен, смешон, я и сам считаю, что я смешон и никому не нужен, но я вижу других, этого коммерсанта например, который вообразил, будто ему удастся мне что-то продать, в то время как я не могу решиться и всучить ему клей, и он мне кажется таким же смешным и ненужным, как и я!» Владелец магазина выжидательно смотрел на Филиппа. «Я хотел бы взглянуть вон на тот диктофон», – сказал Филипп. «Пожалуйста, – ответил элегантный господин, – последняя модель, лучше вы не найдете». Он старался вовсю. «Первоклассный аппарат. Ваш расход моментально окупится. Везде, где угодно, вы сможете диктовать письма, в машине, в постели, во время путешествия. Попробуйте, прошу вас…» Он включил запись и протянул Филиппу маленький микрофончик. Лента перекручивалась с одной бобины на другую. Филипп стал говорить: «Новая газета» желает, чтобы я проинтервьюировал Эдвина. Я мог бы взять с собой этот аппарат и записать нашу беседу. Но предстать перед Эдвином в качестве корреспондента мне стыдно. Не исключено, что он боится журналистов. Он сочтет своим долгом сказать несколько общих и любезных слов. Меня это обидит. Я буду стесняться. Разумеется, он не знает меня. С другой стороны, я рад, что увижу Эдвина. Я его ценю. Встреча может оказаться и приятной. Я бы погулял с ним по парку. А может, все-таки клей…» Он испуганно остановился. Коммерсант любезно улыбнулся и сказал: «Значит, вы – журналист? Наш „Репортер“ приобрели уже многие журналисты». Он перемотал ленту, и Филипп услышал, как его собственный голос передает его собственные мысли об Эдвине и предполагаемом интервью. Странное дело, все, что произносил голос наполняло его стыдом. Это был эксгибиционизм, интеллектуальный эксгибиционизм. То же самое, если б он разделся догола. Его собственный голос и слова, которые он произносил, напугали Филиппа, и он обратился в бегство.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.