Текст книги "Песни чёрного дрозда"
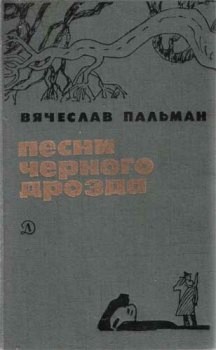
Автор книги: Вячеслав Пальман
Жанр: Природа и животные, Дом и Семья
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 15 страниц)
Глава одиннадцатая
ПЕСНИ ЧЁРНОГО ДРОЗДА
1
Пришёл сентябрь, месяц Сухого Листа, небо над горами ещё больше поголубело, а солнце расщедрилось и разогнало все даже самые маленькие облака, полностью очистив красивое небо. По календарю лето ушло, по погоде – только разохотилось.
Сухой воздух свободно наполнял лёгкие, дышалось глубоко и вкусно.
Золотая осень. Переплетённые паутиной кусты, запах спелых плодов и бесконечное синее небо над головой.
Уплыли в прошлое драматические события в верховьях Ауры, чучело погибшего Хобы теперь возвышалось в центре самой большой комнаты природоведческого музея. Его гордо поднятая голова с венцом рогов застыла с таким выражением, словно был он бесконечно удивлён и до сих пор не хотел верить случившемуся; так с вечным недоумением в глазах он и застыл на годы, заставляя посетителей умолкать при взгляде на него.
О Лобике не было никаких вестей.
Проведав в Камышках мать, Александр Егорович вновь собрался через перевал, чтобы на пути, в последний раз за этот год, встретиться с ботаником и вместе осмотреть контрольные делянки на пастбищах. Зимой они решили написать в научный журнал о результатах опыта по допустимой нагрузке пастбищ; не подлежала сомнению истина, что количество травоядных копытных в заповеднике можно удвоить без всякого риска для лугов.
Выслеживая Рыжебокую, Молчанов нашёл ещё два стада из северянок, пришедших на южные склоны. Начало миграции, положенное погибшим оленем, обрадовало молодого учёного. Перевал уже не отпугивал оленей. Найдут они дорогу на юг до глубоких снегов – и в заповеднике вздохнут свободней: зимняя бескормица не будет бедствием для оленей, Причерноморье станет их вторым домом.
Какой пугливой теперь сделалась Рыжебокая, показала последняя встреча на верхних лугах. Заметив Человека с собакой, оленуха немедленно покинула стадо, с которым ходила, и через сорок часов Молчанов разглядел её уже в долине верхней Сочинки, за двадцать километров от места первой встречи.
Поди-ка приручи!
Сразу после гибели Хобы, когда в Южный отдел прилетел директор заповедника, чтобы решительно наказать виновников и распрощаться с пособниками браконьерства, они вместе с Котенко обсудили новое положение.
– Мы все-таки наивные люди, – задумчиво сказал зоолог, когда речь зашла об олене и медведе. – Мы пытались наладить доверчивые связи с дикими зверями так, будто, кроме нас, в лесу никого нет. Молчанов, олень, медведь, собака… И все. Двое или пятеро прониклись этой благородной целью и сделали все, что могли для приручения. А рядом ходили или ездили двадцать или сорок лесников, шумели лесорубы, бродили туристы, которые при виде зверя вдруг сами дичают, начинают улюлюкать или стрелять. И все летит к чёртовой бабушке. Желание – одно, атмосфера – другое. Пока каждый человек в заповеднике и вокруг него не проникнется чувством братства к дикому зверю, все наши начинания обречены на провал. Это ясно как божий день. Мне случалось быть на Аляске, в Северном заповеднике. Лишь двадцать лет спустя, после долгого периода жизни рядом с дружелюбным народом, олени стали настолько доверчивыми, что теперь подходят к автобусам с туристами и берут лакомства прямо из рук. Двадцать лет взаимного изучения и доверия! Так что, Саша, смирись. У тебя все ещё впереди.
– Я нашёл молодого Хобу, – сказал Молчанов. – Я займусь им.
– Похвально! И не успеешь поседеть… – Котенко деланно засмеялся и погрустнел.
– Все равно, – упрямо сказал Молчанов.
Директор внимательно посмотрел на него.
– Боюсь, что у вас не будет необходимого времени для этого, Александр Егорович, – сказал он. – Дело в том, что в самое ближайшее время на вас будет возложено множество новых забот и обязанностей.
– Не понимаю! – Молчанов пожал плечами.
– Через две недели лесничий Коротыч покидает свой пост. Он уходит от нас. Не подошёл для работы в заповеднике. И вот мы посоветовались, спросили мнение Бориса Васильевича и решили назначить вас начальником Южного отдела. Так что, Александр Егорович…
Молчанов быстро глянул на зоолога. Котенко улыбался.
– А что, Саша? Это вовсе не значит, что ты оставляешь научную работу. Напротив, она приобретёт размах.
– Ну, знаете… – Молчанов растерялся. В одно мгновение он вспомнил мать, её желание переехать в Жёлтую Поляну, вспомнил, что Таня должна приехать туда на постоянное жительство, что Саша-маленький все ещё здесь… И колхидские джунгли вспомнил, где когда-то его отец стоял с винтовкой, – этот огромный лесной край, который теперь должен охранять он.
– Раз Борис Васильевич…
– Он нам и посоветовал, Саша. – Котенко положил руку на его колено. – Все идёт к тому, что ты обживёшься здесь. И охотничий дом сделаешь действительно базой для учёных. И зоопарк, который, конечно же, нужен, хоть и начался так неудачно. Словом, дел много, их хватит надолго.
После этого разговора он ушёл на север и теперь собирался к ботанику, а затем в Южный отдел, чтобы принять дела у Коротыча.
Договорились, что Елена Кузьминична приедет, как только продаст дом и распорядится хозяйством.
Уже перед уходом он связался по рации с заповедником, и вот тогда директор сказал ему о Бережном: пропал человек.
– Как пропал? – удивился Молчанов. Он знал, что дядя Алёха, просидев некоторое время в предварительном заключении, был отпущен под расписку и в тот же день, махнув рукой на эту формальность, ушёл, как говорили, домой, в Шезмай. Ловить его никто не собирался, прокурор считал, что на суд он все равно явится. А теперь выясняется, что домой он так и не пришёл. Неужели в бега подался? Для его возраста поступок более чем странный.
– Вряд ли, – сказал на это директор. – Но как бы там ни было, вы должны остерегаться. Мы дали задание лесникам поискать по тропам. Вы идёте с Архызом?
– Да, беру с собой.
– Ну и отлично! Желаю лёгкой дороги.
Об этом разговоре Саша матери не сказал. Он и сам не очень верил, что «Сто тринадцать медведей» способен перейти на положение бродяги. Не тот человек.
Сопутствуемый добрыми пожеланиями матери, Александр Егорович с полной экипировкой ушёл в горы.
2
Виталий Капустин несколько дней метался между Адлером и Жёлтой Поляной.
Он обошёл всех руководителей района, упрашивал, доказывал, вызывал жалость или сострадание. По три-четыре раза связывался с Москвой, Ленинградом, обзванивал друзей, знакомых, все ещё надеясь на покровительство свыше, хотя его непосредственный начальник Пахтан в глубоком раздражении вскоре уехал из города, считая, не без основания, что отпуск у него испорчен. Но, думал Капустин, если этот бросил его в бедственном положении, потому что видел преступление своими глазами, то другие, находясь вдалеке и под впечатлением его жалостливых рассказов, могут и помочь.
Он не ошибся.
Двое влиятельных знакомых уже звонили в Адлер и просили если не освободить от наказания, то хотя бы позволить Капустину выехать до суда в Москву. Почва для снисхождения была таким образом готова, а вскоре позвонил заместитель Пахтана по науке и сказал, уже официально, что он лично просил старшего специалиста отстрелять одного оленя для осмотра и определения, чем питается животное в период осеннего гона. Он готов, добавил научный руководитель, прислать задним числом написанную лицензию.
В прокуратуре пожали плечами и сочли возможным до суда не задерживать больше Капустина в заповеднике. И сам суд над ним стал некоей проблемой. Все вроде произошло законно.
Получив разрешение на выезд, старший специалист впервые за беспокойную неделю вздохнул с облегчением и начал замечать обыкновенную жизнь вокруг себя. У него оказалось свободное время и тогда он вспомнил о сыне.
Явившись в дом к Никитиным, отец прослезился. Но Ирину Владимировну он слезами не разжалобил, она встретила его насторожённым, суровым взглядом. Она имела право на осуждение. Сколько времени крутится в Поляне и вокруг посёлка, а не нашёл пяти минут, чтобы заглянуть или хотя бы спросить о сыне. Такое женщины не прощают.
Саша-маленький лишь в первую минуту заинтересовался новым для него человеком, да и то с опаской. Он поглядывал на Капустина, на суровое лицо бабушки и старался не отходить от неё. За два года он забыл отца, и теперь требовались не напоминания, не слова, а особая душевная чуткость, чистота помыслов, чтобы вновь расположить к себе маленького человечка и сказать ему, что он его отец. Увы, ни того, ни другого у Капустина не обнаружилось, Саша заскучал и ушёл в другую комнату. Пусть этот дядя посидит и поговорит с бабушкой, если уж ему так этого хочется.
Разговор состоялся. Ирина Владимировна сказала:
– Садитесь. Что вас привело сюда?
Капустин сразу обиделся:
– Разве можно так спрашивать – что привело? К сыну, конечно. Как он поживает, здоров ли? Может, чего надо ему?
– Вы могли узнать об этом две недели назад, когда приехали.
– Был очень занят, ни секунды свободной. Верите ли…
– Верю. А теперь вы не очень заняты?
Он вздохнул и отвёл взгляд.
– Теперь я никто. Безработный, Ирина Владимировна. Мало того, ещё и под следствием. Вот так повернулась жизнь. Все придётся начинать сначала. Как после землетрясения.
Она уже знала подробности, поэтому не удивилась его словам, жёстко сказала:
– Вероятно, вас возьмут на прежнюю работу, если обратитесь к директору турбазы.
– Что?! – Он непритворно удивился. – Какая турбаза?
– Я говорю, что на здешней турбазе всегда есть вакансии инструктора. Если начинать сначала – идите туда, где в своё время работали.
Он засмеялся.
– Только и остаётся! Нет, дорогая Ирина Владимировна, я не пойду на турбазу. Опыт у меня есть, знания, сила, – слава богу. Лишь кончится эта глупая история с судом и следствием… Вы ещё услышите о Виталии Капустине!
Она промолчала. Как ошиблась в нем Танюша! Ведь был такой честный, открытый парень, никто и подумать не смел, что заложены в нем – или привились очень скоро? – такие черты, как себялюбие и карьеризм. Даже теперь, получив удар, способный потрясти любого другого, он ничего не понял и готов начинать все сначала, но в том же духе. Она совсем не удивлена, что Таня разлюбила своего мужа. Вероятно, не раз пыталась исправить в нем плохое. Ирина Владимировна помнит Танины письма с горькой иронией в адрес «запутавшегося». И вот теперь он сам перед ней. Снова запутавшийся. Стоило зайти разговору о личных делах, как у гостя враз просохли глаза, исчезла наигранная душевность, и он уже забыл, зачем пришёл.
– Вчера вечером меня освободили наконец от глупой подписки о невыезде. Был звонок… Словом, неприятность бесследно уплывает, завтра я лечу в Москву и там уж нажму на все педали. Так что местная турбаза не вызывает у меня особой радости, есть работа посерьёзней и получше. – Он вдруг осёкся, его самоуверенный взгляд остановился на беспечно играющем сыне, которого он увидел за стеклянной дверью. Лицо Капустина обмякло. – Совсем забыл отца, совсем, – сказал он, вздохнув от жалости к себе.
– Вернее сказать, совсем забыли вы своего сына, – поправила Ирина Владимировна.
– Если бы вы знали! – вдруг воскликнул он. – Сколько раз просил я Таню, как убеждал, что нельзя разрушать семью!..
– А, бросьте вы! – с грубоватой простотой сказала Никитина. – Семья разрушается, когда нет любви, и тут уж никакие уговоры… Давайте оставим эту тему. Хотите напомнить о себе Саше? Я не против, только, пожалуйста, без сентиментов. Он спокоен и счастлив, а сердце ребёнка легко ранимо.
Повинуясь приказу бабушки, Саша-маленький подошёл к ней и очень серьёзно, исподлобья уставился на Капустина.
– Сашенька, подойди ко мне! – Капустин протянул обе руки.
Саша глубже втиснулся между колен бабушки.
– Ну, иди же, я обниму тебя, – повторил Капустин с едва скрываемой обидой. – Ты что, не хочешь?
– Уходи, – сказал вдруг Саша и упрямо выпятил губы.
– Ты на кого это? На своего папу?
– Уходи, – ещё раз сказал мальчик. Губы его дрогнули. Сейчас заплачет.
Капустин выпрямился на стуле.
– Ну и настроили вы его! Ладно, когда это делает Татьяна… А вы-то, старый человек!..
Ирина Владимировна поднялась, обняла внука, прошла в другую комнату и оставила его там, плотно закрыв дверь.
– Вы не отец ему, Виталий, – горько сказала она. – Все отцовское у вас исчезло. Ни одного тёплого слова. Вы даже конфетку не взяли для Саши. Мальчик забыл вас, понимаете, забыл. И не стоило вам заходить. Я ругаю себя, что позволила вам увидеть его. Знаете, лучше, если вы… прошу вас.
– Да, при таком воспитании… – Он встал, схватил шляпу.
– Воспитание не ваша забота.
– А что же моя забота? Деньги присылать?
– Об этом, вероятно, позаботится суд. Теперь я нисколько не удивляюсь вашей жестокости в лесу. Что там олень!.. Уходите и забудьте наш дом.
Капустин ничего не ответил, только сощурился.
Хлопнула дверь. Так же подчёркнуто громко хлопнула калитка. Ушёл!
Ирина Владимировна глубоко вздохнула и провела ладонями по лицу. Слава богу!
В соседней комнате было очень тихо. Она подошла к двери, через стекло увидела Сашу. Напряжённо вытянувшись, он стоял на стуле, смотрел в окно на удаляющегося отца, и глаза его были полны совсем не детских слез…
Бабушка тихонько вошла, прямо со стула взяла его на руки и, крепко прижав к себе, села.
Так они сидели молча и пять и десять минут, покачиваясь взад-вперёд, горячее тело мальчика доверчиво обмякло в бабушкиных руках; лица его, приникшего к плечу, она не видела, но по спокойному дыханию поняла, что все прошло, глаза высохли. И тогда, слегка повернув его к себе, она сказала:
– Пойдём кушать, а? Сперва сорвём молодой огурчик на огороде, потом вынем из духовки сковородку с картошкой…
Он живо спустился на пол и пошёл впереди.
Только когда шли с огорода, вдруг спросил:
– А скоро мама приедет?
– Теперь недолго ждать, Саша. Скоро.
Вечером Борис Васильевич зашёл к Никитиной и тихонько, чтобы не слышал Саша, сказал, что Капустин улетел в Москву. Добился своего. И ещё сказал, что директор заповедника хочет предложить Молчанову Южный отдел. Так что…
– Скорей бы Татьяна приезжала, – вздохнула Ирина Владимировна. – Вдруг раздумает?
– Этого не может быть.
3
Скрадывая путь, Александр Егорович начал подъем к субальпийским лугам не по обычной своей тропе, а нашёл правее и чуть дальше от границы заповедника звериную тропу и пошёл по ней, надеясь выйти прямо на опытные делянки ботаника, в палатке которого намеревался переночевать.
На северных склонах осень была в разгаре, и чем выше, тем красочней и безжалостней расцветила она лес. Берёзы, ясени, клёны постепенно оголялись, и было как-то очень грустно видеть сквозь их поредевшие кроны с чёрными ветками высокое голубое небо.
Горный лес готовился к зиме.
При малейшем порыве ветра сверху беззвучно и невесело плотными зарядами сыпались жёлтые, белесые, коричневые, красные листья. Они падали и при безветрии то редко, то гуще, и в этой беззвучной листвяной метели было тоже прощание с летом.
Не летали птицы, не слышалось цоканье белок, лишь изредка где-то очень далеко возникал печально-зовущий крик рогача и тихо таял в светлом солнечном воздухе.
Александр Егорович прибавил шагу.
Архыз больше часа назад умчался и не показывался на глаза, соскучившись по свободе. Теперь ему некого искать в лесу. От сознания непоправимых потерь делалось грустно.
В пихтовом редколесье, где под деревьями слитно стоял побуревший папоротник, сразу потемнело. Высокие, мрачные пихты закрывали небо. Ни осень, ни зима не меняли их суровой черно-зеленой окраски, они олицетворяли собой вечность.
Здесь Молчанов увидел, как по едва заметной тропе сверху катился Архыз. Похоже, он уже побывал у ботаника и теперь бежал к хозяину, чтобы поторопить. Вид у него был усталый, язык вывалился, в шерсти закатались цепкие семянки репья. Он обежал Молчанова, но не пристроился у ноги, а почему-то тут же ушёл вперёд, остановился шагах в двадцати и оглянулся: требовал внимания.
На тропе, наверное метрах в семидесяти, хорошо видный на фоне белесого травяного пятна боком к Молчанову стоял крупный медведь.
Александр Егорович мгновенно сдвинул карабин поудобнее, палец его застыл на предохранителе. В ту же секунду он понял, кто перед ним, удивился и обрадовался до того, что рассмеялся.
– Лобик, да ведь это ты!..
Кто же ещё так бесстрашно мог позировать перед человеком в пределах досягаемости ружья? И разве есть ещё хоть один медведь, который не побоится собаки и запаха пороха?
Молчанов стоял и вглядывался. Одноухий тоже не менял позы выжидания. Архыз тем временем лёг и посматривал то на хозяина, то на медведя, словно подчёркивал, что свою роль он выполнил и теперь дело за ними, за старыми друзьями.
Александр Егорович снял ружьё, положил на землю, скинул рюкзак, покопался в нем. С ладонями, полными сахара, он пошёл к Одноухому, вытянув вперёд руки. Удастся или нет?!
Не прошёл он и десяти шагов, как Лобик сдвинулся с места и тоже отступил шагов на двадцать, там снова остановился, смотрел исподлобья, как-то очень сумрачно и дико. Белые кусочки полетели навстречу ему, упали на листву. Он проводил взглядом знакомые сладости, но не тронулся с места. Тогда Молчанов сел, прислонившись спиной к дереву. И опять – никакого результата.
– Архыз, ступай к нему. Иди, иди… – приказал Молчанов.
Овчар вскочил, побежал, но в тридцати метрах от Лобика остановился, видно поняв, что ближе нельзя.
– Ну тогда я. – Александр Егорович смело шагнул к медведю.
Одноухий склонил морду, качнулся и неторопливо сошёл с тропы. Ещё раз оглянулся, ещё – и скрылся в густом папоротнике среди пихт.
Мало сказать, что Человек и собака были разочарованы. Они стояли на тропе с видом очень унылым. Все переменилось. Нет у них больше друга-медведя. История с пленением сделала его окончательно чужим, недоверчивым. Он пошёл за овчаром, когда тот обнаружил его. Даже решился показаться человеку. Но на большее не рискнул. Тем более, что совсем недавно…
Молчанов ещё не знал последнего действия драмы.
Тогда освобождённый из клетки Лобик проводил Молчанова за реку, увидел костёр, его ночлег и, оставаясь незамеченным, удалился в глубь лесных гор, где его родина. Зверь нуждался в покое и сильной пище.
Под утро Лобик без особых хлопот разыскал и задавил одичавшую свинку, видно ушедшую из совхозного посёлка, и обильно позавтракал. После этого он неторопливо заковылял в гору и окончательно пропал в джунглях. Ходил мало, больше спал. Вокруг него – в каштаннике и буковом лесу – валялось сколько угодно орешков и плодов, первые дни свободы походили на сплошной пир. Лишь через несколько дней, почувствовав прежнюю силу в мышцах и остроту взгляда, Лобик, вдруг что-то вспомнив, повернул назад и за одну ночь безбоязненно обследовал место своего пленения. Слабый запах от бережновского окурка привёл его в неописуемую ярость. С глазами, налитыми кровью, прошёл он по ненавистному следу чуть не до семеновского кордона, залёг там и не ушёл, пока не убедился, что его врага здесь нет. Жажда мести поостыла, но не прошла, и Лобик покинул южные леса.
Кривые промысловые тропы увели его из заповедника на запад, вскоре он очутился в окрестностях Шезмая, обошёл поверху Гуамское ущелье и дней шесть бродил вокруг посёлка, не гнушаясь нападать на овец и свиней, вольно разгуливающих по лесу за огородами. В его настойчивости угадывалось все то же желание мести.
И час пришёл.
Как мы уже знаем, дядя Алёха махнул рукой на правосудие и ударился в лес, чтобы у себя дома успокоиться от всех переживаний, выпавших на браконьерскую долю. Теперь он не верил даже начальству с их лицензиями и высокими словами. Пропади оно все пропадом! Ещё не хватало на шестом десятке лет очутиться в тюрьме!
Но ружьё он взять с собой не забыл, благо его в суматохе оставили у Коротыча в кабинете. Зашёл, когда никого не было, и взял. Как же в лесу без ружья?
Он не торопился, делал привал три раза в сутки, пил чай у костров, ел пряники, купленные на те самые деньги, что заработал на сто четырнадцатом медведе, шёл домой без спешки и с приятностью, постепенно забывая о своих не очень весёлых поступках. Уже далеко за перевалом, подавшись западнее, он очутился вне заповедника в знакомом-перезнакомом лесу. Здесь на дядю Алёху нарвалась стайка косуль. Он не утерпел и пальнул, свежего мясца захотелось.
В ясном осеннем воздухе звук выстрела разнёсся километров на шесть. Люди его не услышали, а вот медведь услышал. Но не испугался, не бросился наутёк. Напротив, соблюдая крайнюю осмотрительность, пошёл на выстрел и вскоре догадался, кто сидит у костра и варит мясо.
О, как загорелись глаза Одноухого! Как поднялась шерсть на загривке! Как страшен сделался он, сытый, огромный медведь, уже одержимый ненавистью к человеку.
В последний свой вечер дядя Алёха попировал у костра, даже впрок мясца заготовил, нарезав его лентами и провялив над костром. Уснул он поздно, спал безмятежно и не знал, кто бродит рядом. Одноухий караулил своего врага, но близко не подошёл – боялся огня. Лишь когда утром Бережной погасил угли и, забросив ружьё на плечо, пошёл по лесу к дому, медведь обежал его стороной и забрался на камень, мимо которого дядя Алёха никак не мог не пройти. Улёгся и стал ждать.
Бережной приближался. Узкая тропа огибала камень. Этот камень был столообразный. Крутой и невысокий, всего метра три, он густо порос наверху чёрным можжевельником. Одноухий лежал под кустом, выставив нос. Он увидел своего врага издали, подобрался. Ни запах ружья, ни страх перед человеком уже не могли остановить его – жажда мести стёрла все другие чувства.
Он бросился, просто упал сверху, лишь только Бережной миновал его, упал со спины, так что в глаза свою смерть убийца ста тринадцати медведей не видел. Он вообще ничего не видел, кроме внезапной черноты в глазах…
На пятый день после этого Лобик встретил Архыза. Хотел уйти незамеченным, даже припугнул овчара и побежал от него, но Архыз словно приклеился и заставил вспомнить прошлое, буквально вынудив медведя – теперь не просто дикого, а медведя-убийцу – свернуть на тропу, по которой шёл его друг – Человек.
Увы, прошлое не вернулось и не одолело. Слишком свежей была последняя история. Лобик подавил в себе страх, отважился показаться – только показаться, не больше! – чтобы затем уйти уже навсегда с глаз людских. Люди, которых пришлось ему встретить, все-таки сделали медведю больше зла, чем добра: Так он считал. Так записал в своей ёмкой памяти.
Как настоящий дикий зверь он заплатил за зло ещё большим злом, его сознание помутилось настолько, что не видел он больше вокруг себя друзей. Только врагов.
А с врагами Одноухий теперь умел справляться.
Ничего не зная о страшной судьбе Бережного, Александр Егорович почувствовал, как встреча с Лобиком изменила его настроение. Все пошло прахом. Так чувствуешь себя, когда разуверишься в товарище, потеряешь близкого, ощутишь себя жертвой обмана или коварства.
Замкнувшийся, несколько раздражённый, явился он в палатку ботаника, переночевал, удивив коллегу своей неразговорчивостью и даже какой-то холодностью тона. Утром, осмотрев делянки, он ушёл, хотя они раньше договаривались побыть вместе два-три дня.
И Архыз, глядя на хозяина, заскучал, уже не бегал, не искал, наверно догадавшись, что искать в лесу ему некого и нечего.
Через сутки Александр Егорович спустился с гор к семеновскому кордону.
Пётр Маркович пожал Молчанову руку, спросил:
– Может, в тот дворец ночевать пойдёшь? Пустой стоит.
– Не пойду, – мрачно ответил гость. – Если можно, у тебя останусь.
– Отчего же не можно? Оставайся, потолкуем. Правда, ты чтой-то сегодня невесёлый, устал или неприятности какие? А у меня новости для тебя имеются, Александр Егорович.
– Давай делись, я четыре дня в горах, поотстал в новостях.
– Ну, перво-наперво о твоей пропавшей одёже. Тут все выяснилось, один из уволенных лесников перед уходом сказал все-таки. Бережной её украл, одёжу-то. Для приманки. И вроде удалось ему, пошёл твой медведь на приманку, словили они его. В клетку, понимаешь, одёжу положили, он и пошёл. Вот какая коварная хитрость у человека!
– Знаю. Нашёл я клочки на том самом месте, догадался.
– Клочки?
– Лобик порвал куртку и плащ, когда попался. Зверь воспринял это так, словно я заманил его в клетку. И всю ненависть, всю злобу свою сорвал на одежде – значит, на мне, на виновнике пленения.
– Ну и Алёха, царство ему небесное…
– Он что? Помер? – Молчанов даже побледнел.
– Нашли в лесу. Едва узнали, так его разделали.
– Кто?
– Может, рысь. А может, и медведь, – уклончиво ответил Семёнов. – Недалеко от Шезмая лежал, под хворостом упрятанный. Плохо кончил. С таким грехом в лес подался! Судьба, что ли, распорядилась?..
Молчанов чай отодвинул, ещё более посерьёзнел. Вон как трагически повернулась история! Неужели Лобик?.. Стала понятной отчуждённость Одноухого, его враждебная недоверчивость. Из друга он превратился в опаснейшего для людей зверя. Ведь если встретит кого другого, трудно сказать, чем кончится такая встреча. Нет. Нет! Не верится! Одноухий показался на глаза не для того, чтобы угрожать. Нет. Это было его последнее «прости».
– А ведь я встретил Лобика, – сказал Молчанов.
– В лесу? – Семёнов не мог скрыть своей тревоги.
– Близко не подпустил ни меня, ни Архыза. Постоял, поглядел и ушёл. Совсем не похож на прежнего Лобика. Чужой.
– Да-а… – раздумчиво произнёс лесник. – Вот такие дела-то. Обидели зверя, он и… Ты чего не пьёшь чай-то? Подлить горячего? Чудеса! Убег тот Лобик из-под носа у лесничества. Не без понятия зверь!
Александр Егорович промолчал. Разве мог он подумать в ту ночь…
Перед сном Молчанов вышел из дому, сел на лавку у дверей. Под ноги подкатился Архыз. Влажная иссиня-чёрная ночь висела над лесом. Мелкие звезды кучно высыпали на чёрном небе. Едва виднелись контуры вершин, ограничивающих горизонт. Улёгся дневной ветер, было тепло, пряный дух волнами накатывался из джунглей, убаюканных ночью. На южном склоне осень ощущалась слабо; буйная зелень властно укрывала горы.
Он вспомнил, что в школе у Бориса Васильевича начались занятия. Значит, и Таня… Боже, как мог он запамятовать! Ведь она приехала, она здесь, дома!
Молчанов поднялся и вошёл в дом.
– Петро Маркович, – сказал он решительно и быстро. – Ты извини меня, но я должен идти, прямо сейчас.
– Смотри-ка, ведь десять часов. И темень – глаз выколи.
– Фонарь дашь мне?
– Фонарь можно. Тогда так решим: я провожу тебя. И не отговаривай, тут до гравийки ты дорогу плохо знаешь, а там уж пойдёшь сам.
Через десять минут жёлтый свет «летучей мыши» покачивался над дорогой из кордона, освещая небольшой кружок, ноги людей и фигуру собаки, бредущей позади, устало свесив голову.
В первом часу ночи Молчанов постучался к Борису Васильевичу. Тот выглянул в окно, сонно сказал «сейчас», и через минуту Александр Егорович пожимал ему руку.
– Мы ждали тебя раньше, друг мой, – сказал учитель.
– Мы?!
– Именно мы – Таня и я.
– Значит, приехала?!
– Она обязательный человек, Саша. Уже несколько занятий провела.
– Совсем приехала?
– Знаешь, в этом ты разберёшься, когда встретишь её. А сейчас раздевайся. Пожалуйста, не стой передо мной этаким столбом.
– Я, пожалуй, пойду…
– Свидание в час ночи?.. Совсем не думаешь, что говоришь. Раздевайся, а я достану тебе постель и согрею чай. Будь умненьким, Саша, и помни; утро вечера всегда мудрёней.
И за коротким чаем, и в постели, когда все стихло в доме, Александр робко и непрестанно улыбался. Лежал, руки за голову, смотрел в потолок и улыбался. Какой там сон! Думал, ни за что не уснёт, а не заметил, как сморило, и вдруг почувствовал, что его уже тормошат. Открыл глаза, в комнате – предрассветная синь, Борис Васильевич рядом.
– Вставай, шесть скоро. Пока то да се… Ну-ка, по-военному!
4
Он знал, по какой дороге ходит в школу Таня. Ещё когда учились, не один раз поджидал её, чтобы идти вместе и в школу и из школы. Вряд ли она изменила традиции, тем более что это самая короткая дорога, мимо столовой, направо, мимо парка и магазина, и ещё вниз, к реке, два квартала по узкой улице, заросшей спорышем и подорожником.
Шёл, улыбался, и кто встречался – оглядывались на него: смотри, какой радостный человек! Ни о чем другом не думал, только о Тане, даже загадал, в каком она платье сегодня: в сером, строгом. И белый воротничок. И белые кружевные манжеты. Есть у неё такое, видел.
Таня выбежала из-за поворота у самого парка. Он угадал: она была в сером, строгом платье. С чёрным портфелем в руке. Выбежала, увидела Молчанова в семи шагах, с ходу остановилась, почему-то перехватив портфель обеими руками. А он шёл навстречу, и лицо, глаза, губы – все у него светилось радостью, и слова: «Ну, здравствуй!» – он тоже сказал радостно, светло и просто, словно и не было трудных годов и расставания, словно опять они ученики десятого, и сейчас он повернёт за ней, и пойдут они неторопливо, размахивая портфелями, потому что до первого урока ещё двенадцать минут.
Губы у неё дрогнули. Как тогда, в аэропорту, прислонилась она головой к его плечу, к щеке, и мягкие волосы скользнули по Сашиному лицу. Но это – мгновение. Таня отшатнулась, посмотрела в глаза и быстро поцеловала. Он хотел обнять её, она вдруг покраснела, отодвинулась и скользнула взглядом в сторону.
– Здравствуй, – сказала она, сунула ему портфель, повернулась, и они пошли к школе совсем так же, как много лет назад.
– Рассказывай, – попросил он.
– О чем?
– Ну как здоровье, самочувствие, как живётся…
– Ах, Саша, Саша! Разве я могу сейчас? Я так давно не видела тебя!
– Вот и рассказывай. А хочешь – я…

– Будем идти, молчать и я буду потихоньку смотреть на тебя. Ты прямо из леса?
– Ночью пришёл. Не дал спать Борису Васильевичу. Как Саша-маленький?
– Он так обрадовался, когда я приехала! Прыгал, прыгал, а потом весь день ходил, держась за юбку. Он подрос, возмужал. Да, совсем забыла: это правда, что ты остаёшься в Поляне?
– Правда.
– Отлично! Пропуск в заповедник для моих учеников всегда обеспечен!
– Ты какие классы ведёшь?
– Старшие, Саша. Биология. Ты где остановился? И когда Елена Кузьминична приедет?
– Как только соберётся… Значит, с Ленинградом все?
– Тысяча вопросов. Нет, Саша, так не годится. Помолчим. Иначе я приду в класс и начну рассказывать не о Дарвине и Ламарке, а о Молчанове, и тогда случится конфуз, и Борис Васильевич на педсовете скажет в мой адрес какие-нибудь страшные слова.
– Сколько у тебя уроков?
– Три.
– Значит, ты освободишься…
– В половине первого.
– Я буду ждать. Вот здесь.
– Ладно. И пойдём к нам обедать.
Они подошли к школе. Во дворе шумела детвора, бухал мяч, – все, как бывало и при них.
– Пока! – Таня подняла ладошку. – Архыза не забудь, Саша ждёт его не дождётся.
И он поднял руку, отсалютовал, пошёл в сторону своего отдела, где начальника ждали серьёзные дела и разговоры, не располагающие к улыбкам. Но он ещё долго шёл с радостным, сияющим лицом и никак не мог стереть простую доброту с лица.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































