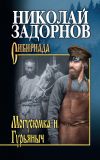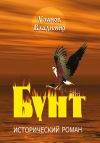Текст книги "Емельян Пугачев. Книга 1"
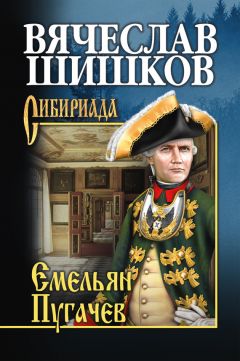
Автор книги: Вячеслав Шишков
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 25 (всего у книги 53 страниц)
Да, да. Ночь. Надо действовать, действовать немедленно! Мысль Мировича горит. Он таращит в полумрак безумные глаза: там, возле изразцовой печки – огненный трон, на троне – юный Иоанн и перед ним на коленях он, Василий Мирович, подающий на серебряном подносе Иоанну корону, державу, скипетр…
Пробило час ночи. Мирович в полутьме разделся и лег спать.
Заскрипела дверь, вошел фурьер Лебедев, объявил, что комендант приказал, не тревожа Мировича, пропустить из крепости гребцов. В половине второго снова явился тот же фурьер – комендант приказал пропустить в крепость канцеляриста и гребцов. А чрез несколько минут опять приказ – пропустить из крепости гребцов обратно.
– Баста! – фатальным голосом выкрикнул Мирович. – Прочь, раздумье! Больше ни минуты. Слава так слава, а коли смерть так смерть. – Он схватил мундир, шарф, шпагу, шляпу и, одеваясь на ходу, побежал из кордегардии в солдатскую караульную. – К р-ружью! – заорал он что есть силы.
Быстро собравшаяся команда в тридцать семь штыков построилась на дворе крепости во фронт.
– Забить в ружья пули! – громко приказал Мирович.
Солдаты с шумом, с бряком стали заряжать ружья.
На крыльцо выскочил в одном халате комендант и злобно спросил Мировича:
– Что случилось? По чьему приказу?
Мирович кинулся к нему, с маху ударил его в лоб прикладом и, крикнув:
– Мерзавец! Невинного государя держишь здесь! – приказал его арестовать.
Третий час ночи. Светло. Прохладно. Чрез башни, чрез гранитные стены, чрез крыши казематов с Ладожского озера наплывал густой туман. Он вдруг заполнил все пространство белой мутью: пропали крепостные стены, очертания дома коменданта, пропали шеренги солдат, исчезло небо. Люди пришли в смятение.
Кой-как перестроив команду в три шеренги, Мирович сквозь туман кинулся наобум с солдатами к каземату № 1.
– Стой! Кто идет? – окликнул караульный.
– Идем к государю! – громко ответил Мирович.
Тогда от каземата пыхнули мутные огни, прогремел из шестнадцати ружей недружный залп. Но туман густ и бел, как молоко: каземат и все кругом скрылось, как в волшебной сказке. Мирович скомандовал:
– Огонь!.. Всем фронтом – пли! – затрещали выстрелы по направлению к пропавшему в тумане каземату.
Дав залп, солдаты стали в страхе разбегаться, пошел ропот.
– Стой! – раздался из тумана голос Мировича. – Слушай манифест! – и, выхватив бумагу, Мирович быстро стал читать собравшимся солдатам. А затем закричал гарнизонной команде, что у каземата: – Ребята, не палить! Изменники…
Туман ответил:
– Сами изменники! Палить будем, – и снова ударил из тумана в туман слепой безвредный залп.
– Пушку, пушку сюда!.. Вот я вас пушкой… – стал застращивать невидимый в тумане Мирович. – Солдаты, на бастион! – Солдаты, плутая в белых облаках тумана, потащились за пушкой, Мирович – в комендантский дом за ключами от порохового склада, на ходу встречным часовым кричал: – Ни в крепость, ни из крепости никого не впускать, не выпускать! Кто прорвется – стрелять!
С трудом притащили пушку, засыпали пороху, стали забивать ядро. Мирович послал к гарнизонной команде своего сержанта с приказом, чтоб сдавались, чтоб выслали к Мировичу офицеров Власьева и Чекина, иначе «его благородие» немедля учинит пальбу из пушек.
Сквозь туман громкий ответ:
– Конец пальбе! И вы не смейте бить по нам из пушек.
Тогда обрадованный Мирович бросился со своими солдатами к каземату и, наткнувшись на Чекина, потащил его в сени:
– Говори, где государь?
– У нас государыня, а не государь.
Мирович ударил его по затылку и, потрясая ружьем, сумасшедше заорал:
– Отпирай двери! Заколю! – и направил на него штык.
Чекин, зябко передернув плечами, без сопротивления отпер дверь.
Мирович с солдатами по семи каменным ступенькам вбежали в темный каземат.
– Огня!
Затрещал-заплевался смольевой факел, тьма заклубилась дымом, туманом, неверным колеблющимся светом. На каменных плитах в луже крови валялся недвижимый Иоанн. Проткнуты шпагой левый бок, грудь и ранена шея. Пальцы скрючены, рот полуоткрыт, большие полутемные глаза удивленно смотрят в каменные своды.
Мирович и солдаты содрогнулись.
Двое убийц – Чекин и Власьев, бледные, взволнованные, стояли в стороне. Мирович опустился на колени перед трупом, поцеловал Иоанну руку.
Мертвеца суетливо, с шепотом, со вздохами положили на кровать, прикрыли красной епанчой, отнесли к фронтовому месту.
Туман рассеялся. Восток в заре. Светло, как днем.
Мирович приказал бить утренний побудок, а команде взять «на караул». Страшно забили барабаны. У солдат прошел по спине мороз. Мирович, отдавая воинские почести почившему, салютовал шпагой. Затем, потеряв самообладание, весь похолодевший, отрешенный от жизни, он приблизился к праху, вновь поцеловал руку Иоанну и сказал солдатам:
– Братцы! Други! Вот наш государь… Теперь мы не столь счастливы, как бессчастны. А всех больше за то я претерплю. Вы не виноваты. Я за вас буду ответствовать, и все мучения на себе снесу. – По щекам Мировича катились слезы. Он стал обходить шеренги, обнимать каждого солдата, благодарить и целовать.
Вдруг на него сзади бросился капрал: «А ну-ка, барин!» – и с помощью пришедших в себя солдат снял с него шпагу. Явился освобожденный солдатами комендант. Он сорвал с Мировича офицерский знак. Мирович и его солдаты арестованы, крепость заперта. Никите Панину срочно строчится донесение.
Итак, умыслив спасти Иоанна, Екатерину же лишить престола, Мирович Иоанна погубил, а спас Екатерину: отныне ничто не угрожает ее трону, шлиссельбургский узник мертв.
Об этой шлиссельбургской «диве» она узнала лишь четыре дня спустя, утром 9 июля, тотчас по приезде в Ригу.
Она всплеснула руками, прослезилась и воскликнула:
– Руководствие божие чудное и несказуемое есть!
Из Петербурга скакали в Ригу курьер за курьером. Екатерина писала по-французски Панину: «Провидение оказало мне очевидный знак своей милости, придав такой конец этому предприятию…» И далее, по-русски: «Я ныне более спешю как прежде возвратиться в Петербург, дабы сие дело скорея окончить и тем далных дуратских разглашений пресечь».
Она вернулась в столицу лишь в конце июля, а 17 августа был опубликован «во всенародное известие» манифест о «приневоленном» убийстве Иоанна.
Верховный суд, разобравший дело в скорый срок, 9 сентября подписал сентенцию приговора: «Отсечь Мировичу голову и, оставя его тело народу на позорище до вечера, сжечь оное потом вкупе с эшафотом, на котором та смертная казнь учинена будет».
5Поутру, 15 сентября, на Петербургском острове, на Обжорном рынке состоялась казнь Мировича.
Народу собралось очень много. Все свободные места, свайный мост, крыши домов, заборы, деревья были усеяны народом.
Мясник Хряпов со своим приятелем, бывшим придворным лакеем Митричем (ныне уволенным за пьянство), стояли в обнимку на узкой скамейке, принесенной за пятак из соседнего дома дворником.
Эшафот с палачом окружен солдатами и густым кольцом зевак. Все, вытянув шеи, ждут. Гул, говор, шум. В толпищах разговоры:
– Помилуют, помяни мое слово, помилуют… Мирович ни при чем тут, не он убил.
– Как не он! В сентенции ясно пропечатано: «Сего несчастного принца убийцом должно признать Мировича». На, читай.
– Ой, Митрич, Митрич, – сказал Хряпов лакею. – И пошто мы на этакое позорище пришли!
– Дабы милость государыни своими очами зреть.
– Милость? Ха! Дождешься.
– Да уж поверь. Уж мне ли не знать. Весь век при дворе проторчал. Да и кавалерия також-де думает. Мне знакомый полковничишка сказывал: Мировичу будет дарована жизнь.
Почти по всей людской громаде была крепкая уверенность, что Мировича помилуют. Так же думал и стоявший в своей роте унтер-офицер Преображенского полка Г.Р. Державин.
– Давай об заклад, – не изменяя застывшей позы и держа у ноги ружье, шептал он своему соседу. – Всемилостивейшая помилует. Да и граф Алексей Григорьич Орлов так изволил говорить намедни.
– Гляди, гляди, сентенцию читать закончили, – в ответ ему шептал сосед-преображенец. – Барабаны бьют, палач подходит…
– Хоть сто палачей! – под бой барабанов уверенно сказал Державин, потряхивая пудреными буклями, свисавшими из-под голубой шляпы. – Помнишь, как с Хрущевым в Москве: положили голову на плаху для видимости, и больше ничего. Тако и с Мировичем…
Но вот сверкнул топор, лакей Митрич отвернулся, защурился, Хряпов от волнения оборвался со скамейки, – топор сверкнул, народ тысячегрудо во всю мочь ахнул, «отпетая» голова Мировича в руке палача высоко приподнялась над эшафотом. Люди обмерли, попадали с крыш, с заборов, стоявшая на мосту толпа с такой силой содрогнулась, что мост заколебался, затрещал.
Итак, «сей дешператной и безрассудной coup»[34]34
Прискорбный и безрассудный удар, казус.
[Закрыть], как выразилась Екатерина, начался и закончился кровью.
Прямые убийцы Иоанна – офицеры Власьев и Чекин, вместо справедливой кары, получили по семь тысяч награды, большие чины и хорошую службу. Им приказано соблюдать о всем этом деле строжайшее молчание. Цепь печальных событий казалась большинству естественной, ставящей Екатерину вне всяких подозрений. Но эта несносная «городская эха», не щадя Екатерину, стала судить и рядить по-своему. Получалось, что вся шлиссельбургская «нелепа» была искусно подстроена.
Однако то была одна лишь догадка, ни один человек в то время не знал ни секретных бумаг, ни тайных изустных приказов, ни сокровенных пружин, пущенных в дело укрепления власти.
Но ныне, пред судом истории, все налицо. И старые дворцовые ребусы могут быть правдоподобно разгаданы.
Чтобы успокоить мятущийся дух Екатерины, Никита Панин, со всей присущей ему деликатностью, как-то сказал ей:
– Не печалуйтесь, государыня. Божие провидение изыскало мудрый способ избавить любезное вашему материнскому сердцу отечество от величайших потрясений. Воцарение, боже упаси, слабоумного, неподготовленного к управлению столь обширным государством принца Иоанна было бы чревато грозными последствиями.
– Да, добрый Никита Иваныч, – опустив голову, с неподдельным сокрушением ответила Екатерина, – мы с вами действовали, руководствуясь промыслом божиим и теми же самыми мотивами, по которым действовал и великий Петр, не пощадивший даже своего родного сына.
– Да будет среди народов благословенно имя ваше, великая государыня.
Они оба вздохнули.
Глава III
Ломоносов
У малолетнего цесаревича гости
Жестокая филиппика
1От места казни первой отъехала карета графа А.С. Строганова. Граф спешил в Зимний дворец к наследнику.
На своей двуколке поплелся к себе и Митрич, живущий теперь на Седьмой линии Васильевского острова. Рядом с ним – хмурый мясник Хряпов. Долго ехали молча. Всенародное позорище[35]35
«Позорище» – употреблялось тогда в смысле «зрелище». – В.Ш.
[Закрыть] отняло у обоих языки.
Они ехали правым берегом Невы мимо наплавного моста, соединявшего Васильевский остров с городом против Исаакиевской церкви. В Петербурге считалось шестьдесят две тысячи жителей, наиболее населена левобережная часть города, а Петербургская и Выборгская стороны заметно пустовали. На Васильевском острове застроены набережная и Галерная гавань, восточная же и западная части острова – кочковатое болото, поросшее лесом и кустарником. Здесь в ночное время нередки грабежи.
– И пошто ты в такое неудобное место затесался? – спросил Хряпов, осматриваясь по сторонам.
– Жизнь повернулась ко мне хвостом, вот и… – плаксиво ответил Митрич. – Сам ведаешь, уволили меня.
– А мои дела, Митрич, тоже не веселят, – сказал, вздыхая Хряпов, – Барышников, подлая душа, против меня линию ведет. Он, грабитель, так полагаю, – Федору Григорьичу Орлову «барашка в бумажке» сунул, и слых есть, что меня из придворных поставщиков турнут. Барышников, подлая душа, все откупа под себя умыслил взять.
Вдруг Митрич остановил лошадь и соскочил с двуколки: направляясь поперек просеки, прорубленной в лесу для Большого проспекта, тяжело шел, опираясь на палку, атлетически сложенный, изрядного роста пожилой человек в сером плаще и темной шляпе. Огромный Митрич подбежал к нему, обнажил свою плешивую голову и, низко кланяясь и норовя поймать руку человека, чтоб, по лакейской натуре, облобызать ее, загудел:
– Здравствуйте, батюшка Михайло Васильич!
Тот, предупредив маневр Митрича, быстро заложил руки назад, полное, губастое, с большими серо-голубыми глазами лицо его заулыбалось. Громким, басистым голосом он спросил:
– Уж не с позорища ли едешь, землячок?
– С него, с него, Михайло Васильич, батюшка… Молитесь за упокой души раба божия Василия: с плеч головушку снесли ему.
Михайло Васильич только рукой махнул, наморщил лоб, посмотрел вдоль просеки, в сторону Невы.
– Торжествуйте, Немезиды и Минервы, – произнес он про себя. – Пожалуй, ныне надо ожидать, что убийцы доподлинные в графское достоинство возведены будут, аки Орловы господа… Ась? – добавил он тихо, чтоб не услыхал Хряпов, бывший в некотором отдалении.
– Не знаю-с, не знаю-с… – оглаживая бородищу, смущенно подал голос Митрич. – Как всемилостивейшая матушка распорядится…
– Токмо при матушке-то зело много батюшек… Ась? – улыбнулся глазами собеседник и вынул черепаховую табакерку.
Митрич поспешно выхватил из камзола свою серебряную вызолоченную табакерку и, открыв ее грязными ногтями, с поклоном поднес собеседнику:
– Прошу моего отведать. Забористый! Самого императора Петра Федорыча, покойничка – запасу-с… Батюшка, Михаил о Васильич! Много вашей милости благодарны мы со старухой за своего племяша. Спасибо, что приделили его в свою фабричку.
– Работает, работает. Тщусь надеждой – мастер из него выйдет добрый. В орнаменте разбирается и в оттенках цветных камушков имеет глаз отменно верный.
Подъехала карета, открылась дверка, и красивый, в блестящей военной форме человек, высунувшись из кареты, командирским басом проговорил:
– Вот он где. А я тебя, Михаиле Васильич, ищу… Садись!
– A-а, Алексей Григорьич! – попросту поклонясь, проговорил тот и, поддерживаемый Митричем, тяжело полез в карету графа Алексея Орлова.
– Кто такой? – спросил Хряпов бывшего лакея, когда их двуколка двинулась вперед, шурша колесами по щебню.
– Сам граф Орлов.
– Да не про графа я. Алешка Орлов, сукин сын, задолжал моей фирме сверх пяти тысяч. Рябчиков жрать да пьянствовать любит, а денежки платить – нет его.
– А другого-то нешто не знаешь? Ломоносов это. Самый что ни на есть ученый по России человек…
– А кто его знает… В моих должниках не ходит. А до ученых мне горя мало. Дако-сь наплевать… Вижу – человек здоровецкий, только чаю, ногами не доволен.
– О-о, силач! – захлебнулся улыбкой Митрич. – Из поморов, из мужиков, с-под Архангельска. Землячок мой любезный. Евоный батька первеющий в Холмогорах рыбак. А сам-то он всю науку превзошел за границей.
Двуколка стала повертывать на Седьмую линию.
– Вот на самом том месте, видишь, соснячок стоит, – указал Митрич в конец просеки Большого проспекта, – Тут господин профессор Ломоносов в ночное время троих воров избил… Да-а-а, – раздумчиво протянул Митрич. – Был конь, да изъездился. Так и Ломоносов господин. Винцом зашибал, сердяга. Любил погулеванить. Я с ним, почитай, с вьюных годов знаком. Тпру, приехали…
2…И карета Алексея Орлова остановилась. Ломоносов ввел гостя в свою двухэтажную мозаичную мастерскую, помещавшуюся на его земле, за его собственным домом по Новоисаакиевской улице на Мойке. Тут же были выстроены и десять небольших каменных покоев для мастеров.
– Ну, фабрикант, кажи, кажи, что у тебя тут, – сказал всегда веселый и беззаботный Орлов.
М.В. Ломоносов действительно был полунищим фабрикантом. Его кипучей, всегда деятельной натуре тесно в стенах Академии. От физических и механических опытов, от бесконечных вычислений, писания ученых трактатов его неудержимо тянуло к живому труду, в самую гущу жизни. В его гениальную голову влетела мысль завести в России тонкое итальянское искусство мозаики. Десять лет тому назад, по его ходатайству, было ему нарезано в Копорском уезде девять тысяч десятин земли, закреплены за ним четыре деревни с двумя сотнями крестьян и выдана небольшая денежная ссуда. В деревне Усть-Рудицы, верстах в семидесяти от Петербурга, он построил маленький стеклянный завод. В главном здании, длиной восемь, шириной шесть сажен, помещалась лаборатория с несколькими печами для выработки цветных стекол, а к этому зданию примыкала небольшая мастерская. Вот и вся фабрика.
А в петербургской мастерской, куда они вошли, главным образом выделывались нужные для мозаики стеклянные, всевозможных цветов, палочки (смальты) и производились мозаичные работы.
– Вот-с, пожалуйте. – Ломоносов снял плащ, бросил его на скамейку и повел Орлова к застекленному шкафу. – Помимо смальты мы делаем бисер, пронизки, стеклярус. А вот и графинчики у нас есть, и кружки, и табакерки, фужеры, блюдца, запонки, набалдашники… Всякого жита по лопате.
– Изящно, Михайло Васильич, одобряю, брат, одобряю. Вещицы хоть куда, хоть ко двору. Только, чаю, не в этом твоя сила, не в графинчиках да бисере. В науках слава твоя, Михайло Васильич.
Ломоносов, усмехаясь глазами, поклонился и сказал:
– А может статься и – в лире. Стихотворство – моя утеха. Физика – мои упражнения.
Два богатыря – молодой и пятидесятидвухлетний – бывший мелкопоместный дворянин и бывший простой мужик улыбчиво смотрели друг другу в глаза. На Ломоносове широкая шелковая блуза, вправленная в табачного цвета штаны, на шее – пышный белый, в складках, галстук, на ногах вместо длинных чулок и башмаков, суконные на пуговицах сапоги – больные ноги его опухали.
– Старишься, Михайло Васильич. С палочкой ходишь. Поправляйся, брат, оздоравливай да ко мне приезжай, спляшем…
– Нет уж, не до плясов мне ныне, Алексей Григорьич, не до ваших придворных комеражей. Со смертного одра едва-едва встал, – стараясь сдерживать раскатистый свой голос, ответил Ломоносов. – Впрочем сказать, я о смерти не тужу: пожил, потерпел. А умру – дети отечества обо мне пожалеют, – с гордым блеском в глазах сказал он и откинул в седых буклях голову.
Был обеденный перерыв, в мастерской пусто. Орлов закурил трубку. На его лощеных пальцах блестели бриллианты. Дорогого шелка блуза и штаны Ломоносова – в пятнах от химических реактивов, брюссельские кружевные манжеты слегка засалены.
– От кого ж ты потерпел-то? – спросил Орлов.
– Да ото всех по малости. И терпел и паки буду терпеть до кончания живота. Врагов много у меня…
– Да ведь ты сам-то зубаст, Михайло Васильич.
– Зубаст, зубаст, Алексей Григорьич… Правильно молвил – зубаст. (Орлов сел, Ломоносов, подпираясь палкою, стал вышагивать по кирпичному полу.) А чего ради ото всех недругов своих претерпеваю? Стараюсь защитить труд Петра Великого, чтобы научились россияне премудрости книжной да искусствам, чтобы показали свое достоинство! – закричал Ломоносов и, вскинув палку вверх, затряс толстыми обветренными щеками. – Единого хощет Михайло Ломоносов – широкого просвещения россиян, чтоб они гордились отечеством своим, со всем тщанием изучали его. Вот у нас в рекомой Академии все немцы да иноземцы разные. Но ведь, голубчик Алексей Григорьич, надобно и о русских людях пещись, и их помалу в ученье тянуть. У иноземцев же нет доброхотства учить русских юношей. А ведь есть парнишки, природой одаренные, маленькие Ломоносовы. А без Ломоносовых Россия все равно, что пашня без семян. Да вот я… Кто я был? Хоть смерть в глаза мои глядит, а молвлю не без гордости: я много лет являюсь украшением Академии наук, – Ломоносов понюхал табаку и снова закричал, как на площади: – Я и до историка Миллера доберусь, я и до нашего Нестора летописца доберусь! Почто они в сочинительстве своем предпочтенье иноземцам отдают против русских?.. Я другой раз – лют.
Орлов с любопытством глядел на разгорячившегося Ломоносова и сквозь клубы дыма, не выпуская трубки из зубов, спросил:
– А верно ли, Михайло Васильич, будто ты намедни, явившись в конференц-зал Академии, изволил показать заседавшим некую фигуру из трех пальцев, опосля чего ушел, изрядно хлопнув дверью?
– Кукиш, кукиш показал! – закричал Ломоносов, большие глаза его запрыгали, крутые брови взлетели вверх. – И по немецкой матушке обложил всех. Я дураков ругать люблю.
– При дворе, узнав про твой дебош, много тому смеялись, – и Орлов раскатисто захохотал.
– Враги, злопыхатели, антагонисты! – выкрикивал Ломоносов, пристукивая палкой в кирпичный пол. – Затирают меня, унизить меня хотят, властвовать надо мною… А я не боюсь, я другому и по шее накладу. Да довелись до драки, я – знаешь что? Ведь я, мотри, рыбак, корпуленция во мне крепкая. А они всемилостивейшим нашептывали на меня – и государыне Елизавете и ныне царствующей императрице. А кто они? Разные Миллеры да Трауберты, немцы. Да еще Сумароков – нежные песенки кропает…
Орлов знал про давнишнюю вражду простака Ломоносова и кичившегося своим старинным дворянским происхождением Сумарокова. Некоторые озорные баре, да и сам Алексей Орлов, нарочно приглашали к себе на обед этих двух недругов, чтоб сравнить их в словесной схватке. Хотя Ломоносов был неповоротлив в обыденной жизни и неохоч заводить знакомства, однако иные приглашения принимал. Когда подвыпивший Сумароков начинал своими приставаньями докучать Ломоносову, тот со всей горячностью резко отвечал ему, и эта резкость почти всегда переходила в недозволенную грубость, в брань. Сумароков же был в ответах хотя и спокоен, но дерзок, и если не остроумен, то остер. Конечная победа оставалась за ним.
И вот теперь, с интересом слушая Ломоносова, гость сочувственно улыбался ему.
– Я Сашку Сумарокова давно знаю. Он еще у матушки Елизаветы тарелки на кухне вылизывал. И ныне, поди, милостивой государыне нашей все глаза намозолил, все пороги пообивал во дворцах да в палатах. В знать лезет… Да и Васька Тредьяковский – кутья кислая – не лучше его: в «Трудолюбивой Пчеле» пасквили на меня строчит, желчь распускает (сие по-гречески зовется – диатриба), мол, малеванная живопись превосходней мозаичной… Дурак! Да Болонская академия наук намеднись избрала меня за мозаику-то почетным членом своим. И сим – горжусь. А он… Виршеплет! Его вирши только на подтирку разве… Ему ли в ямбах разбираться да в хореях. А вот пойдем-ка, пойдем, Алексей Григорьич, ваше графское сиятельство, наверх, там посветлее, я покажу вам «Полтавскую баталию». Я одной мозаичной работою не токмо Ваську Тредьяковского, а точию всех итальянцев поражу.
Богатыри, колебля шагами темную лестницу, поднялись наверх. Отдышавшись и потерев правую коленку, Ломоносов подвел Орлова к массивному, из бревен, станку, на котором покоилась огромная – в ширину двенадцать, в вышину одиннадцать аршин – батальная картина Полтавского боя, на переднем плане Петр I на коне.
– Камушков стеклянных, из коих картина сложена, десятки тысяч, – сказал Ломоносов. – На медной сковороде она укреплена, оная сковорода со скобами весит сто тридцать пудов. Махина!
Солнце било мимо фигуры Петра. Орлов схватил станок и хотел передвинуть так, чтобы фигура Петра попала под солнечные лучи. Станок скрипел, не подавался. Ломоносов сказал:
– Легче солнце повернуть, чем станок.
Орлов сорвал перчатки, сунул их в карман камзола, вновь вцепился в станок, расставил ноги и закусил губы, плечи его набухли мышцами, как чугуном, лицо налилось кровью, рубец на щеке потемнел, он перекосил рот, весь задрожал, станок крякнул и заскорготал, тяжко заелозив со скрипом по полу. Фигура Петра попала под солнце. Разгоняя прилившую кровь, Орлов концами пальцев стал крепко водить по лбу от переносицы к вискам. Глаза его сверкали. Изумленный Ломоносов, выйдя из оцепенения, восторженно захохотал, зааплодировал, шумно закричал:
– Да ведь тут весу пудов с триста! Алексей Григорьич, да вы, ей-богу, Геракл. Ну, помоги вам Зевс очистить конюшни Авгия, – продолжал он другим тоном. – Навозу, навозу у нас – тьфу! – вся Русь в навозе.
Орлов, тяжело дыша и почти не слыша его, повернулся к картине, сказал:
– Ну вот… Теперь вижу, что Петр Алексеич зело хорош…
– «Он бог, он бог твой был, Россия», – кивая Петру и молитвенно сложив руки, вполголоса продекламировал Ломоносов отрывок своей старой оды, – Да не токмо я, а и прочие… Взять графа Ивана Григорьича Чернышева, и он восклицал про Петра Великого: «Это истинно бог был на земле во времена отцов наших!»
– Хорош, хорош Петр Алексеич… Да и вся картина добра зело. Кто начертал картину?
– Да кто же! Все Ломоносов со учениками, – даровитые парнишки у меня. Ведь в Марбурге-то, у немцев-то, я не токмо иностранные языки отменно изучал, но такожде и в рисовании зело преуспевал. Ломоносов кутилка – об этом всяка мразь трубит. А вот что Ломоносов великий росс, что он Московскому университету десять лет тому назад основу положил… Даже всемилостивейшая матушка, покровительница искусств и наук… – Лицо Ломоносова дрогнуло, задергались губы.
Орлов хмуро взглянул на него.
– Была, была у меня… Со всей свитой была недавно, – переняв его взгляд, спохватился Ломоносов. – Ее величество изволили посетить мою мастерскую, подробное смотрение сей картине произвели, изволили милостиво беседовать со мною более двух часов.
Блаженство нового и дней златых причина,
Великому Петру вослед Екатерина
Величеством своим снисходит до наук
И славы праведной усугубляет звук…
вяло продекламировал Ломоносов. – И сие правда сущая: к художествам ревность ее, с похвалою скажу, весьма отменна, и поощрительные речи ее величества были ко мне зело благожелательны, – молвил он и подумал: «Хитрая немка, коварная, всего насулила, а толку нет, худородных русских людей, вроде меня, держит в торможении, к кормилу государственного корабля не допускает». И, подумав так, Ломоносов испугался: да уж, полно, не выпалил ли он сгоряча эти мысли вслух. Он быстро вскинул взор в лицо Орлова. Нет, ничего, Орлов внимательно рассматривает стеклянные камушки в многочисленных ящичках, стоявших на полу и на длинных скамьях. Тогда Ломоносов, успокоившись, сказал: – Обласкала, обласкала государыня… А Михаило Ломоносов и по сей день в малых чинах и не в пример малое содержание по штату получает. А почему сие? Да потому, что не токмо у стола знатных либо у каких земных владетелей дураком быть не хочу, но ниже у самого господа бога.
Ломоносов ждал, что ответит на это Алексей Орлов. Но тот молчал. Ломоносов вздохнул, и на круглом щекастом лице его появилась гримаса незаслуженно оскорбленного самолюбия. Он сказал:
– Эта стеклянная смальта, которую изволишь разглядывать, Алексей Григорьич, думаешь, сразу далась мне? Взял, мол, истолок, красочки подбросит, да и в печку варить! Нет, ваше сиятельство. Ломоносов за три года три тысячи опытов над сим проделал. Три тысячи! Вот в этом сундуке лабораторные журналы, по-латыни писанные мною, хранятся, пусть лежат потомкам в назидание.
Видя, что гость начинает скучать, Ломоносов взял его под руку, ввел в свой маленький рабочий кабинет, извлек из венского с инкрустацией шкафика графин с мутноватой, апельсинового цвета жижицей и, налив в серебряную стопку, подмигнул Орлову:
– Ну-тка, граф, с устаточку, изволь вкусить «ломоносовки».
– А ты?
– Ногами маюсь. И рад бы, да эскулапами заказано…
С жадностью одним духом проглотив вино, Орлов широко разинул рот, с испугом выпучил глаза и перестал дышать. Затем боднул головой, выдохнул: «Уф ты, черт», по-кабацки сплюнул и, вытерев градом покатившиеся слезы, с укоризной сказал хозяину:
– Вот, так «ломоносовка»! Да уж, полно, не отравил ли ты меня, Михайло Васильич? Все нутро индо огнем взнялось…
– Что ты, Алексей Григорьич! – отмахнулся Ломоносов, по-мальчишески плутовато подморгнув ему и захохотал: – Это чистый шпирт… настойка на стручках турецкого перца. Посольство из Турции приезжало, ну там мой шурин Иван Цильх и расстарался для меня.
Орлов вошел во вкус, присел и под копченую стерлядку осушил весь графин до донышка. Он пил, а Ломоносов вел беседу. Он говорил о небесном громе, о силе электричества, о несметных богатствах, сокрытых в недрах отечественной земли, о судьбах великой империи. Орлову давно прискучила пустая, по-французски, болтовня придворных дам и кавалеров, ему сейчас приятно было слушать, как из русских уст и на языке российском текло остроумное, обширное знание.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.