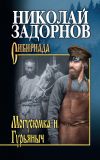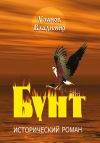Текст книги "Емельян Пугачев. Книга 1"
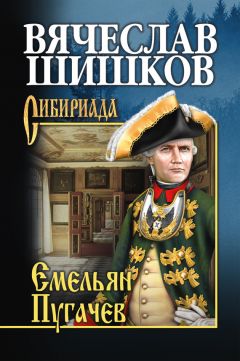
Автор книги: Вячеслав Шишков
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 53 страниц)
Глава IV
Вольное экономическое общество
Наказ
1В середине марта 1765 года тяжко заболел Михаил о Васильевич Ломоносов. При нем неотлучно находился первый приятель его, академик Штелин. Изнемогающий Ломоносов жаловался ему:
– Яков Яковлич, друг!.. Я вижу, что должен вскорости умереть, на смерть смотрю равнодушно и спокойно. Об одном жалею: не мог я совершить того, что предпринял для пользы отечества, для процветания наук, для славы Российской академии… Боюсь, зело боюсь, что все мои благие намерения исчезнут вместе со мною, а Россию нашу паки тьма окутает, – губы его вздрагивали, по щекам катились слезы.
Великий патриот, великий мыслитель, ученый и поэт 4 апреля скончался.
На торжественных похоронах присутствовала почти вся столица. Густые толпы народа шли за гробом. Процессия двигалась к Невскому монастырю.
К академику Штелину подошел всегда злобствующий на Ломоносова поэт Сумароков.
– Угомонился, – злорадно и нагло сказал он, кивая на гроб. – Теперь уж больше не станет шуметь да зазнаваться…
– Посмели бы вы сказать ему эти слова при жизни, – с достоинством ответил академик. – Пред нами прах не зазнайки, а гения.
Нечто подобное повторилось и в стенах дворца. Узнав о смерти Ломоносова, малолетний великий князь Павел сказал своему воспитателю, офицеру Порошину:
– Чего о дураке жалеть. Казну только разорял и ничего не сделал.
Мальчишка бормотал, видимо, с чужого голоса, еще плохо разбираясь в том, что возле него творится. Порошин, конечно, мог бы, если б имел на то право и мужество, разъяснить ему, что не Ломоносов, получавший грошовую пенсию, а его венценосная мать немилосердно разоряет казну, тратя огромные государственные средства на своих фаворитов и роскошества.
Все-таки Порошин не убоялся вступиться за честь и славу великого покойника и прочел мальчишке строгую нотацию. Честнейший Порошин вскоре был от обязанностей воспитателя освобожден.
Итак, Ломоносов умер, Россия осиротела.
Ломоносову должно было по праву принадлежать первейшее место у кормила государственного правления, однако дворянские правящие классы считали его человеком опасным, он был ими едва терпим, царствующая же императрица тоже отвернулась от него. По ее приказу все бумаги Ломоносова, хранящиеся в его доме, тотчас после смерти великого ученого были опечатаны графом Григорием Орловым.
Но многие просвещенные люди страны и некоторые из либеральных вельмож немало скорбели о горькой утрате, которую понесло отечество со смертию русского гения.
Вся многотрудная жизнь Ломоносова прошла в едином стремлении помочь России, помочь своему народу. То он выступает в качестве государственного деятеля и веско излагает свои мысли в пространном письме патрону своему Шувалову «о размножении о сохранении российского народа». То сочиняет трактат о пути из России в Индию «Сибирским Океаном», добивается кредитов на опытную экспедицию, деятельно снаряжает ее, и, хотя смерть обрывает его работу, тем не менее, спустя несколько недель после кончины Ломоносова, адмирал Чичагов с тремя фрегатами выходит из Архангельска в Ледовитый океан[38]38
Двухлетняя попытка Чичагова пробиться сквозь льды оказалась неисполнимой: он дошел лишь до 80° с.ш. – В.Ш.
[Закрыть]. То он пишет или обдумывает темы для статей об исправлении нравов и о большем народа просвещении, о размножении ремесленных дел и художеств, о лучшей государственной экономии, об исправлении земледелия и т. д.
Ломоносов ясней всех своих современников сознавал, что давно приспело время заняться вопросами внутреннего экономического положения России, он всячески будил и толкал вперед дремавшие силы ее.
Правительство, двор и передовые люди были осведомлены о ненормальном состоянии отсталого народного хозяйства: земледельческое население нищало, волнения среди крестьян становились явлением обычным.
Осенью 1765 года Екатерина пригласила на чашку чая наиболее близких двору сановников. В одном из уютных покоев Зимнего дворца собрались: три брата Орловых, глава правительства Никита Панин, графы Захар и Иван Чернышевы, Сиверс, Олсуфьев, Бибиков, Черкасов, Роман Воронцов, придворный библиотекарь Тауберт[39]39
«Зачинитель» общества. – В.Ш.
[Закрыть] и прочие.
Беседа за чаем протекала непринужденно. Захар Чернышев, бывший сердечный друг Екатерины, забавно рассказывал анекдоты из боевой жизни. Екатерина, как всегда, успешно острила, пересыпая свою французскую речь русскими, иногда невпопад, пословицами. Впрочем, она теперь хорошо говорила по-русски.
– Господа, – сказала она. – Шутки в сторону, соловья баснями не угощают, давайте о делах…
– Я хоть и не соловей, а птица иной породы, – непозволительно прервал императрицу Григорий Орлов, – только я зело проголодался. Бифштексик бы с кровью, по-охотничьи. Матушка, как насчет хлеба насущного?
– Григорий Григорьич, помолчи, – ничуть не осердясь и даже со снисходительной улыбкой проговорила Екатерина. Нарядный изумрудный фермуар, как бы подчеркивая ее благодушное настроение, празднично блестел на жемчужном ожерелье. – Господа, приглашаю вас прислушаться, – она заглянула в свою записную книжечку. – Вам ведомо, что финансы моей империи очень далеко не блестящи. По вступлении моем на престол я нашла их слишком расстроенными. Монетный двор, со времен царя Алексея Михайловича, считал денег в обращении сто миллионов золотой и серебряной монетой, из коих сорок миллионов вышедшими из империи за границу. Нам, господа, надлежало бы подумать о выпуске в обращение бумажных денег. Блаженной памяти государыня Елизавета во время прусской войны искала занять три миллиона в Голландии, но охотников на тот заем не явилось, сиречь кредита или доверия к России не было. Вот, господа, очень, очень кратко – как было. Прошлый год мы государственный бюджет заключили без убытка, зато нынешний год доходы казны упали с девятнадцати миллионов в прошлом году до десяти миллионов. Сие очень нетерпимо. Мы чересчур расходчивы. А надо, чтоб какова одежка, так и ножки протягивать. У нас одежка очень слишком коротка, а ножки чересчур длинные. А надлежит как раз наоборот…
– Ежели наоборот, матушка, то одежка-то со шлейфом получится, – оправляя золотой камергерский ключ, укрепленный на голубой ленте у левого бедра, попробовал сострить Григорий Орлов.
Екатерина опустила веки с длинными ресницами и, подавая знак к молчанию, побрякала о край чашки ложечкой.
– О господа, как бы я желала, – воскликнула государыня, распахнув и снова сложив веер, – как бы я желала видеть истинное лицо моего отечества, познать нужды народа своего! Хочу много, много ездить по России.
– Знаешь что, матушка, – пробасил Григорий Орлов и, поднявшись, огромный и статный, подошел к маленькой в сравнении с ним Екатерине, нагнулся, бесцеремонно положил руку на ее плечо, сказал: – Уж ежели путешествовать задумала, так надлежит тебе, матушка, у какого-нито кудесника шапку-невидимку добыть. А то тебе, матушка, такое напоказывают, что и впрямь подумаешь: ахти, как хороша да богата Россия. – Ои чмокнул Екатерине руку и стал вышагивать по лионскому ковру.
Стало тихо, все сидели, как истуканы, всех шокировало поведение зазнавшегося фаворита. Бесшабашный, недалекий Григорий Орлов даже при посторонних вел себя с Екатериной без всякого стеснения, как муж. Пикируясь с ней, он иногда позволял себе говорить по ее адресу колкие грубости. В его голосе звучали нотки человека, знающего цену своего влияния на любимую женщину, которая готова все простить ему. Он как бы кичился пред другими своим положением избранника сердца государыни. Екатерина великодушно сносила поведение Орлова, стараясь обращать в шутку его грубоватые выходки. Ее ум и воля в эти минуты подчинялись чувству: она самозабвенно любила его. Однако посторонних сановников от таких интимных сцен внутренне коробило. А Никита Панин в подобных случаях, ядовито улыбаясь, думал: «Ну, слава богу, что в фаворитах Гришка Орлов. Фаворит с умом и достоинством был бы мне более опасен».
– Если дозволено будет вашим величеством, – проговорил, поклонясь, сидевший вблизи Екатерины граф Сиверс, – я мог бы доложить вам о некоторых глухих уголках нашего отечества.
– Ах, прошу вас, милый Яков Ефимыч! Я вас полагаю за очень просвещенного, очень деятельного человека. Я вас слушаю… Одна минутка, одна минутка! – и, позвонив в колокольчик, она велела дежурной фрейлине подать ей рабочую корзиночку. Вынув начатое вязанье, три клубка разноцветной шерсти и костяные спицы, она приготовилась вязать теплый на зиму капотик своей любимой собачке, дремавшей у нее на коленях.
Олсуфьев, Черкасов и Роман Воронцов бросились к столу, за которым сидела Екатерина, чтоб поближе к ней поставить горящие канделябры, но Григорий Орлов, подлетев, ловко отстранил услужливых царедворцев и сам передвинул канделябры. Екатерина поблагодарила его улыбкой, спицы в ее проворных руках заработали, шерстяные клубки зашевелились.
– Итак, – начал молодой, полный сил граф Сиверс, одернув свой скромный темно-синего сукна кафтан. – Повелением и милостью вашего величества я с прошлого года состою в должности начальника обширнейшей Новгородской губернии, в кою входят провинции Олонецкая, Тверская, Псковская и Великолуцкая. Я объехал многие города и селения, и моему взору везде представала картина наипечальнейшая. Взять Псков. По своему красивому и удобному для торговли положению он мог бы быть в ином состоянии и не возбуждать такой жалости. У меня нет слов, ваше величество, для выражения моих чувств о разорении этого города! Скажу одно: он так же несчастлив, как и Великий Новгород, и страдает той же чахоткою. Солдаты – коих два полка – казарм не имеют, живут в домах обывателей, чрез что обыватель справедливо ропщет. Как в одном, так и в другом городе почти равные причины разорения, и не одни политические, но и нравственные: нравы так испорчены, что умножение человеческого рода почти пресеклось.
На тонком лице Екатерины отразилось удивление, брови ее приподнялись, спицы в холеных руках остановились. После паузы Сиверс продолжал:
– В судах повсеместно взяточничество, неимоверная волокита. В Новгороде из трехсот просьб решаются в год по два, по три дела. Каменный дом провинциальной канцелярии во Пскове развалился, воеводского двора вовсе нет, и воевода живет в таком ветхом доме, что мне стыдно и не без страха было в него войти. Город Осташков – сущая деревня, в воеводском доме только сороки да вороны, ни площади, ни лавок я не нашел. В Холме больше тысячи душ, и только один человек умеет писать…
– Да неужели?! – воскликнула императрица.
– Увы, сие так, – развел руками Сиверс, – своей монархине докладываю истину.
– Срам-срам, – пристукнула каблучком императрица. – Ну а крестьяне?
– О крестьянстве должен вообще заметить, что оно еще более заслуживает жалости по незнанию грамоте, ибо это незнание подвергает его множеству обид. А кроме сего – земля обрабатывается самым первобытным способом, она плохо удобряется, урожаи ничтожны. Не в меру притесняемые помещиками крестьяне нищают. На крестьян помещики накладывают какой угодно оброк и требуют с них какой угодно тягчайшей работы.
По почину графа Сиверса высказывали свои наблюдения над деревней и прочие приглашенные. Екатерина время от времени бросала вязанье и золотым карандашиком делала заметки в записной книжке.
– Я, господа, жду от вас изыскать способы к улучшению экономического состояния нашего отечества, – мягко и в то же время повелительно сказала она.
– Всемилостивейшая государыня, – проговорил, подымаясь, Сиверс. И все поднялись. Григорий Орлов демонстративно некоторое время посидел, но и он с леностью и небрежением поднялся. Сиверс достал из кожаной дорожной сумки бумагу за многими подписями. – Повелите повергнуть к стопам вашим на предмет благоусмотрения прожект устава сочиненного нами общества, – сказал он и с поклоном подал бумагу императрице.
– Ваше величество! – приподнятым, торжественным голосом продолжал Сиверс. – Мы, пятнадцать человек, во главе с графом Григорием Григорьичем Орловым соединились добровольным согласием в общество, в котором вознамерились совокупным трудом стараться об исправлении отечественного земледелия и домостройства. Мы просим вас, государыня, принять оное общество под ваше монаршее покровительство и чтоб общество управлялось собственными нашими трудами и установлениями, почему и называлось бы «Вольным экономическим обществом»[40]40
Общество просуществовало до 1914 года, то есть полтора столетия. – В.Ш.
[Закрыть].
Мысль о создании общества была давно известна Екатерине чрез Григория Орлова. С целью положить начало этому делу и были сегодня приглашены близкие Екатерине лица. Еще неделю тому назад она негласно ознакомилась с проектом устава, но, притворясь теперь, что она впервые устав видит, императрица наспех пробежала взглядом исписанные листы и ответила собравшимся заранее приготовленной фразой:
– План и устав ваш, которыми вы друг другу обязались, мы похваляем. Изволите быть благонадежны, что мы оное приемлем в особливое наше покровительство.
Часы пробили десять. Екатерина встала, обвела всех ласкательной улыбкой, кивнула головой и в сопровождении двух собак, Григория Орлова, фрейлины и четырех пажей удалилась во внутренние покои. Путь ее шествия по длинным темным коридорам лакеи освещали высоко приподнятыми горящими шандалами. Два скорохода, бежавшие впереди императрицы, тенористо покрикивали гвардейцам-часовым, расставленным по коридорам:
– Ее величество! Ее величество!
Солдаты взяли ружья на караул, офицеры, выхватив шпаги, делали салют. Близко сдвинутые высокие стены коридора в свете колыхавшихся огней как бы раздвигались, давая простор хозяйке дома и владычице империи. Гулко слышались лишь четкие частые шаги Екатерины и медленная, твердая поступь олимпийца Григория Орлова. Остальные смертные, нижайшие рабы, скользили по паркету на цыпочках, неслышно.
Граф Сиверс на радостях бросился обнимать Никиту Панина. Тот, не без наигранной патетики, сказал:
– Сие вольное учреждение ваше есть утренняя заря деловой общественности России. Бог вам в помощь.
Императрица дала обществу девиз: «Пчелы, в улей мед приносящие», с надписью – «полезное», и пожертвовала шесть тысяч на покупку дома.
Первым председателем общества был Григорий Орлов.
Общество вскоре широко развернуло свою деятельность. По всей стране разослано было шестьдесят пять вопросов по земледелию, ремеслам и промыслам. Ответы на эту анкету дали возможность обществу ознакомиться с хозяйственным состоянием крестьянской России.
Впрочем, в этом начинании общество шло по следам Ломоносова, который еще в 1760 году разослал чрез Сенат в города, местечки и монастыри всей империи анкеты со многими вопросами географического и экономического порядка.
Екатерина поддерживала деятельность общества. Ей, склонной по натуре к загадочности и актерской игре, зачем-то понадобилось писать в общество от имени «неизвестного лица» мужского рода и подписываться инициалами «И. Е.».
На заседании, где разбиралось письмо «неизвестного», Григорий Орлов заявил:
– Нечего глазами хлопать. Это писала матушка. Только, чур – прикинемся простецами и станем держать сие в секрете. Матушке об этом ни гу-гу…
В следующем году был получен обществом изящный ящичек, в котором тысяча червонных и письмо того же неизвестного за той же подписью «И. Е.». В письме – вопрос: «В чем состоит собственность земледельца – в земле ли его, которую он обрабатывает, или в движимости, и какое он право на то и другое для пользы общенародной иметь может?» Другими словами – спрашивалось: нужно ли для общенародной пользы уничтожать крепостное право и наделить крестьян в собственность помещичьей землей или, оставив все по-старому, дать крестьянам лишь право владеть движимым имуществом? В письме сообщалось, что в награду за достойное решение вопроса и вообще на издержки общества назначается препровождаемая тысяча червонцев. Чрезвычайное собрание общества постановило объявить конкурс на правильное решение опубликованного вопроса. За лучшее сочинение назначалась премия в сто червонцев и золотая медаль.
На публикацию тотчас отозвался поэт Сумароков. В своем ответе он выразил не только свои взгляды, а и мнение по этому вопросу многочисленных своих единомышленников. Он писал:
«…Потребна ли ради общего благоденствия крепостным людям свобода? На это я скажу: потребна ли канарейке, забавляющей меня, вольность или потребна клетка? И потребна ли стерегущей мой дом собаке цепь? Канарейке лучше без клетки, а собаке без цепи; однако одна улетит, а другая будет грызть людей; так одно потребно ради крестьянина, а другое ради дворянина…
…Что же дворянин будет тогда делать, когда мужики и земля будут не его, а дворянину что останется?.. Впротчем, свобода крестьян не только обществу вредна, но и пагубна».
К сроку было прислано на разных языках сто двадцать ответов. Лучшим признано сочинение проживающего в Петербурге немца Беарде-де-Лаббея, доктора прав в Аахене. Общий его вывод: крестьянин должен быть свободным и должен владеть землей, но освобождать крестьян нужно постепенно. Между прочим он писал:
«…О вы, цари! Если вы не желаете быть мучителями ваших народов, то должны вы быть отцами ваших подданных. Крестьяне суть ваши чада: как же вы можете видеть ваших чад рабами?»
«…Что будет из наших полей? – без сомнения, скажут некоторые владельцы, которые только одну наружность вещей обозреть в состоянии. – Кто станет земли наши пахать, когда рабы наши будут вольными? Кто будет работать на наших фабриках и мануфактурах, когда мы не будем иметь права удержать и принудить к работе наших рабов? Нет, господа! Дав вольность вашим крестьянам, вы ничего не потеряете, но еще умножите ваши доходы и т. д.».
Однако свободолюбивый автор не рекомендовал немедленного освобождения крестьян.
«…Должно приуготовить рабов к принятию вольности прежде, нежели дана им будет какая собственность… Когда просветится их разум и исправятся их нравы, тогда уже можно будет разрешить оковы рабства…»
Собрание Вольного экономического общества, состоящего почти сплошь из крупных крепостников, премировав это сочинение, растерялось. Большинство было против опубликования столь дерзких, потрясающих государственные основы, высказываний. Как быть? Напечатать, конечно, легко. А вдруг по напечатании «неизвестный» благодетель «И.Е.» придет в гнев и все «вольное общество»… сошлет в Сибирь!
2Апартаменты Григория Орлова помещались в Зимнем дворце на антресолях. Но почти каждый вечер, свободный от кутежей на стороне или длительных поездок в гатчинские, а то новгородские леса на охоту, он проводил с императрицей в ее интимных покоях.
В шелковом, перетянутом опояскою, капоте без фижм и кринолинов парадных платьев, скрывающих естественную форму тела, Екатерина казалась изящно сложенной и была быстра в движениях. В белом кружевном чепце она сидела за маленьким письменным столом, заканчивала давно начатый ею перевод на русский язык «Велизария» – философского романа французского писателя Жана Мармонтеля.
Григорий Орлов, подобрав обутые в шлепанцы ноги, полулежал на удобном диване, просматривал свежий номер газеты «Санкт-Петербургские Ведомости». Он в атласном, с золотой вышивкой, халате, шея и грудь обнажены, русые, слегка завитые волосы подрублены в скобку, по-казацки. Глаза его наткнулись, как на кочку, на объявление в газете:
«В Четвертой Мещанской в № 111 продаются две молодые девки, собой видные, грудастые, белье шьют и в тамбур, гладят и крахмалят, и стряпать мастерицы. Последняя цена им 1000 рублей. Тут же продается жеребец, да бык, да стая гончих собак, числом пятьдесят, по сходной цене».
Орлов поморщился. Он знал, что крепостных не только продают, но и проигрывают в карты, дают ими взятки, платят врачам за лечение. Надо бы опять обратить внимание государыни, ну да как-нибудь в другой раз…
– Да! Матушка… Прости, что докучаю тебе. Мужичишка, Васька Безухий, медвежатник мой, приходил намеднись ко мне, сказывал – двух медведей обложил в берлогах под Гатчиной… Поехать доведется, стукнуть.
Екатерина, отложив работу, быстро оправила чепец, скользом взглянула в лежавшее возле нее зеркальце и, машинально облизнув губы, повернулась к Орлову.
– И надолго сей променад?
– Да бог его ведает… На недельку.
– Вот ты все ездишь, дела свои запустил, меня одну бросаешь. Ну да, впрочем, ты ферлакур известный, Гришенька.
– Утешители у тебя найдутся, – с ревнивым чувством во взгляде и голосе несдержанно упрекнул ее Орлов и, насупившись, швырнул газету на пол.
Екатерина, в упор глядя на него, выжидательно молчала. Она приготовилась к самозащите, она собиралась выпустить когти, но, признаваясь самой себе, что в своих упреках Орлов был прав, она опустила веки, и губы ее капризно скривились.
Вошел с охапкой дров скуластый глухонемой калмык в красном жупане, стал растапливать камин. Был поздний вечер, восковые свечи задумчиво горели в люстре, в канделябрах, в настенных бра. Камин запылал, калмык скрылся. Орлов запер за ним дверь.
– Ну, а как же в твоем Вольном экономическом обществе, Григорий Григорьич? Да!.. И какой же ветреник этот Сумароков. Своим письмом в твое общество он опорочил свое имя пред потомками на веки вечные. Внутренние его помыслы далеко не те, о чем бряцает его лира. Да, вот тебе, – Екатерина, порывшись в ящиках стола, вынула пачку бумаг с надписью: «Запрещаю» и нашла в ней кудряво написанное стихотворение Сумарокова «Хор ко превратному свету». – Слушай, что он написал в своей сатире к моей коронации, сравнивая порядки у нас и за границей:
Со крестьян там кожи не сдирают,
Деревень на карты там не ставят,
За морем людьми не торгуют.
– А вот конец письма в адрес твоего общества: «Впротчем, свобода крестьян не только обществу вредна, но и пагубна». Как сие аттестовать прикажешь? Сие есть – двоедушие.
– Ой, матушка, Катенька… Ты столь премудра, что… – и, заскрипев пружинами дивана, Орлов поднялся. – Дозволь перецеловать все твои мизинчики…
– Их только два…
– Ой, четыре… Ей-богу же, четыре! – И, подбежав к Екатерине сзади и запрокинув ей голову, он с жаром поцеловал ее в маленькие губы.
– Довольно, довольно, Гришенька, – запротестовала Екатерина, – мой рабочий день, ваше сиятельство, еще не окончился. Делаю вам выговор… Ревнивец!
– Ой, матушка! – всплеснул руками и, обойдя стол так, чтоб быть лицо в лицо с Екатериной, воскликнул Орлов. – Ужо я приведу тебе стихотворца Дениса Фонвизина, говорят – душа-парень, весельчак. Как-то довелось слышать мне его… Он столь похоже Сумарокова передразнивает и в голосе, и в манерах, и даже умом, так что Сумароков и сам не мог бы сказать инако, как то, что Фонвизин говорит его голосом. Я чаю, ты прямо обхохочешься, прямо пальчики оближешь, как услышишь его. Дозволь!
Екатерина молчала. Орлов смотрел на нее с восхищением. Аккуратно сложив вынутые бумаги, она спрятала их в стол и, не обращая внимания на Орлова, взялась за гусиное перо, чтоб продолжить прерванную работу. Обескураженный Орлов прошелся по комнате, поворошил клюкой горящий камин, подбросил дров и отщипнул ветку винограда, горой лежавшего в севрской вазе. «Дурак, – подумал про себя Орлов, – газету швырнул, огорчил бабенку. Осел… Подтянуться надо».
Желая овладеть вниманием Екатерины, Орлов, переменив тон, попробовал заговорить о деле:
– Ваше величество! А как вы соизволили отнестись к сочинению Беарде-де-Лаббея? Наши все перетрусили, прочтя оное, и пришли в недоумение – публиковать его в печати или нет? За публикацию Ванька да Захарка Чернышевы, Сиверс, Бибиков, Теплов, Роман Воронцов и другие, а вот Черкасов против, генерал-прокурор Сената Вяземский ни туда ни сюда, дать мнение отказался, тебя опасается, хитрец коварный. Словом, одиннадцать голосов за напечатание, а шестнадцать против. А ты как думаешь, матушка?
– Напечатать, – не колеблясь, ответила Екатерина.
Орлов поставил клюку в угол, несколько мгновений удивленно смотрел на Екатерину.
– Но, матушка… – сказал он. – Ведь оный немец требует мужиков освободить и барскую землю отдать им. Ему-то хорошо в филозофию пускаться, у него, я чаю, ничего, кроме штанов, нет.
– Мое мнение – печатать, – повторила Екатерина. – Ты, Гришенька, я вижу, не столь далеко уехал от господина Сумарокова. Не зря же говорится по-русски: два рыбака – пара.
– Матушка! – захохотал Орлов. – Доколе ты будешь пословицы перевирать? Не рыбака, а сапога. Два сапога – пара!
– Нет, нет… про рыбаков, – капризно сказала Екатерина, оскорбленная неуместной веселостью Орлова.
– А тогда: рыбак рыбака видит издалека. Это, что ли, молвить хотела?
– Потрудись заказать мне список пословиц.
– Добро, добро… Чулкову Мишке закажу, он сих дел мастер.
Желая в свою очередь уколоть Орлова, она сказала:
– Ну а как ты во французском успеваешь? Чаю, пора бы уж…
– Не спрашивай, матушка, не лезет. Трудно шибко, – захлопал Орлов глазами. – Да и французишка попался – прямо скажу – дрянь. Говорим, говорим с ним по-французски, да и нарежемся водки по-русски, – и, чтоб замять этот неприятный для него разговор, он вновь перевел на дело: – Опасаюсь я, матушка, как бы чего худого в публике не вышло, ежели напечатать этого самого Беарде. Разговоры всякие пойдут, крамольные кривотолки, то да се.
– Не бойся, мой друг, – сказала Екатерина, подымаясь. Утомленная трехчасовым сиденьем за столом, она быстрым движением взбросила вверх руки, привстала на цыпочки и потянулась, – Беарде-де-Лаббей в своей пьесе рекомендует освободить крестьян не инако, как прежде просветив их. А это… а это…
– Стало, на наш век хватит? – улыбаясь, спросил Орлов. И, не получив ответа, задал в упор другой вопрос: – Ну, а ты-то, матушка, ты-то желала бы освободить православных мужичков? Ну-тка?
– А как ты думаешь, мой друг? – прищурившись на Григория Орлова и потряхивая откинутой головой, с неожиданным раздражением произнесла Екатерина.
– А я ничего не думаю.
– Сие зело сожалительно…
– Четвертый год живу с тобой, матушка, душа в душу, а каковы твои сокровенные помыслы касательно дел важных – не ведаю. Ты себе на уме, матушка. Не вдруг поймешь тебя, – подавленным голосом, но с оттенком иронии сказал Орлов и, прислонясь спиной к стене, ждал проявления гнева государыни.
На лице Екатерины отразилось страдание. Чуть вздрагивающим голосом с нотками истинной печали, но все же довольно сухо, она сказала:
– Я ценю вас, ваше сиятельство, за вашу отменную верность мне, за честность вашу, за преданность престолу, но зело скорблю, что природа наделила вас умом ленивым и в сложный механизм государственных дел не проницательным. Прервем этот разговор…
– Хоть, может статься, я и дурак, матушка, – выждав время, виновато промолвил Орлов, – а я на твоем месте мужичков православных погодил бы освобождать.
Екатерина молчала, кусала губы, хмурилась. Но вот, надо полагать, в душе ее поднялось большое человеческое чувство к другу. Она заулыбалась, ямочки появились на щеках, лучистые глаза милостиво устремились на притихшего Орлова.
– Друг мой, Гришенька! – воскликнула она. – Вообрази себе: вот императрица Екатерина II завтра публикует указ: «Крестьянам отныне быть свободными. Помещичьи земли навечно передаются в собственность крестьянам». Что бы тогда было? Как ты полагаешь?
– Мужики благословляли бы твое пресветлое имя из века в век…
– А помещики?
– Ну, помещики… – замялся Орлов и развел руками. – Помещики, пожалуй, того… Они бы… пожалуй…
Екатерина улыбалась на замешательство своего друга и, зная, что ее слова рано или поздно станут достоянием истории, погрозила в пространство пальцем, выразительно сказала:
– Боюсь, Гришенька, что тогда помещики успели бы повесить меня прежде, чем освобожденные мною мужички прибежали бы спасать меня.
– Матушка! – в восторженном опьянении закричал Орлов. – Паки говорю тебе: ты – премудра.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.