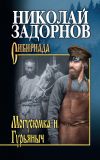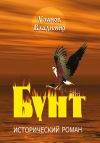Текст книги "Емельян Пугачев. Книга 1"
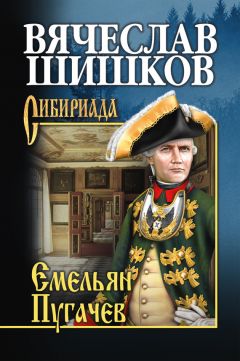
Автор книги: Вячеслав Шишков
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 29 (всего у книги 53 страниц)
И уже возле депутата добрая дюжина крестьян – кто в лаптях, кто босиком, у иных пилы, топоры. Лица их угрюмы, движения порывисты, нетерпеливы.
– А матушка-царица-то бывает ли на собраньях на ваших? – звучит вопрос, и все взоры влипли депутату в рот.
– То-то, что не появляется, – отвечает депутат.
Крестьяне причмокивают, неодобрительно крутят бородами.
– Слых был, – басит пегобородый великан с большим мешком на загорбке, – быдто бы государыня-то за мужика стоит, волю дать хочет, а дворяны перечат ей…
– Не знаю, почтенный человек, не знаю, – уклончиво отвечает депутат и скрывается в дверях трактира на Ильинке с вывеской «Добро пожаловать».
Крестьяне останавливаются, чешут в затылках. Пегобородый сбрасывает мешок наземь, садится возле трактира на широкую скамью, басисто говорит:
– Надо к Маслову итить – он свой человек, хошь и дворянин, а свой…
– Я его знаю, – тенорком выкрикивает дворовый с оттопыренными ушами, – он бедней другого мужика, этот самый Маслов. А за мужика горой! Я-то ведь многих знаю. Взять офицера Козельского. Евоный денщик, краснорожий такой, мордастый, то и дело к нам на кухню бегает, с девками игру ведет, а те, кобылы, рады. Он сказывал, быдто офицер Козельский дюже-де крепко за мужика стоит.
– Вот и пойдемте, ребяты, к нему да к Маслову, нуждишки свои обскажем… – раздались голоса.
– А чего ж, – пойдемте… К ним туды народу нашенского густо валит…
– Да добрых-то депутатов наберется немало… Сказывали, тут еще другой офицер-вояка, вот только прозвище забыл.
3На следующем заседании с отповедью князю выступил высокообразованный угрюмый видом офицер Я.П. Козельский[45]45
Человек высокой культуры, переводчик, публицист, философ; он выпустил в 1768 году книгу «Философические предложения», пронизанную духом свободной критической мысли. – В.Ш.
[Закрыть]. Он в зеленом мундире, в ботфортах; простое широкоскулое лицо его в следах оспы, брови хмуро сдвинуты.
– Как многотрудна военная служба во флоте и как тяжела она в сухопутной армии, я не стану объяснять, ибо предмет этот слишком обширен, – начал он. – Многие князья и сановники, может быть, этого и не знают, так им могут рассказать ратные люди, там послужившие, о тех неимоверных трудах, которые они понесли в турецких и прусских походах, претерпевая раны и даже лишался жизни.
Князь Щербатов слушал речь Козельского, закрыв глаза, будто дремал.
– И мысль, высказанная здесь некоторыми депутатами, – продолжал Козельский, – скорее может быть отнесена к их безграничному самолюбию. Они желают, чтобы им одним пользоваться дворянством. Да, да!.. Только им одним… (Князь Щербатов вдруг открыл глаза и вскинул голову в сторону оратора.) А прочих, какого бы они достоинства, чести и верности своему монарху и отечеству ни были, лишить этого преимущества навсегда…
– Так и надо, – резко бросил Щербатов.
– Нет, так не надо, ваше сиятельство! – с гордостью проговорил Козельский. – Надо стараться, ваше сиятельство, взаимно делать друг другу добро, сколь эго возможно.
По всей палате одобрительные загудели голоса, а веки князя Щербатова снова пренебрежительно смежились.
Депутат Терского семейного войска, полковник Миронов, коренастый человек с насмешливыми глазами и темной бородой, в своей страстной речи, между прочим, сказал неотразимую, обидную для родовых дворян истину:
– Достоинство дворян не рождается от природы, но приобретается заслугами своему отечеству. Могут ли господа российские дворяне сказать о своих предках, что все они родились от дворян? Нет, господа великие дворяне, ваши предки были изначала тоже незнатного происхождения: либо мужики, либо простые люди посадские.
Настроение подогревалось. Князь Щербатов ожил, скорчил на припудренном лице презрительную гримасу. И как только казачий полковник Миронов кончил, князь поднялся.
– Прошу покорно разрешения достопочтенного нашего маршала начать мне.
– Ваше сиятельство, князь Михайло Михайлыч, – сказал, приподнявшись, Бибиков, – прошу вас свое мнение высказать.
Снова все взоры приковались к стоявшему, подобно изваянию, князю Щербатову. Он начал взволнованно, дрожащим голосом, «с крайним движением духа».
– Нам было только что сказано, что все древние российские фамилии произошли от низких предков. Весьма удивляюсь, что эти господа депутаты укоряют подлым началом древние российские родословные, тогда как не только одна Россия, – князь вскинул руку и потряс ею в воздухе, – но и вся вселенная может быть свидетелем противного! – Голос князя вознесся и загремел на всю Грановитую палату: – Как может собранная ныне в лице своих депутатов Россия слышать нарекания подлости на такие роды, которые в непрерывном течении многих веков оказали ей свои услуги? Как не вспомнит Россия пролитую кровь сих почтеннейших мужей. – Князь простер вперед трепещущие руки, запрокинул голову в припудренных буклях и, уставясь взором в крестовые своды палаты, стал извергать из уст своих потоки живописных слов: – Будь мне свидетелем, дражайшее отечество, в услугах, тебе оказанных верными твоими сынами – дворянами древних фамилий! Вы будете мне свидетели, самые те места, где мы для нашего благополучия собраны! Не вы ли обретались во власти хищных рук? Вы, божественные храмы, не были ли посрамлены от иноверцев? Кто же в гибели твоей, Россия, подал тебе руку помощи? – то верные чада твои – древние российские дворяне. Они, они, оставя все и жертвуя своей жизнью, они тебя освободили от чуждого ига, они приобрели тебе прежнюю вольность! – Он обернулся назад, посмотрел во все стороны, как бы отыскивая взором всех несогласных с ним, и закончил: – Но потомки древних родов не затворяют надменностью врата для доблести, а хотят, чтобы желающие войти к ним в собратство удостоились того добродетелью, которую сам монарх увенчал бы дворянским званием. – Он кивнул головой и, откинув фалды кафтана рытого бархата, сел.
Депутаты, взволнованные и ошеломленные красноречием князя Щербатова, недвижимо сидели в тех же застывших позах, в каких они слушали речь.
Так, со словесным шумом протекала «великая пря» между крупными вельможными дворянами и дворянами мелкими, служилыми. Дворянскому вопросу было отдано десять заседаний.
Потом на арену общественного словопрения выступил торговый и промышленный класс.
На одном из осенних заседаний произносит речь умный купец Рыбной слободы[46]46
Город Рыбинск. – В.Ш.
[Закрыть] Попов:
– Ныне господа дворяне домогаются, чтобы купцам запрещено было иметь всякие фабрики да горные заводы, которые устроены купцами на их собственные капиталы, и чтоб фабрики и заводы принадлежали только одним дворянам. Сие, господа депутаты, я называю помешательством, сиречь – затемнением умов фамильного просвещенного дворянства!.. – Хохлатые брови его задвигались, на мясистых щеках показались смешливые ямочки, а тенористый голос стал резок, язвителен: – И вот вам наглядная разница. Ежели строит фабрику купец, то окрестные крестьяне от нее всякое удовольствие имеют: продают лес, камень, доски, нанимаются за добрую плату на постройку, а когда фабрика открыта, идут работать за порядочные деньги. Ну ежели барин строит фабрику, крестьяне должны с плачем да с воплем доставлять ему все материалы задаром и служить ему на этой фабрике всю жизнь безденежно, и единое поощрительство сим бедным – тумаки да плети…
Так, во взаимных обличениях представителей противоположных интересов проступала правда о тяжелой судьбе раба-крестьянина.
– Господа депутаты! – восклицает купец Попов, окидывая умным взором всю Грановитую палату. – Ежели сия несуразица, которую выставляют фамильные столбовые дворяне, будет утверждена законом, вся отечественная коммерция придет в упадок и разорение.
Заключая речь, он приводит по пунктам свое мнение. В пятом и шестом пунктах говорится:
– Дворянину не позволять торговать и ни у кого не покупать купеческое право. Владеть фабриками и разными коммерческими промыслами дворянам, по их званию, несвойственно и непристойно… (На губах князя Щербатова заиграла улыбка, но глаза стали напряженны, злы.) И ежели кто из дворян вступит в торговый промысел, – продолжает купец Попов, рубя ладонью воздух, – то есть будет перекупать и продавать, то все перекупное конфисковать в казну!
Графы Шувалов, Воронцов, Ягужинский и другие, имеющие горные заводы и весьма склонные к коммерческим делам, злобно уставились на Попова, а Ягужинский, не без ехидства, громко сказал:
– Ого! Новый законодавец в чуйке…
Однако купец был не из трусливых, он насквозь видел ничего не смыслящих в коммерции, бездарных вельмож, кои, под покровительством императрицы, алчно тянутся к несвойственным им источникам наживы, чтоб чрез меру роскошествовать и сорить добытыми без труда капиталами. Купец люто ненавидел их.
– Это не токмо мое мнение, господа великие дворяне, но такожде думает и все почтенное купечество, доверившее мне свой голос. Уж не прогневайтесь, – спокойно произнес он. – И уж к слову молвлю: нам, природным купцам, мешают заниматься отечественной промышленностью не токмо дворяне, но и разночинцы, но и крестьяне. И мы, купцы, в наказе постановили: те из крестьян и разночинцев, кои пожелают пользоваться купеческим правом, должны записаться в купечество навечно.
Поднялся купец Забрев и начал читать наказ тульского купечества. Он высок и тощ, личико маленькое, голое, волосы на прямой пробор свисают к ушам крышей, голос пискливый. Слушая его, депутаты улыбались. Тульские купцы просили разрешения покупать им «для домовых нужд крепостных безземельных людей по три человека мужеска пола, а женска по препорции числа оного». Со стороны купцов были просьбы и курьезные, вызвавшие веселые ухмылки и даже смех собрания. Забрев, покашливая, пискливо читал:
– За бой и бесчестие купца штраф повелеть умножить. А именно: ежели в драке вырвут бороду купцу первой гильдии – штраф сто рублен, за бороду второй гильдии – пятьдесят рублей, а за бороду третьей гильдии – тридцать два рубля с полтиной.
Граф Алексей Орлов при этих словах схватился за бока, запрокинул голову и, округлив рот, сначала, как в страшном удушье, засипел, затем, не в силах сдержаться, раскатился басистым хохотом. Маршал, улыбаясь глазами, схватил звонок и предостерегающе зазвонил. Между тем в переднем ряду кресел поднялся все тот же князь Щербатов. Указав на стремление Петра Великого привести внешнюю торговлю России в цветущее состояние, князь загремел в сторону купцов:
– Отвечали ль купцы таким попеченьям? Учредили ль они конторы в других государствах? Посылали ль они своих детей за границу учиться торговле? Нет! Они ничего этого не сделали.
Наряду с эффектными фразами полемического порядка князь Щербатов высказал и немало трезвых либеральных мыслей.
– Если мы рассмотрим самое употребление и жизнь фабричных работников, то увидим, что, кроме небольшого числа мастеров, которые, для того чтобы они не показывали своего искусства посторонним, содержатся у купцов, как невольники, кроме, говорю, этих мастеров прочие работники находятся в весьма худом состоянии как относительно их содержания, так и нравственности. Самый этот столичный город Москва может свидетельствовать о пьянстве, о распутном состоянии людей, оставленных без всякого попечения о нравственной их стороне. А посему… – Князь сделал паузу и, набрав в легкие воздуху, громогласно закончил: – Надлежало бы внушить фабрикантам, чтоб они своих работников мало-помалу старались делать вольными за хорошее поведение и за лучшее знание искусства.
С особой силой Щербатов обрушился на тульских купцов за их притязания покупать для себя крепостных.
– Обратим взоры наши на человечество и устыдимся об одном помышлении дойти до такой суровости, чтобы равный нам по природе сравнен был со скотом и поодиночке был продаваем. Древние времена приводят нас в ужас, когда вспомним, что людей, как скотину, на торгах продавали.
– И поныне за милую душу продают! – крикнул, сверкая глазами, сотник Падуров.
– Сему не верю, – обернулся князь к говорившему. – Где доказательства?
– Князь! Почитайте объявления в газетах о продаже людей, – выкрикнул казачий полковник Миронов.
Князь Щербатов, капризно наморщив высокий лоб, согласно кивнул головой Миронову и с еще большим воодушевлением продолжал:
– Разность случая возвела нас на степень властителей над крестьянами, однако мы не должны забывать, господа депутаты, что и они суть равные нам создания, – он облизнул пересохшие губы и с пафосом воскликнул: – Какое сердце не тронется, глядя на истекающие слезы несчастного проданного, оставляющего и место своего жилища и тех, кем рожден и с кем привык всегда жить! Кто не сжалится на вопль, на слезы остающихся? Я не сомневаюсь, господа депутаты, что почтенная Комиссия наша узаконит запрещение продавать людей поодиночке, без земли[47]47
Продажа крестьян без земли практиковалась в продолжение всего царствования Екатерины II. – В.Ш.
[Закрыть].
С возражением князю Щербатову дружно выступили купцы, они горячо защищали свои интересы, однако ни один из них не был столь красноречив, как он, и никто не располагал таким запасом всевозможнейших коммерческих сведений.
Во время перерыва заседания купец Солодовников, депутат города Тихвина, потряхивая длинной бородой, сказал князю Щербатову:
– Ты, князюшка, хоть и многонько лишнего говоришь по своей горячности, зато много и правды про нашего брата. С тобой спор вести трудно, потому как ты, ваше сиятельство, разумными рассуждениями отменно одарен от бога.
Князь Щербатов в ответ схватил купца в охапку и простодушно трижды поцеловал его. Оказанной при всем народе такою честью долгобородый купец немало смутился, он не знал от радости, что делать, и не изыскал ничего более лучшего, как всыпать в треугольную с плюмажем шляпу князя Щербатова пригоршню каленых орехов, которые очень любил и всегда таскал с собой.
Прения по вопросам торговли и промышленности затянулись на несколько заседаний. Это была борьба сословных притязаний, стремление двух наиболее многочисленных депутатских групп – дворянства и купечества – «отграничиться друг от друга с наибольшей выгодой каждого за счет другого».
4Екатерина, живущая в Головинском дворце за Яузой, чрез доклады Бибикова и других была точно осведомлена о всем происходящем в Грановитой палате. Она направляла ход заседаний в нужное ей русло и не раз высказывала Бибикову явное неудовольствие к речам князя Щербатова, к которому издавна относилась с неприязнью.
Недовольна она была и самим Бибиковым, превосходным воякой, но незадачливым и неумелым руководителем депутатских заседаний. Он нередко путал ведение дел, усложнял простые вопросы, а вопросы сложные непозволительно комкал: то зря придирался к депутатам, требуя от них, как от школьников, степенного поведения и тишины, то чрезмерно распускал вожжи.
Живя в Москве, Екатерина занималась сложными делами империи. Так, в начале 1768 года ее указами был учрежден Государственный ассигнационный банк и, впервые в России, выпущены бумажные деньги. Это важное мероприятие, разработанное при участии Вольного экономического общества, послужило большим подспорьем торговле и промышленности.
В том же году введено обязательное для всей страны оспопрививание. Натуральная оспа причиняла России большие бедствия. Темное население даже столичных городов упорствовало в прививке оспы, считая надрезы на руке печатью антихриста. Екатерина, показав пример другим и вопреки уговорам Григория Орлова не делать этого, первая привила себе оспенный яд.
Екатерину немало тревожило настроение умов крестьянской массы в связи с протекающей работой Большой Комиссии. Она получила много подметных анонимных писем. Изливая в них всяческую покорность и любовь к императрице, крестьяне спрашивали ее, когда же депутаты приступят к мужичьим делам: вот уж полгода прошло, а ни земли, ни воли крестьянам-де не дают. И ежели матушку в этих делах теснят великие баре да помещики, то пускай-де матушка только пресветлым оком поведет, а уж они, крестьяне, с дворянами-то рассчитаться всегда рады. Иные же письма содержали в себе явную угрозу по адресу самой Екатерины: мы-де надеялись на тебя, как на свою защиту, как на стену нерушимую, только, по всему видать, что ты-де стакнулась со дворянами.
Екатерина строго-настрого приказала держать самое тщательное наблюдение за проживавшими в Москве крестьянами, болтунов схватывать, а праздношатающихся выдворять вон. Григорий Орлов ей нашептывал:
– Вот, матушка Катенька, заварила ты кашу на свою голову с Наказом со своим да с Комиссией-то с этой. Наобещала в Наказе-то мужикам с три короба, вот теперь и расхлебывай.
– Все сумнительное в Наказе вымарано, – возражала Екатерина.
– Оно так, матушка, вымарано. Только ты ведь два года его сочинять изволила, а молва-то шла. Ты думаешь, что такие Сумароковы да братцы Панины не трепали языком. Трепачи первые… Они, матушка, радехоньки живьем тебя скушать. Вот, помяни мое слово, бунты пойдут.
Екатерина уже не рада была своей затее с Наказом и Комиссией. И стала изыскивать благовидный предлог к скорейшему прекращению своих широких, но бесплодных начинаний.
Во внутренних губерниях было снова неспокойно. После открытия Большой Комиссии крестьянские волнения прекратились, народ терпеливо стал ожидать улучшений своей участи, однако, потеряв надежду, озлобленное крестьянство опять стало выходить из повиновения помещикам, иногда прибегая к самой последней крайности – убийству своих господ.
Сенат доносил Екатерине, что повсеместно расплодилось множество воров, бродяг, разбойников и что в приволжских губерниях стало опасно передвигаться без охраны.
Наличию разбойничьих шаек удивляться не приходится: разбойники сами собой из недр земли не появлялись, их плодили своими действиями сами же помещики. Но великому удивлению подобно то обстоятельство, что в самом центре Москвы, под носом у местных властей и на виду у всего московского народа, вот уже семь лет безнаказанно существовал в своей берлоге самый кровавый, самый отъявленный разбойник.
Злодеяния этого разбойника были хорошо известны российскому правительству и самой Екатерине.
Имя и звание этого разбойника – знатная помещица Дарья Николаевна Салтыкова, а в просторечье – «Салтычиха-людоедка».
Глава VI
«Мучительница и душегубица»[48]48
Все сведения в этой главе о злодеяниях Дарьи Салтыковой взяты из официальных того времени источников. – В.Ш.
[Закрыть]
1Владетельница многих деревень, она жила в собственных палатах на углу Кузнецкого моста и Лубянки; убийства совершала либо в этом доме, либо в своем подмосковном сельце Троицком, где проводила летние месяцы.
Овдовев в 1756 году и имея двадцать пять лет отроду, она делается полноправной хозяйкой и начинает терзать своих подданных. Она истязала людей не ради каких-либо страшных с их стороны преступлений, а за самые пустячные проступки: то женщины якобы плохо вымоют пол, то не чисто выстирают белье или грубовато ответят помещице.
Был у нее конюх Ермолай Ильин. Она убила у него жену. Он женился во второй раз. Она убила и вторую жену его. Спустя время он женился в третий раз. Салтычиха собственноручно – скалкою и поленом – убила и третью жену его, Федосью.
Это убийство произошло в Москве, священник хоронить Федосью отказался. Салтычиха велела везти тело в сельцо Троицкое и там закопать. А мужу убитой пригрозила:
– Ты хоть и в донос на меня пойдешь, – знаю, голубчик, знаю! – только ничего не сыщешь. В Сыскном приказе тебя кнутом выдерут и на каторгу сошлют.
Ездила разбойница на богомолье в Киев. На возвратном пути остановилась в одном из своих имений – Вокшине, где и убила девку свою Марью Петрову. Сначала якобы за нечисто вымытые полы Салтычиха принялась бить Марью тяжелою скалкою. Натешившись, приказала гайдуку Богомолову драть ее езжалым кнутом. Затем замученную девушку загнали в пруд, а был ноябрь, вода с краев в пруду подмерзала. Обезумевшая, с полчаса простояла несчастная в ледяной воде по горло. Салтыкова приказала ей снова перемыть полы, но Марья работать уже не могла, а только тряслась и стонала. Разбойница добила ее палкой с гвоздями. Марья туг же в хоромах испустила к вечеру дух.
В разные сроки и в разных местах – то в Москве, то в Троицком – были таким же образом убиты еще шесть девушек; младшей из них, Паше Никитиной, всего двенадцать лет.
Замужнюю Прасковью Ларионову Салтычиха собственноручно била железною клюкою и поленом, а гайдук с конюхом добивали батожьем. Барыня кричала из окна:
– Бейте до смерти!.. Я в ответе. Хоть от вотчин своих отстать готова, а вас вышколю!. Никто ничего сделать мне не может…
Тело замученной, прикрыв рогожей, повезли из Москвы в Троицкое; на тело, по приказу Салтыковой, положили грудного ребенка убитой; дорогой ребенок замерз на трупе матери.
Так же зверски были изничтожаемы и мужчины.
2Зимний вечер, небо шершавое, низкое, серое. Начинал пошаливать поземок, предвестник вьюги.
В старомодном возке подкатила к своему дому Дарья Салтыкова, возвратившись от всенощной из Успенского кремлевского собора. Прибежавшая дворня повалилась ей в ноги:
– С наступающим праздничком, матушка-барыня!
Она в ответ только фыркнула и, сплюнув в сугроб, вступила в хоромы. Девки, едва дыша от страха, бросились снимать с нее соболий салоп, бегали по горницам со свечами, зажигали люстры, канделябры. Печи крепко натоплены, цветные дорожки постланы гладко, птички в клетках спят.
Кормилица Василиса да спальная девушка Аксинья повели ее под руки к накрытому у печки чайному столу, где мурлыкал и пофыркивал серебряный самовар.
Дарья Николаевна, тряхнув локтями и грубо бросив женщинам: «Дуры!», вырвалась из их рук, тяжелой ныряющей походкой приблизилась к переднему углу и стала истово креститься на большую позлащенную икону, пред которой мерцали три лампады, освещавшие сутулую, раздобревшую фигуру Салтычихи. Ей всего тридцать лет, но на вид она много старше. Выражение темного скуластого лица ее злое, отталкивающее. Влажный рот велик, нос горбат, глаза выпучены. Под кружевным чепцом копна черных волос, над вздернутой губой – небольшие усы. Всякий в доме знает, что она никогда не улыбается. Она почти ни с кем не водит компании, любит водку, но пьет ее в мрачном одиночестве. Взор ее по часам задумчив – и тогда живая мысль в нем отсутствует, – или грозен и яростен, тогда зрачки расширяются, глаза полны бешенства, всем слугам становится страшно.
В этом проклятом доме никто не видит себе покоя. Все чувствуют себя бесправными, беззащитными, приговоренными к смерти, всяк ждет своей очереди. Были случаи, что из страха пред ожидаемыми истязаниями иные лишались рассудка – кончали с собой.
– Господи, прости меня грешницу, – говорит благочестивая Салтычиха и крестится.
Крестятся и стоящие сзади нее Василиса с Аксиньей.
Сделав пред иконой земной поклон и припав лбом к полу, Салтычиха вдруг заорала:
– Пол! Ах, дьяволы… Опять, опять погано вымыли… Вот я ж их!..
– Бабы дресвой мыли, матушка-барыня, да с мыльцем… Дважды, – робко пытается защитить поломоек пожилая кормилица.
– Молчать! Позвать сюда Хрисанфа.
И вот молодой крестьянин Хрисанф Андреев явился. Он сухощав, лицо белое с нежным девичьим румянцем, курчавая русая бородка, кроткие глаза. Болезненно развратная Салтычиха склоняла его к блудному греху, но тихий Хрисанф, будучи недавно женатым, от этого «содома» уклонился. Он был приставлен доглядывать за поломойками, соблюдающими чистоту в палатах. Да разве мужское это дело. Эх, барыня, барыня…
Он стоит на коленях пред грозной Салтычихой, испуганно смотрит ей в лицо. В загоревшихся глазах ее нет никакой к нему жалости, в них копится звериное бешенство. Хрисанф холодеет. «Отходили мои ноженьки – смерть…» – в ужасе думает он, и борода его жалко подрагивает.
При виде этого молодого смиренного мужика – очередной жертвы – у богобоязненной матушки-барыни все внутри затряслось.
– Ты чего ж, паскуда, столь нерадиво за бабами досматривал. А? Я что тебе приказала? А?
– Прошибся… Помилуйте… Только они старались, – сказал он покорным голосом, молитвенно складывая руки на груди. Если б он крикнул на мучительницу, если б вскочил и дал ей в ухо, это, может быть, привело бы разбойницу в чувство. Но пришибленный, тихий вид его и эти телячьи, умоляющие глаза сразу бросили Салтычиху в ярость. Она давно не забавлялась кровавыми утехами, сладострастие вмиг обуяло ее душу. Волчьи глаза ее перекосились, лохматые брови сдвинулись к переносице, взор помутился. Заскрежетав зубами, она схватил стул и ударила им Хрисанфа по голове. Хрисанф охнул, пал на четвереньки, побелел.
– Аксютка! Живо за Федотом… – выдохнула Салтычиха, сорвала с гвоздя увесистый арапник и сильной рукой стала драть обомлевшего крестьянина. Поднявшись на колени, он только встряхивал локтями и старался уберечь глаза: мучительница лупила арапником куда попало. Вот уже кровь проступила сквозь рубаху, сквозь штаны, и все лицо его было испачкано кровью. Тут Салтычиха, как хищная медведица, навалилась на него, мигом сорвала с него одежду и снова схватилась за окровавленный арапник.
Прибежал бородатый пожилой Федот, родной дядя истязаемого.
– Дядя! Дай защиту, беги в Сыскной приказ, – завопил голый, в чем мать родила, Хрисанф, плача и сморкаясь кровью.
– Бей насмерть! – закричала Салтычиха и бросила Федоту арапник.
Федот жалобно, как ребенок, захныкал и, боясь ослушаться, стал стегать племянника.
– Ах, ты мазать, старый черт, ты мазать?! – опять завопила Салтычиха. – Бей что есть силы! А то прикончу и тебя…
– Барыня… – жалобно скосоротился Федот и обронил арапник. – Уволь, матушка, ослобони… Силов нет… Ведь родной он… – Старик, охваченный горем и отчаяньем, стал как бы вне ума, он ползал в ногах у Салтычихи, совал ей нож, хрипел: – На ножик, на, на… Ведь все равно забьешь Хрисанфа, так уж полосни его в сердце ножом… Да и меня заодно… Ой, господи! И заступиться некому. Пропали мы!
Салтычиха, не помня себя, заметалась по горнице, схватила подвернувшийся утюг и ударила им Федота по голове, старик вскрикнул и лишился чувств. Она, закусив губы и выкатив глаза, вновь начала увечить Хрисанфа, норовя ударить его арапником по самым чувствительным местам. Хрисанф вертелся на полу, на весь дом визжал и выл. Василиса с Аксиньей, истерически всхлипывая, убежали.
Салтыхича, ничего не видя пред собой, кроме своей жертвы, уж не могла остановить себя. Не переставая, она наносила человеку смертельные удары то арапником, то утыканной гвоздями палкой.
Все во дворе и в страшном доме притаилось, будто вымерло. По пустынным горницам шли гулы от падающей мебели, от площадной ругани исступленной Салтычихи, от стонов и выкриков Хрисанфа.
Но вот Хрисанф затих и безжизненно распростерся рядом с безмолвным дядей.
Взмокшая от пота, забрызганная кровью Салтычиха, подбоченясь, безумно загоготала. Ныряющей походкой она подошла к шкафу, залпом выпила чайную чашку анисовой водки, сплюнула, покосилась на позлащенную с тремя лампадами икону, покосилась на тела замученных, прохрипела:
– А вот я ж вас подыму… Аксютка, Василиса!
Но никто не отзывался, было тихо, в черные стекла начавшаяся вьюга била, в печных трубах ветер завывал.
Тяжело пыхтя, Салтычиха докрасна раскалила на горящих в печке углях железные щипцы и, схватив ими едва живого Хрисанфа за ухо, посадила его. Смрад, дым, Хрисанф ник головой, постанывал, валился. Она обставила его стульями, чтобы не падал, и снова припекла ему лицо клещами. Он уже не мог ни стонать, ни защищаться.
– Разбойница… – еле внятно прошептал он и повалился навзничь.
– Ага, ага, заговорил… А вот я те покажу разбойницу, я те умою… – она схватила самовар и опрокинула кипяток на голову Хрисанфа. Забыв осторожность, она сильно ошпарила себе руки и ноги, но в припадке бешенства не почувствовала ожогов. Привалившись в угол между стеной и печкой, она запрокинула косматую голову и, как сом на песке, ловила ртом воздух. Мясистая грудь ее задышливо колыхалась, выпученные глаза полузакрыты, с мучительной гримасой на лице она скрюченными пальцами судорожно разрывала на себе ворот платья – разбойнице не хватало воздуху.
Кто-то дважды простонал – племянник или дядя.
Она вдруг вся съежилась, поджала к бокам локти. Колени ее дрожали, она едва держалась на ногах. Сделав над собой последнее усилие, она стремительно кинулась во двор.
– Эй, люди, люди! – дико орала она сквозь снежную метелицу. Очнувшегося Федота она велела приковать в бане на цепь, а едва живого, ослепшего, обваренного кипятком Хрисанфа выбросить на снег.
– Пусть валяется, пока не околеет. Я вам, сволочи! – загрозила она кулаком на дворню. Голос ее был чужой, не такой, как всегда, а надтреснутый, хриплый и, словно у заики, прерывистый.
А как все ушли и в горницах снова стало тихо – только вьюга лизала с улицы темные провалы окон, – она с жадностью выпила еще чашку водки, шатаясь, добралась по стенке до кровати, упала грудью в пуховики и навзрыд заплакала. Ее трясло, корчило, подбрасывало, как в сильнейшей лихорадке.
Вбежали со свечой бледные, перепуганные Василиса и Аксинья.
– Попа, попа… Отца Матвея со крестом… Пущай цирюльник придет… да кровь отворит мне… Молитесь, молитесь пуще… – Она металася, ляскала зубами.
Василиса, мысленно проклиная свирепую разбойницу, стала опрыскивать ее крещенской водой.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.