Читать книгу "Пятое Евангелие"
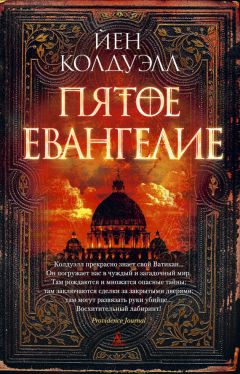
Автор книги: Йен Колдуэлл
Жанр: Зарубежные детективы, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Йен Колдуэлл
Пятое Евангелие
© Е. Кисленкова, перевод, 2017
© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2017
Издательство АЗБУКА®
* * *
Историческая справка
Посвящается Мередит. Наконец-то
Две тысячи лет назад из Святой земли вышли два брата, чтобы нести людям Евангелие. Святой Петр отправился в Рим и стал основателем западного христианства. Его брат, святой Андрей, поехал в Грецию и основал христианство восточное. На протяжении нескольких веков церковь, к созданию которой они приложили руку, оставалась единой. Но тысячу лет назад Запад и Восток разделились. Западные христиане стали католиками; их возглавил преемник святого Петра – папа римский. Восточные христиане стали православными. Возглавили их патриархи – преемники святого Андрея и других апостолов. Сегодня это две крупнейшие на земле христианские конфессии. Между ними возникла небольшая группа так называемых восточных католиков, которые стерли все различия, следуя восточно-христианским традициям, но подчиняясь папе.
Действие романа происходит в 2004 году, когда папа Иоанн Павел II высказал свою последнюю волю о воссоединении католицизма и православия. Это история о двух братьях, двух католических священниках – западном и восточном.
Пролог
Мой сын был слишком мал, чтобы понять идею прощения. Он рос в Риме, и поэтому ему казалось, что прощение заслужить легко – людям достаточно выстроиться у кабин-конфессионалов в соборе Святого Петра и дождаться своей очереди исповедоваться. Красные лампочки на кабинах то загораются, то снова гаснут, оповещая, что сидящий внутри священник закончил беседу с одним грешником и готов принять следующего. Вряд ли совесть пачкается так же сильно, как посуда или пол, думал мой сын, раз почистить ее можно намного быстрее. Поэтому каждый раз, когда Петрос слишком долго плескался в ванной, разбрасывал по полу игрушки или приходил из школы в запачканных штанишках, он просил о прощении. Раздавал оправдания, как папа – благословения. Первая исповедь моему сыну предстояла лишь через два года, и для этого имелись веские основания. Ребенок еще не понимает, что такое грех. Что такое вина. Покаяние. Священник порой отпускает грехи так быстро, что маленькому мальчику невозможно представить, как трудно ему однажды будет простить собственных врагов. Или близких. Он не подозревает, что добрые люди не всегда могут простить даже сами себя. И что самые суровые ошибки можно ис купить, но нельзя вернуть содеянного.
Надеюсь, моему сыну, в отличие от меня и моего брата, такие грехи навсегда останутся неведомы.
Мне на роду было написано стать священником. Священниками служили мой дядя и старший брат Симон, и я надеялся, что однажды по моим стопам пойдет и Петрос. Не припомню времени, когда я жил за пределами ватиканских стен. Петрос также проводит здесь всю свою жизнь.
Для окружающего мира существуют два Ватикана. Один – прекраснейшее место на земле: храм искусства и музей веры. Второй – закрытое общество католиков-мужчин, страна престарелых священнослужителей, которые сурово грозят всем грешникам вечными карами. Казалось бы, эти миры – неподходящее место для ребенка. Но в нашей стране всегда жило много детей – в семьях папских садовников, папских строителей, папских швейцарских гвардейцев. Когда я был ребенком, Иоанн Павел считал, что зарплата должна превышать прожиточный минимум, и поэтому платил надбавку за каждый новый рот в семье. Мы играли в прятки в его садах, в футбол с его служками, в пинбол над сакристией его базилики. Мы нехотя таскались с матерями в супермаркет и универмаг Ватикана, потом с отцами – на ватиканскую заправку и в ватиканский банк. Наша страна не больше поля для гольфа, но у нас были те же занятия, что и у большинства детей. Мы с Симоном прожили счастливое, вполне обычное детство. От прочих ватиканских мальчишек нас отличало только одно: наш отец был священником.
Он относился к греческим католикам, а не к римским, поэтому носил длинную бороду и особую сутану, отправлял не мессу, а божественную литургию, и перед рукоположением ему разрешалось жениться. Он любил говорить, что мы, восточные католики, – посланцы Бога, посредники, которые помогут воссоединить католиков и православных. На самом же деле быть восточным католиком – все равно что стать беженцем на пограничном переходе между двумя враждующими сверхдержавами. Отец пытался не показывать, какое бремя на него налагало это положение. В мире живет миллиард римских католиков, а в нашей, греческой конфессии – всего несколько тысяч, так что он оказался единственным женатым священником в стране, управляемой монашествующими мужчинами. Тридцать лет остальные ватиканские священники смотрели на отца свысока, а он лишь перекладывал для них бумажки. Только в самом конце карьеры он все же получил повышение, но такое, к которому прилагаются крылья и арфа.
Мать пережила его ненадолго. Рак, сказали врачи. Но что они понимали! Родители встретились в шестидесятых, в то краткое время, когда казалось, что возможно все. Они танцевали вдвоем в нашей квартире. Пережив период неодобрительных взглядов, они до конца жизни горячо молились вместе. Семья матери была римско-католической и уже больше века поставляла церкви священников, успешно взбиравшихся по ватиканской карьерной лестнице. Неудивительно, что, когда мать вышла замуж за косматого грека, семья отреклась от нее. После смерти отца мать как-то сказала мне, что ей странно чувствовать собственные руки – теперь, когда некому взять ее ладони в свои. Мы с Симоном похоронили ее рядом с отцом, позади ватиканской приходской церкви. О том времени я почти ничего не помню. Кроме того, что я день за днем прогуливал школу – вместо нее я отправлялся на кладбище, садился, обхватив колени руками, и плакал. А потом появлялся Симон и уводил меня домой.
Мы были еще подростками, и нас оставили на попечение дяди, ватиканского кардинала. Лучше всего описать дядю Лучо можно так: вставная челюсть, но сердце маленького мальчика. В качестве кардинала – председателя Ватикана лучшие годы жизни Лучо потратил на сведение государственного бюджета и на то, чтобы не дать ватиканским служащим образовать профсоюз. По экономическим соображениям он не хотел финансово поощрять семьи за многодетность, и даже если бы у него было время воспитывать осиротевших сынишек сестры, он бы, наверное, отказался из принципа. Так что он не возражал, когда мы с Симоном вернулись в родительскую квартиру и решили заботиться о себе сами.
Я был еще слишком мал, чтобы зарабатывать на жизнь. Симон на год прервал учебу в колледже и устроился на работу. Ни он, ни я не умели ни приготовить еду, ни зашить дырку, ни починить кран, и Симон всему научился сам. Это он будил меня в школу и давал деньги на школьные завтраки, следил, чтобы у меня была чистая одежда и горячая еда. Премудростям службы министранта я выучился только благодаря ему. Каждый католический мальчик в самые тоскливые ночи своей жизни задается вопросом: стоят ли такие существа, как мы, хотя бы той грязи, из которой Бог создал людей? Но в мою жизнь, в мою тьму Бог послал Симона. Неправильно говорить, что мы вместе пережили трудное детство. Это он пережил, а меня пронес через трудности на своем горбу. Меня так и не покинуло чувство, что долг мой чрезмерно велик и я его не выплачу никогда. Разве что – этот долг мне простят. Для брата я готов был на все, что в моих силах.
Абсолютно на все.
Глава 1
Дядя Симон опаздывает? – спросил Петрос.
Наша экономка сестра Хелена, наверное, подумала о том же, наблюдая, как переваривается хек в кастрюле. Брат должен был приехать десять минут назад.
– Ничего страшного, – сказал я. – Лучше помоги накрыть на стол.
Петрос словно не слышал. Он вскарабкался на сиденье стула, встал на колени и заявил:
– Мы с дядей Симоном пойдем смотреть кино, потом я в «Биопарко»[1]1
Зоопарк в Риме. (Здесь и далее – примечания переводчика.)
[Закрыть] покажу ему слона, а потом он меня научит марсельской рулетке.
Стоявшая у плиты сестра Хелена укоризненно покачала головой. Она решила, что марсельская рулетка – это нечто из области азартных игр. Петрос пришел в ужас. Воздев руку и приняв позу волшебника, творящего заклинание, он произнес:
– Это же такой прием ведения мяча! Как Рональдо!
Симон летел в Рим из Турции на выставку, куратором которой выступал наш общий друг, Уго Ногара. До открытия выставки оставалась почти неделя, и планировалось оно как торжественное событие. Я сам бы не добыл билет, если бы не работал с Уго. Но под крышей этого дома мы жили во вселенной пятилетнего мальчишки. Ну конечно же дядя Симон ехал домой именно для того, чтобы давать уроки футбольного мастерства.
– В жизни есть занятия поважнее, чем пинать ногой мяч, – проворчала сестра Хелена.
Она взяла на себя обязанность выступать в качестве голоса женской мудрости. Когда Петросу исполнилось одиннадцать месяцев, моя жена Мона оставила нас. С тех пор эта чудесная старая монахиня помогала мне в нелегком отцовском труде. Ее нам на время одолжил дядя Лучо, в чьем распоряжении была целая армия монахинь. Я с трудом представлял себе, что бы делал без Хелены, ибо мне не по карману нанять даже какую-нибудь толковую девчушку-подростка, не рассчитывающую на серьезное жалованье. К счастью, сестра Хелена так полюбила Петроса, что и сама не оставила бы его ни за что на свете.
Сын скрылся у себя в комнате и вернулся с электронным будильником в руках. С непосредственностью, унаследованной от матери, Петрос поставил часы передо мной и указал пальцем на цифры.
– Солнышко, наверное, поезд отца Симона опаздывает, – попыталась унять его Хелена.
Поезд. А не дядя. Потому что Петросу пока невдомек, что с Симона станется забыть деньги на проезд или заболтаться с незнакомыми людьми. Мона даже отказалась назвать нашего сына Симоном, поскольку считала брата взбалмошным. И пусть он занимал самую престижную должность, на которую может рассчитывать молодой священник, – работал дипломатом в Государственном секретариате Святого престола, считался элитой католического чиновничества! – на самом деле ему требовалась гораздо более напряженная работа. Как все мужчины по материнской линии в нашей семье, Симон был римско-католическим священником, а значит, не мог жениться и заводить детей. И в отличие от прочих ватиканских священников, которым от рождения судилось сидеть за письменным столом и отращивать внушительный животик, он обладал мятущейся душой. Мона благоразумно хотела, чтобы наш сын пошел в своего надежного, неспешного, довольного жизнью отца. Так что мы с ней, выбирая сыну имя, пошли на компромисс: в Евангелиях Иисус встречает рыбака по имени Симон и дает ему имя Петр.
Я достал мобильный и отправил Симону сообщение: «Ты далеко?», а Петрос тем временем осмотрел содержимое кастрюли.
– Хек – это рыба! – заявил он ни с того ни с сего.
По возрасту он как раз проходил стадию категоризации. А еще ненавидел рыбу.
– Симону это блюдо нравится, – сказал я Петросу. – В детстве мы его часто ели.
Вообще-то, в детстве была треска, а не хек. Но зарплата одинокого священника позволяет из всего рыбного рынка замахнуться лишь на хека. Да еще, как часто напоминала мне Мона, когда намечался очередной совместный обед, мой брат – на голову выше любого священника в городских стенах и поэтому ест за двоих.
Сейчас Мона занимала мои мысли больше, чем обычно. Приезд брата каждый раз воскрешал мрачные воспоминания об отъезде жены. Эти два человека – магнитные полюса моей жизни; в мыслях об одном всегда незримо присутствовала тень другого. С Моной мы познакомились еще в детстве, за ватиканскими стенами, и встреча в Риме показалась обоим Божьим Провидением. Но нам пришлось ставить телегу впереди лошади: восточные священники должны жениться до рукоположения или не жениться вовсе. Хотя – оглядываясь назад – Моне не помешало бы побольше времени, чтобы подготовиться к семейной жизни. Ноша ватиканской жены нелегка. Жизнь жены священника – еще тяжелее. Мона работала на полную ставку почти до самого рождения нашего голубоглазого малыша. Петрос ел, как акула, а спал гораздо меньше ее. Мона так часто кормила ребенка, что, восполняя силы, нередко оставляла мне пустой холодильник.
Выяснилось все позднее. Холодильник опустел оттого, что Мона прекратила ходить в магазин. Я не замечал, потому что жена к тому же перестала регулярно питаться. Она меньше молилась, реже пела Петросу. Где-то за три недели до первого дня рождения нашего сына она исчезла. В дальнем углу серванта я обнаружил тщательно запрятанный пузырек с таблетками. Врач службы здравоохранения Ватикана объяснил мне, что она пыталась справиться с депрессией. «Нельзя терять надежду», – сказал он. И мы с Петросом ждали, что Мона вернется. Ждали и ждали…
Сейчас Петрос божится, что помнит ее. Но на самом деле эти воспоминания взялись из фотографий, которые он видел повсюду в квартире. Петрос расцвечивал их знаниями, почерпнутыми из телешоу и журнальных реклам. Он еще не заметил, что женщины у нас, в греческой церкви, не пользуются ни помадой, ни духами. К сожалению, выглядело все так, словно он попал в Римско-католическую церковь: во мне он видел одинокого, как будто связанного обетом безбрачия священника. Непростой период самоосознания ему еще предстоял. Но в молитвах мальчик постоянно упоминал маму, а мне рассказывали, что так же делал в юном возрасте Иоанн Павел, когда потерял мать. Эта мысль утешала.
Наконец телефон зазвонил. Я так поспешно рванулся к трубке, что сестра Хелена улыбнулась.
– Алло?
Петрос с тревогой следил за мной.
Я рассчитывал услышать звуки метро или, еще хуже, аэропорта. Но ошибся. Голос на другом конце был еле слышен, звучал откуда-то издалека.
– Си? – спросил я. – Это ты?
Кажется, он меня не услышал. Плохая связь. Наверное, Симон ближе к дому, чем я ожидал: на ватиканской территории сигнал плавал.
– Алекс! – расслышал я.
– Да?
Он снова заговорил, но звук утонул в помехах. Мне пришло в голову, что Симон мог завернуть в Музеи Ватикана, повидаться с Уго Ногарой, который в поте лица ведет последние приготовления к своей грандиозной выставке. Петросу я бы такого никогда не сказал, но это вполне в духе моего брата: по дороге домой найти еще одну душу, нуждающуюся в утешении.
– Си, – сказал я, – ты в музеях?
В углу обеденного стола притих Петрос, терзаемый напряженным ожиданием.
– Он с господином Ногарой? – шепотом спросил сын у Хелены.
Но на другом конце что-то произошло. На меня обрушилось шипение, в котором я узнал порывы ветра. Симон стоял на улице. И по крайней мере – тут, в Риме, где сейчас бушевала буря.
На мгновение звук прояснился.
– Алекс, приезжай за мной.
От его голоса у меня по спине побежали мурашки.
– Что случилось? – спросил я.
– Я в Кастель-Гандольфо. В Садах.
– Что ты там делаешь?! – воскликнул я.
Снова оживился ветер, но микрофон донес другой непонятный звук. Словно брат застонал.
– Алекс, я прошу тебя, – сказал Симон. – Приезжай сейчас же. Я… Я у восточных ворот, под виллой. Надо, чтобы ты добрался сюда раньше полиции.
Мой сын замер, глядя на меня. Бумажная салфетка соскользнула у него с колен и медленно спланировала на пол. Она походила на белую шапочку папы, которую сорвал ветер. Сестра Хелена с тревогой наблюдала за мной.
– Стой там, – сказал я Симону.
И отвернулся, чтобы Петрос не увидел моих глаз. Потому что в голосе брата я услышал то, чего никогда там раньше не бывало. Страх.
Глава 2
Я ехал в Кастель-Гандольфо, навстречу несущейся на север буре. Дождь бесновался, капли прыгали по булыжникам мостовой, словно блохи. Когда я выбрался на шоссе, ветровое стекло звучало как барабан, в который бьют небеса. Автомобили притормаживали и съезжали на обочину. Созвездие красных огоньков на дороге таяло, и мои мысли обратились к брату.
В детстве Симон запросто мог во время грозы полезть на дерево, чтобы снять бездомную кошку. Как-то раз ночью на пляже в Кампанье он на моих глазах заплыл в стаю светящихся медуз, чтобы вытащить на берег девочку, которую унесло течением. Однажды зимой – ему тогда было пятнадцать, а мне одиннадцать – я пошел к нему в сакристию собора Святого Петра, где он служил министрантом. Он обещал отвести меня в город подстричься, но когда мы выходили из базилики, через окошко в куполе, расположенное на высоте около двухсот футов, внутрь влетела птица – до нас донесся глухой звук, с которым она упала на балкон. Симону понадобилось непременно ее увидеть, и мы побежали вверх по всем этим шести миллионам ступенек и очутились перед узким мраморным выступом. Он описывал круг над главным алтарем, и от бездны нас отделял только поручень. На выступе бил крыльями голубь. Он кружился, выкашливая маленькие, темные, как чернила, пятнышки крови. Симон подобрался и взял птицу на руки. И в этот миг кто-то закричал: «Стой! Не приближайся!»
Напротив, опираясь об ограждение, стоял мужчина. И смотрел на нас налитыми кровью глазами. Вдруг Симон со всех ног помчался к нему.
«Синьор, нет! – кричал он. – Не надо!»
Человек занес ногу над ограждением.
«Синьор!»
Даже если бы Бог дал Симону крылья, брат не успел бы. Человек наклонился вперед и отпустил поручень. На наших глазах он пронзал собор Святого Петра, как булавка бабочку. Снизу доносился голос гида: «…бронза украдена из Пантеона…» – а человек все падал, став уже маленьким, размером с ресницу. Наконец раздался крик, и во все стороны брызнула кровь. У меня подогнулись ноги, я сел на пол и не пошевелился до тех пор, пока не подошел Симон и не поднял меня.
Всю жизнь я не мог понять, почему Бог направил птицу в то окно. Может, хотел показать Симону, как это бывает, когда что-то словно утекает сквозь пальцы. На следующий год умер отец, так что, возможно, урок нельзя было откладывать. Но последняя картинка, которая запечатлелась у меня в памяти с того дня, пока рабочие не погнали всех прочь из собора, – это Симон, неподвижно стоящий на балконе с вытянутыми вперед руками. Казалось, он пытается подбросить птицу в воздух, словно это так же просто, как поставить вазу на полку.
В тот день священники переосвятили собор Святого Петра – так делается каждый раз, когда прыгает вниз очередной паломник. Но никто не в состоянии переосвятить ребенка. Две недели спустя наш регент влепил Симону оплеуху за фальшивое пение, а тот выскочил из ряда и дал регенту сдачи. Целых три дня занятий хора не было, пока мои родители пытались заставить Симона извиниться. До этого он всегда был само послушание. А теперь заявил, что лучше бросит занятия, чем извинится. Отсчет истории нашего с ним взросления я веду именно оттуда. Весь характер моего брата, насколько я его знаю, вырос именно из этого мгновения.
Десятилетие жизни Симона между поступлением в колледж и началом дипломатической подготовки выдалось для Италии непростым. Бомбардировки и убийства времен нашего детства почти прекратились, но в Риме шли бурные протесты против бессильного правительства, которое увязло в собственной коррумпированности. Во время учебы в колледже Симон ходил со студентами на марши протеста. Когда обучался в семинарии, участвовал в демонстрациях солидарности с рабочими. К тому времени, когда его пригласили на дипломатическую службу, мне казалось, что дни бунтарства уже позади. Но потом, три года назад, в мае 2001 года Иоанн Павел решил отправиться в Грецию.
Это была первая за тринадцать веков поездка папы римского на нашу родину, и наши соплеменники не слишком ему радовались. Почти все греки – православные, а Иоанн Павел хотел положить конец расколу между нашими церквями. Симон поехал, чтобы собственными глазами увидеть, как это произойдет. Впрочем, смысла во вражде мой брат никогда не видел. От нашего отца он унаследовал чуть ли не протестантское пренебрежение к приговору истории. Православные обвиняют католиков в жестоком обращении во всех войнах, начиная с Крестовых походов и заканчивая Второй мировой. На католиков возлагают вину за то, что те соблазнили часть православных христиан уйти от церкви предков к новой, эклектичной форме католицизма. Само существование восточных католиков оскорбляло некоторых православных, а Симон все равно не мог понять, почему его родной брат, грекокатолический священник, отказался ехать с ним в Афины.
Беда прибыла в Грецию раньше Симона. Когда разнеслась весть, что Иоанн Павел собирается ступить на землю эллинов, греческие православные монастыри отзвонили панихиду. Сотни православных вышли на улицы с протестом, неся транспаранты с надписями: «Архиеретик» и «Двурогое исчадье Рима». Был объ явлен общенациональный день траура. Симон, который договорился о ночлеге в доме священника при грекокатолической церкви, где когда-то служил отец, приехав, обнаружил, что православные реакционеры исписали всю дверь аэрозольной краской. Вызывать полицию было бессмысленно. Брат наконец понял, какое безнадежное дело ему суждено защищать.
В ту ночь кучка православных радикалов ворвалась в церковь и помешала литургии. Но было жестокой ошибкой с их стороны сдергивать сутану с приходского священника и топтать антиминс – освященный плат, который превращает стол в алтарь.
В брате целых шесть с половиной футов росту, и его стремление защитить слабых и беззащитных только возрастало от понимания того, что он больше и сильнее всех, кто попадается на его пути. Симон едва помнил, как вытолкал православного из святого места, пытаясь спасти грекокатолического священника. Православный же заявил, что Симон швырнул его на землю. Греческая полиция утверждала, что брат сломал ему руку. Симона арестовали. Его новому работодателю – Государственному секретариату Святого престола – пришлось договариваться о немедленном возвращении своего сотрудника в Рим. Поэтому Симону не довелось воочию увидеть, как с подобными враждебными выпадами, только с гораздо большим успехом, справился Иоанн Павел.
Греческие православные епископы говорили с Иоанном Павлом подчеркнуто пренебрежительно. Он не роптал. Его осыпали оскорблениями. Он не защищался. Те потребовали, чтобы он принес извинения за католические грехи многовековой давности. И Иоанн Павел, выступая от имени миллиарда живых душ и неизмеримого числа погибших католиков, извинился. Православные настолько удивились, что согласились на то, от чего до сей минуты отказывались: встать рядом с ним на молитву.
Я надеялся, что поведение Иоанна Павла в Афинах благотворно повлияло на дальнейшие поступки Симона. Еще один урок, ниспосланный небесами. С тех пор Симон стал совсем другим человеком. Так я твердил себе, пока ехал из Рима на юг, в самое сердце бури.
В отдалении показался Кастель-Гандольфо: длинный холм, возвышающийся над бескрайними полями для гольфа и стоянками подержанных автомобилей, которые тянулись вдоль дороги на юг от предместий Рима. Две тысячи лет назад это были места для увеселения императоров. Папы римские всего несколько веков тому назад стали проводить здесь лето, но этого оказалось достаточно, чтобы земля официально считалась продолжением нашей страны.
Я объехал вокруг холма и увидел у подножия скалы машину карабинеров – итальянских полицейских из участка, находившегося по ту сторону границы. Они покуривали, ожидая, пока отбушует буря. Но там, куда направлялся я, законы Италии не имели силы. Ватиканской полиции под хлещущим дождем я не увидел, и сжавшийся в груди комок начал ослабевать.
Я припарковал «фиат» в том месте, где склон холма опускается в озеро Альбано, и, прежде чем выйти на дождь, набрал номер. На пятом звонке ответил угрюмый голос:
– Pronto[2]2
Алло (ит.).
[Закрыть].
– Гвидо Маленький? – спросил я.
Тот фыркнул.
– Кто это?
– Алекс Андреу.
Гвидо Канали, сын механика ватиканской электростанции, был моим другом детства. В стране, где зачастую единственное требование для получения места – родство с человеком на той же должности, Гвидо не смог найти себе ничего лучшего, чем ковырять лопатой навоз на папской молочной ферме здесь, на холме. Он вечно ждал каких-нибудь благотворительных раздач. И хотя наши пути с давних пор не пересекались совсем не случайно, сейчас мне самому очень была нужна помощь.
– Уже просто Гвидо, – вздохнул он. – Умер мой старик в прошлом году.
– Соболезную.
– Стало быть, один я остался, из нас двоих. Чем обязан?
– Я тут рядом, и у меня к тебе просьба. Можешь открыть мне ворота?
По его удивленному голосу стало понятно: про Симона он не подозревает. И это к лучшему. Мы заключили уговор: два билета на открытие выставки – Гвидо знал, что я могу их достать через дядю Лучо. Даже последний лентяй и сноб в нашей стране хотел увидеть, что сделал мой друг Уго. Я отключился и пошел по темной тропинке вверх на холм к нашему месту встречи. Ветер усилился и дул с тем высоким свистящим звуком, который я слышал у Симона в трубке.
Я удивился – и поначалу вздохнул с облегчением, – когда не увидел никаких признаков беды. Каждый раз, когда я забирал брата из полиции, он оказывался участником беспорядков. Но здесь – ни жителей, собравшихся в пикет на площади, ни ватиканских служащих, вышедших на демонстрацию с требованием повышения жалованья. Летний дворец папы в северной оконечности городка выглядел заброшенным. На его крыше поднимались два купола Ватиканской обсерватории, словно шишки, вырастающие на голове персонажей мультиков, которые смотрит по телевизору Петрос. Вокруг настолько спокойно, что все будто вымерло.
Уединенная аллея вела от дворца к папским садам. У ворот я увидел огонек сигареты, прячущейся в чьем-то темном кулаке, он крохотным эльфом порхал в темноте.
– Гвидо?
– Времечко ты выбрал для прогулок… – проворчала сигарета и упала в лужу, умирая. – Иди за мной.
Когда глаза привыкли к темноте, я увидел, что он в точности похож на покойного Гвидо Большого: приплюснутый нос, широкая, как у жука, спина. От физического труда он возмужал. В телефонной книге Ватикана полно людей, которых мы с Симоном знали еще в детстве, но среди них мы чуть ли не единственные священники. У нас здесь кастовая система, и люди с пониманием своей значимости продолжают дело отцов и дедов, натиравших полы или ремонтировавших мебель. Но им наверняка все равно бывает тяжело смотреть, как прежние товарищи по детским играм занимают более высокое положение; вот и сейчас я услышал в голосе Гвидо знакомые нотки, когда тот, открыв металлический замок, показал на свой грузовик и произнес:
– Садитесь… святой отец!
Ворота поставили здесь, чтобы не пускать внутрь случайных людей, а изгороди преграждали путь их взглядам. Вокруг нашей земли с каждой стороны приютилось по итальянской деревушке, но если не знать, то отсюда этого и не разглядишь. Гребень холма, простирающийся на полмили, – личная волшебная страна папы. Его владения в Кастель-Гандольфо больше, чем весь Ватикан, но здесь никто не живет, только несколько садовников и разнорабочих да еще старый астроном-иезуит, который спит днем. Настоящие обитатели этого места – фруктовые деревья в горшках, аллеи пиний и клумбы, величина которых измеряется акрами. И мраморные статуи, что остались после языческих императоров и выставлены в садах, дабы Иоанн Павел улыбнулся, совершая летние прогулки. Отсюда, сверху, вид простирался от озера до моря. Пока мы ехали по грунтовой садовой дорожке, на глаза нам не попалось ни одной живой души.
– Куда едем? – спросил Гвидо.
– Просто высади меня в парке.
– Вот прямо тут?! – удивленно поднял брови Гвидо.
Буря неистовствовала. Снедаемый любопытством от столь необычной просьбы, Гвидо включил радиостанцию, послушать, не болтают ли чего в эфире. Но и она молчала.
– У меня девушка там работает, – сказал Гвидо, оторвав от руля один палец, чтобы показать направление. – На оливковой плантации.
Я не ответил. Днем я бы узнал пейзаж лучше, поскольку водил здесь экскурсии для новеньких, когда учился в семинарии. Но в темноте, под проливным дождем я различал лишь полоску шоссе перед фарами. За всю дорогу до садов нам не попалось ни грузовиков, ни полицейских машин, ни бегущих от дождя садовников с фонариками.
– Как она меня бесит! – покачал головой Гвидо. – Алекс, но у нее такая попка!..
Он присвистнул.
Чем глубже мы въезжали в тени, тем сильнее зрело во мне ощущение неправильности происходящего. Симон один торчит под дождем. В первый раз я подумал, что брат может быть ранен. Что произошел несчастный случай. Правда, по телефону Симон упомянул полицию, а не скорую помощь. Я прокрутил в памяти наш разговор, пытаясь отыскать какие-то детали, которые мог неверно понять.
Грузовик, складываясь чуть ли не пополам, пробрался вверх по дороге через сады и выехал на край поляны.
– Все, – сказал я. – Выйду здесь.
– Здесь? – огляделся Гвидо.
Но я уже стоял на земле.
– Алекс, не забудь про наш уговор! – крикнул он мне. – Два билета на открытие!
Но я был слишком занят своими мыслями, чтобы ответить. Когда Гвидо уехал, я позвонил Симону. Здесь, наверху, сигнал был слабый и не обеспечивал надежной связи. Но на мгновение я услышал звонок другого мобильника.
Я пошел на звук, направив луч фонарика вперед. По склону холма была высечена огромная лестница – три монолитные террасы одна за другой спускались к далекому морю. Каждый дюйм занимали цветы, посаженные в виде кругов, вписанных в восьмиугольники, которые, в свою очередь, были вписаны в квадраты. И ни один лепесток не выбивался из ряда. Здесь, наверху, сады казались бесконечными. От этого в душе у меня нарастала дикая тревога.
Еще немного, и я бы выкрикнул в пустоту имя Симона, но тут что-то начало вырисовываться перед глазами. Отсюда, с самой верхней террасы, я различил забор. Восточная граница папских владений. Перед воротами луч фонарика уткнулся во что-то темное. В черный силуэт.
Ветер трепал подол моей сутаны, пока я бежал к темной фигуре. Земля была неровная, куски грязи вывернуты, и корешки травы торчали вверх, как паучьи лапы.
– Симон! – крикнул я на бегу. – Ты жив?
Он не ответил. Даже не пошевелился.
Я пошел к нему на подкашивающихся ногах, стараясь не потерять равновесия на скользкой грязи. Расстояние между нами сокращалось. Но он по-прежнему не отвечал.
Наконец я оказался рядом. Брат… Я тронул его рукой и спросил:
– Ты жив? Скажи мне, что ты жив!
Он лежал бледный и весь промокший. Мокрые волосы, прилипшие ко лбу, казались нарисованными, будто у куклы. Черная сутана обтягивала мускулистое тело, словно шкура у скаковой лошади. Сутана – старомодная одежда духовенства, которую некогда носили все римско-католические священники, пока их не сменили черные брюки и черные пиджаки. На неясно вырисовывающейся в темноте фигуре брата она выглядела зловеще.
– Что случилось? – воскликнул я, так и не дождавшись ответа.
Безжизненный, отстраненный взгляд Симона устремлялся куда-то на землю.









































