Текст книги "Девятый круг. Ада"
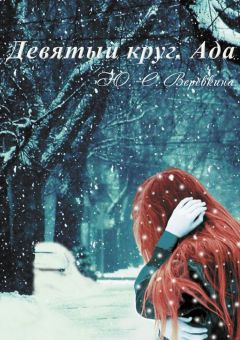
Автор книги: Юлия Верёвкина
Жанр: Ужасы и Мистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
7
Мурка смотрела на Максима с большим пренебрежением. Лёжа на шкафу, она лениво наблюдала сверху, как он возится со снимками, обрабатывая их на компьютере, и нервно дёргала хвостом. Мурка уже и о хозяйские ноги тёрлась, и мяукала, и загораживала ему монитор – максимум, на что его хватило, это сначала небрежно потрепать её по шерсти, изображая ласку, а потом откинуть подальше. Нет чтобы оторвать некое место от стула и покормить сестру свою меньшую. Оскорблённая кошка вскарабкалась на шкаф, в отместку отчаянно царапая деревянное покрытие, и принялась величественно ждать Катю.
Мурка успела запомнить все кнопки, на которые нажимал Макс, чтобы сделать снимок ярче и убрать нечаянно угодивших в кадр людей, пока хозяйка наконец пришла. Громко мурлыкнув, кошка спрыгнула прямо на колени Максу, и пока тот ворчал и искал под столом вылетевшую из рук флешку, бегала вокруг Кати, преданно заглядывая в глаза.
– Что, проголодалась? – устало улыбнулась хозяйка, и Мурка стремительно помчалась на кухню.
Катя пошла за ней. Максим раздражённо крикнул:
– Кошка у тебя бешеная! Сиганула как лошадь! А если бы у меня в руках фотоаппарат был?
Катя налила Мурке молока и вернулась в комнату. Затем приблизилась к Максиму и бережно погладила по голове.
– Конечно, она не будет смотреть, куда прыгать, – голодная же. Можно подумать, её покормить некому.
– Ты вот её кормишь. Сколько же ей надо? – И Максим сердито отвернулся к монитору.
Катя несмело протянула руку, чтобы вновь провести по его волосам, таким привычным и жёстким, но пальцы остановились в паре сантиметров. Затылок Максима показался вдруг агрессивным в своей безразличности, в этом упорном «не-ме-шай-я-за-нят». И Катя медленно опустила руку. Наверное, зря. Наверное, можно сквозь это пробиться. Но тут, впервые за время её жизни с Максимом, Катю сдавила, мешая шевельнуться, апатия. Она вышла из комнаты, не обернувшись: и так знала, что Максим не заметит ухода.
В кухне Катя медленно, сосредоточенно стала готовить ужин. Пока закипала вода на картошку, достала альбом, перевернула несколько страниц и поморщилась: предыдущие попытки были столь жалки… Взяла карандаш, вспомнила виденную когда-то давно икону в церкви – рядом с ней нежно, отливая рассветом, горела лампада. Ей стало хорошо, с воодушевлением она подумала, что вот сейчас точно всё получится. Но первая же линия сильно ушла вбок, лампада больше походила на хобот слона, маленькая девочка, которая в храме умильно тянула свечку к иконе, получилась страшненькая, с неестественно вздёрнутым носом, который никак не получалось убедительно выпрямить, и плавала в совершенно другой плоскости, чем подсвечник. Кате снова подумалось, что более никчёмного существа, чем она, в мире не найти. Все так или иначе проявляли себя в жизни: у кого-то была любимая работа, кто-то, как Максим, самозабвенно ушёл в творчество, кто-то разводил цветы в уродливых советских горшках и считал свои чахлые фиалки и денежные деревья джунглями в миниатюре… Кто-то, в конце концов, жил для семьи. Катя представила себе абстрактную женщину, с улыбкой выставляющую на стол борщи и блины под восхищённые возгласы детей и мужа, и вновь помрачнела. Всё что-то делали – одна она научилась лишь сбегать от реальности.
«Ну а чего бы тебе хотелось?» – Катя методично резала картошку и пыталась ответить себе. Действительно, чего хочет она – она, а не Максим? Пожалуй, места, где она бы чувствовала себя уверенно и безопасно. В общем, своего места.
– Холод. Это всё холод, – тихо сказала себе Катя, отгоняя тоскливые мысли. – Немудрено сойти с ума…
Мурка, понятное дело, спорить не стала: она мягко тёрлась о ноги Кати и в том, что это и есть хозяйкино место – готовить и кидать в миску вкусные кусочки, – ни капли не сомневалась.
Нет отопления. Ничего страшнее этих слов Сергей не мог бы придумать даже для самого сенсационного заголовка. «Нет отопления» на первой полосе – и тысячи дрожащих рук вцепятся в резко пахнущую типографской краской бумагу, начав читать, не дойдя до кассы в супермаркете. Киоски позакрывали, когда температура перестала подниматься выше минус сорока двух градусов, продержавшись на максимальных значениях две недели, – а то бы люди рвали газеты из рук продавщиц.
Но Сергей был не на работе. Он стоял у батареи в своей комнате, в которой зуб на зуб не попадал. Под его ладонью бугорки и неровности, образованные несколькими слоями краски на советском радиаторе, безжалостно остывали.
Нет отопления.
Сергей оглянулся на включённый телевизор – в уголке экрана значилась температура воздуха – и нахмурился. Если этот морок не пройдёт, если холод под его пальцами реален, то через некоторое время – он не знал когда, но понимал, что достаточно скоро, – вода в трубах замёрзнет, их разорвёт, а он… В общем, как те кошки…
Внезапно ему показалось, что на затылок лёг чей-то напряжённый взгляд со стороны окна. Порывисто обернувшись, Сергей вздрогнул. Ледяной блеск зрачков, длинные пушистые ресницы, любовно вылепленные инеем… Снежные губы, разметавшиеся волосы, летящий поворот головы… Прекрасное лицо на стекле, написанное морозом, было лицом Ады, и Сергей на миг забыл про отопление, вглядываясь в ледяной портрет, искрящийся и переливающийся миллионами мельчайших снежинок в свете уличного фонаря и включённого телевизора. Глаза её, всегда немилосердные, сжигающие, немного смягчил иней, подчёркивая их красоту. Снежная Ада смотрела чуть ласковее, чем та, что из плоти и крови, и была идеальна в своём звёздном сверкании на тёмном стекле. Её сияющие золотым и синим, красным и фиолетовым и ещё сотнями оттенков глаза завораживали и успокаивали, обещая нечто неземное, уводя из квартиры в другие миры.
Сергей потрясённо смотрел на ледяное лицо Ады, чувствуя, как разом взмокли волосы, промчались вихрем мурашки по позвоночнику, а сердце заметалось из стороны в сторону, долбясь, казалось, в каждый уголок грудной клетки. Как такое вообще возможно? Как она это сделала? «Точно ведьма», – серьёзно подумал он, впервые осознав, что ему очень не нравится такая мысль. Он никогда не верил ни в привидений, ни в полтергейст, но теперь отчётливо видел лицо на своём окне, и это доказывало… что? Сергей не знал, но испытываемые им эмоции сильно походили на мистический ужас.
Но вот фонарь во дворе на мгновенье погас и включился вновь, Сергей машинально моргнул и на секунду отвёл взгляд от мерцающего портрета. Когда он снова посмотрел на окно, увидел лишь обычный морозный узор. Веточки инея, лепестки льда и снежные цветы, переплетаясь, изысканно разрисовали стекло, и тем не менее это были просто переливающиеся на свету иней, лёд и снег. Мороз, который расписывал ещё окна крестьянских изб, прошёлся и по его окну, сыграв недобрую шутку с воображением.
Сергей облегчённо вздохнул. Некоторое время продолжал смотреть с подозрением на заснеженное стекло, но ледяной портрет не возвращался, и он перевёл дух. Потом, наконец, очнулся и бросился к телефону. Набрал номер службы спасения, но бездушный голос, записанный на автоответчик, попросил его оставаться на линии, которая в данный момент перегружена. Кинулся к блокноту в поисках телефонов МЧС, которыми пользовался по работе, – но все они были заняты. Пять минут, десять, пятнадцать… Сергей позвонил во все мыслимые инстанции, включая коммунальщиков и мэрию, но везде слышал равнодушные короткие гудки.
Странное дело: он замерзал, но его прошиб ледяной пот. Холодные капли отвратительного страха струились по вискам, воздух в квартире казался колючим, а удары сердца – слишком медленными. Может, оно вот-вот остановится от низких температур? Почему, кстати, он до сих пор не удосужился почитать, как именно приходит смерть от холода?
Сергей, укутавшись, продолжал звонить, лихорадочно глотая чай, чтобы согреться. Кипяток ошпаривал небо и язык, обжигал горло, но он этого не замечал. В голове стучала одна мысль: не дать теплу покинуть его молодое, даже немного мускулистое тело.
Полчаса. Плохо он учил в школе физику, иначе знал бы, наверное, сколько осталось ему и трубам. Время плыло мимо всклокоченного сознания, и неизвестно, сколько его утекло, когда Сергей наконец бросил трубку, всё издевавшуюся частыми гудками, и выбежал из квартиры. Подъезд сотрясался от криков соседей, в которых слышалась обнажённая, неприкрытая паника.
– Кто-нибудь знает, что случилось? – крикнул Сергей в воздух, и вырвавшийся изо рта пар медленно растаял в тусклом жёлтом свете грязного плафона.
Перепуганный галдёж с разных этажей дал понять, что соседи так же, как он, не могут никуда дозвониться. Сергей спустился на один лестничный пролёт и увидел молодую женщину, прижавшую к груди большой мохнатый кокон, – он не сразу догадался, что это завёрнутый в шубу маленький ребёнок.
– Всё?.. – Её бледное лицо с покорными глазами было вопрошающе обращено к Сергею, и в этом коротком слове он услышал их общую обречённость – то есть то, что меньше всего хотел слышать.
– Помолчала бы, а? – с непривычной грубостью отрезал он. Женщина с ребёнком не обиделась – она ждала от него ответа с покорностью, от которой замерзала кровь.
Но Сергей ничего не добавил и побежал дальше вниз – чтобы ощутить движение, доказывающее, что ещё не «всё». Его поймал за руку Семён Петрович.
– Серёга, ты же в газете работаешь. Делай давай что-нибудь! – строго велел он, и несколько человек оглянулись на Сергея. Тот, осознав, что в глазах обезумевших соседей может сейчас показаться единственным, кто в состоянии их спасти, но почему-то не хочет, спешно ретировался обратно в квартиру, лихорадочно соображая, что предпринять. Набрал номер – но уже не МЧС, а Макса, что, впрочем, стоило сделать раньше. Если у него есть отопление, надо срочно ехать к нему, и…
Домашний номер Макса не отвечал. Мобильник отозвался сбоем связи – как на Новый год в пять минут после полуночи. Он попытался набрать номера других знакомых, но опять услышал неприятный сигнал перегруженной линии. Леденея всё больше, Сергей метнулся к окну. Он не знал, что хочет увидеть внизу: выстуженный двор был пуст. Но отдавал себе отчёт, что надо справиться с накрывшей его паникой и вернуть способность здраво мыслить, причём желательно как можно скорее. И в это мгновение он ощутил что-то чуждое этому ледяному безумию. Не сразу осознал, что изменилось, замерзающий мозг с трудом ловил импульсы нервных окончаний. Прошло несколько секунд, прежде чем Сергей опустил глаза на свою ладонь, коснувшуюся батареи.
Труба была тёплой. Дали отопление.
Утром Сергей узнал, что в результате небольшой аварии подача теплоснабжения накануне вечером кратковременно прекращалась в двадцати трёх жилых домах города. Его дом был в их числе.
8
В ту ночь, когда Роман видел Аду в последний раз, они вернулись из часовни очень поздно, и шрам у него на запястье болел от её странного ритуала. Мать застала их во дворе и набросилась с руганью. Хотя уже давно всё было решено, и Аду зачислили в художественное училище в другом городе, и он сам собрал чемоданы для поездки на север, даже их последней встрече не дано было завершиться без скандала. Мать накинулась на Аду: «Ведьма! Не смей трогать моего сына!» Та лишь презрительно рассмеялась. Роман не знал, куда деть глаза. В свете фонаря мать заметила кровь, капавшую с его руки на асфальт, закричала и вцепилась Аде в волосы. Следующий миг был ещё более страшен: тонкая фигурка не шелохнулась, но в темноте сверкнул узкий нож. Ада приставила лезвие к груди его матери и тихо сказала: «Убери руки». Роман похолодел и оттащил застывшую вдруг мать от своей Дюймовочки, глаза которой горели, едва не искрили. Ему не раз становилось страшно рядом с Адой, но в тот миг он испугался за мать: что бы ни связывало его с двоюродной сестрой, Роман знал, что не настолько ей дорог, чтобы она не могла навредить его близким. Он никогда не думал об этом всерьёз, но в тот раз, когда нож в худом кулачке блеснул дважды за ночь, Роман испугался Ады, как боятся ведьм и кликуш в деревнях. Наверно, ещё и поэтому он был рад, когда наутро поезд тронулся и он остался один с забинтованной рукой и двумя сумками багажа.
Роман хорошо помнил, как в далёкие, занесённые снегом вечера выходил из квартиры, стараясь не попасться матери и Богу на глаза, и в фиолетовых сумерках шёл в старый, почти заброшенный парк в четверти часа ходьбы от дома. Обычно там гуляли лишь по самому краю, где сохранились покорёженные временем асфальтовые тропинки. Днём на этих дорожках, разбитых и замусоренных, гуляли уставшие молодые женщины – одни ещё меланхолично прохаживались с колясками, другие уже с восторгом следили за первыми шагами своих малышей. Иногда те, не удержавшись на некрепких ножках, шлёпались на асфальт – а в двух шагах от них валялись бутылки и пёстрые грязные обёртки от всего на свете. Почти никто не совался вглубь парка, где не осталось тропинок, по земле тянулись заросли кустарника, а деревья росли плотно друг к другу. Там было темно, как в лесу, и забирались туда разве что парочки в поисках лихой молодой любви да сомнительные пьяные компании.
О том, что лет сорок назад здесь был центральный городской парк, напоминали старые качели среди переплетений шиповника и бузины. Деревянное сиденье давно отвалилось от железных прутьев, на которых держалось, и лежало прямо на земле. Дощечки, из которых оно было сделано, снизу наполовину сгнили; ржавая рама поскрипывала, когда ветер становился слишком сильным. Именно здесь Романа ждала Ада.
Она всегда приходила раньше его. Большинство городских девушек ни за что не ступили бы даже на окраину парка после наступления темноты – но Ада не боялась никого и ничего. Она сидела на качелях, застелив их своей лёгкой курткой, а увидев Романа, продирающегося сквозь деревья, доставала из кармана зажигалку – и миг спустя загоралась белая свечка, которую она приносила с собой. Роман, каждый раз точно знающий, что не должен здесь быть, неловко садился напротив. В отсветах огня её лицо было магически, непристойно красивым.
В те вечера она рассказывала ему истории о своей семье. Немногие увлечены своими пра– и прапрабабками так, как была Ада. Экзотические предания о доме на краю села лились из Ады рекой. Она говорила, что поколения злых и добрых ведьм в её семье чередовались с захватывающим дух постоянством, но кто был в начале, ей неизвестно. Ада верила, что в истоках рода стояла врождённая, а не наученная ведьма, – по её мнению, этим объяснялась непрерывность дара.
«Бабушка моей прабабки была доброй знахаркой, – вспоминала она. – Рассказывали, что она могла остановить кровь даже при самой страшной ране. А если рождался ребёнок с отклонениями – ну, не начинал говорить, плохо ходил, вообще, как сейчас говорят, отставал в развитии, – матери носили их к бабке каждую пятницу на протяжении тринадцати месяцев. И он вырастал здоровым! А уж всякие обычные болезни снимала запросто: пошепчет что-то, травок попить даст – любой грипп как рукой снимало. Особенно у неё выходило детские болезни заговаривать. Тогда малыши умирали очень часто, скарлатина приговором была… А бабка моей прабабки её лечила. Считай, добрым ангелом всего уезда была: к ней даже из дальних сёл детей привозили». Ада говорила, и по её лицу плясали тени – пламя толстой свечи трепетало на ветру.
Иногда Роману становилось страшно. Парк полнился шорохами и далёкими пьяными криками, и он не чувствовал себя в безопасности. Зато Ада, казалось, была спокойна, как дома. Может быть, эта мрачная атмосфера, глушь леса в черте города, заповедная для большинства жителей, казалась ей близкой по некоему зову крови, который велел ей быть ближе к своим истокам. «Она сделала то, что многие сочли бы подвигом, – ведь на её счету было не меньше сотни спасённых детских жизней… – Поднявшийся ветер подхватывал её слова, а не заглушал. – Но лучше бы она этого не делала. Слава её была слишком громкой, чтобы не ударить по ней же. В округе случилась вспышка холеры. Она продолжала лечить детей – но однажды к ней пришли односельчане; впереди выступала крестьянка с мёртвым ребёнком на руках. Она заявила, что холера – бабкиных рук дело… И эти люди, часть которых смогли вырасти, жениться и дышать только благодаря бабке моей прабабки, поддержали истеричку, а вовсе не женщину, которой обязаны жизнью. И они забили её камнями. Насмерть…» Ада поднимала глаза с язычками пламени в зрачках, и Роман невольно пугался: тёмное чувство, не то гнев, не то насмешка, странно искажало её лицо. «В последних поколениях ведьмы нашей семьи людям не помогали, – усмехнувшись, продолжала она. – Впрочем, там уже прослеживались психические расстройства, и прабабка выделялась разве что недюжинной силой, даром влюблять в себя мужчин и неспособностью жить нормально. Хотя её мать умела и грозу вызывать, и памяти лишать тех, на кого зло затаит… Знаешь, прапрабабку в селе уважали и очень боялись: уж с ней-то точно шутки были плохи. Она могла пошептать что-то у себя в сарае – и наутро у того, кому она хотела насолить, все куры оказывались мёртвыми. В колодцы русалок пускала… Ну, или не знаю, как там точно было дело, а только пойдёт женщина по воду – а придёт без ведра, бледная, трясётся вся: увидела в колодце чужое лицо. В силу прапрабабки так верили, что ей даже хозяйство вести не надо было, – односельчане приносили ей даром и хлеб, и яйца, и молоко. Потому что боялись: вдруг град нашлёт или коров молока лишит…» На изменчивом лице Ады вспыхнул тогда мрачный восторг. Роман помнил, как ветер взметнул ей волосы и горсть осенних листьев внезапно ударила ему в глаза, а когда он снова взглянул на сестру, увидел, что к ней на колени прыгнул невесть откуда прибежавший чёрный котёнок.
«Прабабка была больше сумасшедшей, чем ведьмой, – продолжила Ада; теперь пламя свечи бесновалось в двух парах глаз – её и котёнка. – Вызвать град или снег ей было не под силу. Но она, так сказать, знала теорию. И записала рецепты, заклинания и ритуалы, которые до сих пор передавались лишь устно, от матери к дочери. Представляешь, как бесценна эта книга?»
«Откуда ты всё это знаешь?» – ответил Роман вопросом на вопрос. Ада ответила: «Мне иногда снится прабабка, она и рассказала». И по тому, как угрожающе смотрели на него Ада и котёнок, Роман понял, что ставить под сомнение истину сказанного приснившейся сумасшедшей нельзя.
Роман не был полностью уверен, нашла она ту книгу или нет. Ведь Ада всё-таки втянула его в авантюру, потащив на её поиски…
9
И опять линии шли вкривь и вкось, и снова роза была не похожа на розу, а слёзы падали на альбомный лист, размывая карандашные штрихи. В который раз Катя отодвинула от себя рисование – и вдруг разрыдалась. Замёрзшие пальцы никак не могли отогреться о шерстяные рукава свитера, было холодно и тоскливо, а чувство, что ей не одолеть искусства, которому лучше бы учиться с детства, вызывало совершенно ребяческое отчаяние. Досада на свою бесталанность смешивалась с холодом, который раздражал каждый нерв и причинял настоящую, не фантомную, боль. Катя плакала, обняв коленки, над кухонным столом.
Вошёл Максим. Постоял немного, глядя то за окно, то на Катю.
– Мороз-то какой! Бред просто… А ты чего расклеилась?
Катя подняла красные глаза на Максима.
– У меня ничего не получается. Понимаешь, вообще ничего. Я стараюсь, но я бездарна и не понимаю, зачем мне это надо. Но мне это надо! И переубедить себя мне не удаётся. Это катастрофа! А ещё мне так холодно…
– Сейчас всем холодно, – флегматично заметил Максим. – Не реви.
– Но это тяжело. Я понимаю, что не должна так расстраиваться, в конце концов, может, мы совсем замёрзнем. Вон, на Крещение даже никто не купался.
– Это здесь при чём? – поморщился Максим.
– Не знаю. Я сейчас ничего не знаю, и как вывести себя из этого состояния – тем более. Было бы тепло, может, походила бы на курсы, но сейчас даже вузы полностью перешли на заочку… Знаешь, я была в храме. Там очень холодно. Но видела такую икону Богородицы – совсем белую… Она так подходит этой зиме. Красивая, неземная, а глаза у неё синие-синие. И такое ощущение, что они блестят как живые – наверное, из-за лампады. Мне так хотелось бы её нарисовать! Но я понимаю, что не могу, и…
– Понятно. А где картошка? Что, котлеты пустыми есть?
Катя замолчала. Она как будто в первый раз смотрела на Максима. А он гремел посудой, поднимал крышки кастрюль, натыкался на пустые и недовольно хмурился. Открыл холодильник, несколько секунд смотрел на полки, закрыл и полез за тарелкой.
– Ну да, придётся пустыми. Конечно, там были остатки кетчупа…
Катя поднялась. Она больше не плакала. Скрестив руки на груди, ещё некоторое время смотрела на Максима. Потом ушла в другую комнату. Залезла на табуретку, чтобы достать до верха шкафа, где лежала дорожная сумка.
Собирая вещи, она слышала, как чем-то гремел в кухне Максим. Одежда, шерстяное одеяло, несколько книг, пара банок припасённых консервов, кошачий корм… Катя уложилась в две объёмные сумки и рюкзак – не так уж много вещей она, оказывается, сюда принесла. В кухне о чём-то рассказывал телевизор; по сбивавшейся то и дело речи было слышно, как часто щёлкал пультом ужинавший Максим.
Убедившись, что ничего важного не забыла, Катя вызвала такси. Машину обещали через пятнадцать минут. Девушка подошла к окну. Вид из него ей никогда не нравился: мало кто любит смотреть на проезжую часть. Тем более что уж очень часто за то время, что прожила здесь, Катя замечала, что произошла очередная автокатастрофа.
Впрочем, в последние месяцы аварий стало значительно меньше – как и машин, которые могли бы завестись.
Катя по привычке облокотилась на подоконник. По плечам сразу пробежали мурашки – близость к стеклу мгновенно дала о себе знать. Даром что все щели были тщательно заткнуты и несколько раз заклеены, – у окна было неумолимо холодно. Катя отшатнулась от подоконника. И поняла, что пора уходить.
Она вытащила сумки в коридор и прошла на кухню – забрать альбом и карандаши. Максим доедал пустые котлеты.
– Знаешь, они, конечно, вкусные, но без гарнира совсем не то. Давай всё-таки будем питаться по-нормальному, а?
Катя не ответила, собрала свои вещи с другого края стола и вышла. Максим что-то почувствовал.
– Молчать будешь, да?
Катя уже заворачивалась в старую шаль поверх свитера. По-деревенски завязав её узлом на спине, обмотала шею и голову шарфом, сверху надела ушанку. Она была уже в сапогах и шубе, когда Максим появился в прихожей. Окинув взглядом одетую Катю и её сумки, вздохнул и скрестил руки на груди.
– Это ещё что за истерика?
Катя забросила рюкзак за плечи.
– Это не истерика, Макс. Я ухожу. Совсем. И давай без сцен. В конце концов, мы с тобой уже давно друг другу не интересны.
– Может, стоило спросить меня?
Катя покачала головой.
– Долгие разговоры ничего бы не дали.
Максим разозлился.
– Ты всё решила, да? Умница какая, надо же! А тебе не кажется, что так не делают? То есть, ты, вся такая непреклонная, собрала шмотки и сейчас просто возьмёшь и уйдёшь?
– Да, – кивнула Катя. Подхватив на руки кошку, спавшую под куртками, и неуклюже подняв сумки, она двинулась к двери.
– Кать, – Максим шагнул к ней, – давай спокойно поговорим.
Катя вышла из квартиры.
– Такси уже ждёт, – ответила она. – Пока. Да, кстати: картошка стоит рядом с плитой, накрыта полотенцем. Ты просто не заметил.
Писать не получалось. Темы о морозе слились в единую какофонию, с трудом разлепляемую на отдельные частицы: уличные ограбления, редкие, как амурские тигры, автобусы, истеричные вопли о конце света, нехватка муки, скандал с консервами, на которые пустили павший от холода скот… Мысли путались, роились, и Сергей уже не помнил, о чём хотел писать. Будто пронзённый чёрными глазами, он чувствовал себя пригвождённым к стене и лишившимся воли. Всё, что у него ещё получалось делать, – это думать о ней.
Но пикнул домофон. Мужской голос спрашивал Лерку.
– Нет её, – буркнул Сергей в трубку.
– А когда будет?
– Откуда я знаю, где её носит! – Можно подумать, только Леркиных поклонников под дверью ему не хватает.
– Вы её муж? – вежливо осведомилась трубка. Сергей бросил взгляд на новые кислотно-оранжевые сапоги сестры, купленные, естественно, на его деньги, и честно ответил:
– Слава Богу, нет, – и повесил трубку домофона.
Но вскоре в квартиру ворвалась Лерка, явно возмущённая:
– Я сейчас встретила Димку у подъезда. Что ты ему наболтал про меня? – сразу оглушила она брата.
Сергей хотел сказать, что знать не знает никакого Димку, но потом понял, о ком она, и сварливо ответил:
– Что ты таскаешься по всем мужикам города, чтобы согреться, и что он может искать тебя у любого. Подсказал воспользоваться адресной книгой.
– Чего такой злой? – Лерка схватила охапку одежды со стула и побежала переодеваться в кухню.
Сергей равнодушно пожал плечами.
– Слушай, Лерка, а у него квартира тёплая? А то, может, он нас приютит? Тебе давно пора переходить на взрослый уровень и хоть как-то пользоваться своими связями.
– Вряд ли приютит, – отозвалась Лерка, наматывая шарф поверх свитера. – Он женат.
– Женат, – вздохнул Сергей. Он не знал, что положено делать в таких случаях старшим братьям, а потому притворился, больше для себя, чем для сестры, что поглощён работой. – Ну вот, никакой пользы от тебя…
Лерка покосилась на брата и попыталась оправдаться:
– Ну и что, что женат? Мне ж за него не замуж выходить.
– А я тебе хоть слово говорю? Поезжай. Или тебе что, моё напутствие понадобилось? Ну, как там… Сильно не напивайся, дома до субботы появись, а то всё-таки я за тебя отвечаю, да и вдруг замёрзнешь, откапывай потом тебя. Что ещё? Ах да, предохраняйся.
У Лерки дрогнули накрашенные губы. Быстро отвернувшись, она утёрла слёзы обиды с глаз, подправила у зеркала в прихожей тушь и вышла, демонстративно не попрощавшись. Сергей слушал стук каблуков по лестнице, который становился всё глуше, и когда он смолк, снова выглянул во двор. Этот тип целовал его сестру уже довольно привычно, фамильярно подтолкнул за плечи к переднему сиденью в машине. Несколько секунд – и они уехали.
Писать про чиновников не выходило. Сергей живо представил, что вот вдруг сейчас позвонит мама, спросит, где Лера, а он… «Знаешь, она тут укатила с каким-то женатым мужиком, нет, я с ним не знаком. Да ты не волнуйся, есть захочет – явится». Мама схватится за сердце и бросит трубку…
Тут его мысль сделала резкий поворот: он вспомнил, что маленькая женщина с чёрными глазами тоже, между прочим, замужем.
Когда Максим сказал, что пить они будут в кукольном театре, Сергей сначала, сказать помягче, усомнился в этой затее. Но, как выяснилось, оператор знал, о чём говорил. Неделю назад он снимал сюжет об учреждениях культуры, которые оказались забыты и заброшены после нескольких месяцев жестокой зимы. Журналистка слезливо рассуждала о Золушке и Графине Вишне, ставших ненужными в дни человеческих трагедий, а после Максим ухитрился свести знакомство с фанатичным престарелым актёром, тосковавшим по сцене и гнавшим теперь самогон в буфете, где было до странности тепло – или, если выражаться буквально, холод, как и везде, царивший в этом выложенном советской плиткой помещении, оказался вполне терпимым. То ли толщина стен играла роль, то ли буржуйка актёра неплохо разогревала проспиртованный воздух, то ли система отопления в театре была так продуманна, но Максим совершенно разомлел от столь декадентской атмосферы. Иными словами, напиваться в храме Мельпомены ему понравилось. По пьяному делу он выпросил у собутыльника, которого тронуло, что молодой парень оценил всю тонкость пьянства под сенью кулис в часы умирания города, дубликат ключей и милостивое позволение пользоваться время от времени гостеприимством этого места.
– Это почти как в «Декамероне» – побег от чумы или что-то типа того, – объяснял Макс, пока друг одевался. Сергей подумал, что про Боккаччо оператор наверняка знал только со слов Кати, но образ ему понравился.
И правда, было что-то от суровой красоты Средневековья в том, как в тишине, ставшей почему-то торжественной, они поднимались по обледенелым ступеням к занесённому снегом зданию театра. Гипсовые маски на стенах таращились пустыми глазницами на чужаков, ступавших по пыльному красному ковру. Будто казнённые преступники из исторических фильмов, нависали над головами молодых мужчин ростовые куклы. Ведьма в остроконечной шляпе смотрела устало, с досадой. Привычно сжимала тряпичная рука Бабы-Яги метлу с редкими прутьями. Синьор Помидор казался не столько чванливым, сколько умудрённым опытом, который некому передать. Улыбка Василисы Прекрасной оставалась лубочно-доброжелательной и не вязалась ни с временем, ни с местом; соломенная коса русской красавицы порвалась и висела на нескольких волосках, почти доставая до грязного холодного пола.
Максим, толкнув тяжёлую деревянную дверь кухоньки буфета, изумлённо вскрикнул. А вот Сергей почти не удивился, увидев за дверью Аду.
В толстых штанах и безразмерном пончо, с шалью, повязанной на манер банданы, она сидела, скрестив ноги по-турецки, на длинной буфетной скамье и пила самогонку из грязной рюмки вместе со стариком актёром. И, казалось, тоже не особенно удивилась вторжению.
– Михалыч! – с преувеличенной приветливостью, в которой Сергей угадал сильное раздражение, пробасил Максим. – Да ты девушек стал сюда водить! А говорил, здесь бабам… пардон, девушка, – дамам не место…
Сергей понял: друг уязвлён, что голубоглазый старик с седыми спутанными волосами, в которых угадывался силуэт модной стрижки, в свою святая святых приглашал не только его.
– Макс, кого хочу, того и зову! – авторитетно, рисуясь перед Адой, сообщил актёр. – А мы с Адой сто лет знакомы, она даже когда уезжала, нет-нет да и писала старику. У меня до сих пор портреты в рамке висят, которые она рисовала. Гениальная художница! И не смей спорить! – стукнул он по столу в сторону Ады, но она и не собиралась. – За работой меня рисовала, представляете? Никогда никого с мольбертом за кулисами не было, а ей разрешили меня писать. Она и не мешалась никому – ещё бы, махонькая ведь какая… – любовно оглядел старик Аду; в уголках ясных глаз блеснули растроганные слезинки.
– Ну-ну, Михалыч, ступай поспи, – отставив рюмку, похлопала его Ада по укутанной в толстую тужурку спине, спрыгнула с лавки и мягко вывела из кухни в подсобку.
– Твой друг, Серёжа, кажется, считает это место своей вотчиной, да только я ещё с той поры, когда в местной художке училась, здесь все уголки облазила, так что я и за хозяйку, – сообщила она, забираясь с ногами обратно на лавку. – Бутылка там, под раковиной, рюмки в шкафу поищите.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































