Текст книги "Родственники"
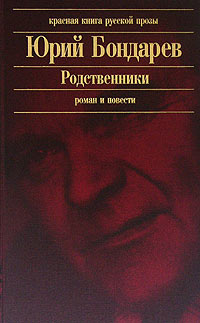
Автор книги: Юрий Бондарев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц)
– К счастью, как я понял давно, я – оптимист.
– К счастью? К счастью, вы сказали? Как вы сказали? Хо-хо! М-да! К счастью!
– Это, к сожалению, мое счастье, профессор.
– Сомневаюсь, весьма сомневаюсь, Василий Иванович!
– Друзья, друзья! Минуточку внимания… Разрешите прорваться в ваш спор на правах хозяина дома!.. – послышался тотчас умиротворяющий мягкий тенор Грекова и звон вилки о бокал. – Прошу одну минуточку терпения!
Беззвучно, как давеча, смеясь, с веселым видом показывая, что не желает никого убеждать, спорить, он поднялся, демонстративно налил себе в бокал шампанского и заговорил шутливо:
– Смею надеяться, что мое показательное действо было всеми недвусмысленно понято. Более того, как председатель ученого совета, должен напомнить, что мы, уважаемые коллеги, забываем о прямой и немаловажной задаче на данный вечер. Мы забыли о наиважнейшей цели нашего внеочередного вечернего заседания. – И Греков красноречивым жестом указал на стол и этим жестом дал до конца понять шутку. – Но, уважаемый Василий Иванович. – Греков добродушно собрал тонкие лучики морщин в уголках лукаво засветившихся глаз, после паузы продолжал: – Но… возьмите, как говорится, память в свои руки и, чуть-чуть забыв про свои седины многоопытных мужей науки, снисходительно вспомните, как очень давно… когда-то в комсомольских ячейках многих из нас тоже ругали за легкомысленность, за всякие там галстуки, за эти… как их… фокстроты, но никто из нас, простите меня, горячо любимый мною Василий Иванович, не свернул с истинного пути! Единицы – о них я не говорю. Молодости свойственна, так сказать, некоторая ересь. Ересь в пределах веры. Ересь во имя веры. Да, правда и доброта! Да, идеал – культ правды. Культ правды! Я за этот культ. Я слушал сейчас своего сына Валерия и от души смеялся, вспоминая свою молодость…
– Твой дядя добряк и либерал, он за мирное сосуществование, брат. Посмотри, как он убедил обе стороны.
Никита не сразу понял, что это сказал Алексей, увидел: Валерий, полуиронически улыбаясь и говоря «прекращаю холодную войну», – словно только что не спорил до озлобления с профессором, – наливал коньяк в его рюмку, и Василий Иванович, не возражая, не протестуя, в ответ снисходительно кивал ему.
– Здесь никто никого не вызовет на дуэль, – безразлично договорил Алексей, грубая рука его с сигаретой лежала на краю стола, воротник сиреневой сорочки врезался в твердую, загорелую шею, какая бывает у боксеров, и эта шея, и темная рука на белой скатерти, и эта его манера хмуриться, как будто все время он перебарывал в себе что-то, вызывали у Никиты настороженность: он вдруг показался ему нелюдимым, жестким, чужим здесь, за столом.
– Вы, кажется, что-то сказали, молодой человек? – различил Никита сниженный голос Василия Ивановича. – Или мне послышалось?
– Я? – равнодушно спросил Алексей. – Вы ко мне обращаетесь?
Рядом бритоголовый профессор шумно сопел, дышал всем своим тучным телом, наклонив багровое лицо к столу. Валерий поставил бутылку, и одновременно с ним Василий Иванович бросил на Алексея острый прислушивающийся взор, и сосед его, молодой, румяный доцент, без пиджака, с деланным вниманием слушавший Грекова, опустил глаза, нервно провел ладонью по залоснившемуся лбу. А Греков все стоял за столом, держа бокал в руке, и говорил проникновенно-мягко, даже растроганным тоном, как обычно говорят юбиляры, о своих легкомысленных ошибках, о своих поисках в молодости. И по тому, как он с высоты прожитой жизни смеялся над этими ошибками, похоже было, что он хотел доброжелательностью своей к тому невозвратимо минувшему разлить некое тихое умиление давно прошедшей юностью, одинаково знакомой многим его седым друзьям за столом, ясную и умиротворяющую доброту вокруг себя, которая всегда мудра в силу своей широты и снисходительна к ошибкам, ибо, не прощая, мы разрушаем мост, по которому каждый когда-то проходил или когда-нибудь должен пройти.
– Ну и силен отец, – шепотом сказал Валерий, восхищенно подмигивая Алексею. – Обожает асфальтовые дорожки. Мастер. И златоуст.
– Пожалуй, – ответил Алексей. – Помнишь проповедь во Владимирской церкви? Вот тот проповедник был златоуст.
– Да, старушки рыдали и сморкались…
– Как вы сказали? – спросил Василий Иванович, корректно наставя ухо в сторону Алексея. – Какая проповедь? Где?
Алексей, прищурясь, взглянул на профессора, как в пустоту, ответил медлительно:
– Извините, профессор, я хочу послушать юбиляра.
Но Греков уже кончил говорить, салфеткой промокал влажный лоб, подбородок и стал чокаться, после чего, смеясь, трогательно расцеловался с кем-то нелепо лохматым, умиленным, пьяно выскочившим с распростертыми объятиями из-за стола, и Никита увидел странно сосредоточенное, как от боли, лицо Алексея. Он смотрел не отрываясь на Дину, потом выпрямился, размеренно и внятно сказал:
– Дина, нам пора!..
Она смеялась на том конце стола, отталкивая волосы со щек, однако услышала его, перестала смеяться, озираясь на Ольгу Сергеевну, на Грекова, по-детски растерянно пожала плечами, но сейчас же вскочила, схватив со стула сумочку, и начала прощаться с замахавшей на нее руками Ольгой Сергеевной, подбежала к Грекову, притронулась губами к его виску, извинительно прозвучал ее тонкий голосок:
– Мы будем скучать. Очень! – Она обернулась к Алексею, крикнула притворно-весело: – Я иду, Алеша!..
– Прошу тебя, – резковато сказал Алексей и, покачивая широкими плечами, пошел к двери.
– Что? Алеша! Это прямо-таки невежливо! Так рано? Так скоропалительно? Рано вставать? – протестующе закричал Греков. – Нет, друзья, помилуйте!.. То, что, я лестно говорил о молодежи, – явная ошибка! Беру немедленно свои слова обратно… Я захвалил молодое поколение! Куда вы?
Возле двери Алексей остановился, медленно поглядел на Грекова, сказал:
– Не надо юмора, отец. Я плохо его понимаю. Но в данном случае ты не ошибся. Да, рано вставать. До свидания. Пошли, Дина.
– А, черт подери! Алешка, подожди! – воскликнул, вскакивая, Валерий и, загремев отодвинутым стулом, вышел следом за Алексеем.
– Одну секунду… я только провожу молодежь! – сказала Ольга Сергеевна, слабо улыбаясь дрожащими уголками рта.
Гости молчали. В комнате почувствовалась вязкая пустота. Было неловко и тихо. Потом послышался неестественно бодрый голос Грекова:
– Друзья, что смолкнул веселия глас?.. Как там у Пушкина? Все-таки не будем еще считать себя дряхлыми стариками, хотя нас и покинула молодежь. Мы еще не все потеряли. Ибо среди нас мой юный племянник, будущность геологии, и самый молодой член-корреспондент, надежда педагогики! Прошу налить в рюмки!..
Никита подождал с минуту, встал и незаметно вышел из столовой. Ему хотелось курить. У него болела то лова.
В конце коридора хлопнула дверь, в передней погас свет, затем оттуда – шаги. Валерий с матерью возвращались в столовую, и Никита, подходя к своей комнате, услышал конец разговора; говорила Ольга Сергеевна:
– …измучилась с ним, бедная девочка. Он просто нетерпим.
– Мама, не надо Шекспира, ей-богу, надоело! – проговорил Валерий. – Ты бы меньше говорила о черт знает каких ужасах! Ты всегда преувеличиваешь и считаешь Алексея исчадием ада! На каком основании, дорогая мама?
– Валя, не груби, я люблю Дину как дочь. Я регулярно помогаю ей деньгами. И сегодня, если хочешь…
– За кого ты их считаешь, за нищих? Зачем ты ей суешь эти деньги? Как говорят – слов нет!
В это время Никита пошевелился около двери, зажег спичку, прикуривая.
– Вы здесь, Никита? – удивленно спросила Ольга Сергеевна. – Но почему вы тоже ушли? Почему у вас такой усталый вид? Что с вами?
Никита ответил:
– Разболелась голова. Хотел пройтись по улице, подышать свежим воздухом.
– Вам дать тройчатку? Пойдемте, я посмотрю в аптечке. Мне не нравится ваш вид. Впрочем, можно понять…
– Нет, спасибо, я не хочу тройчатку.
– Ну хорошо, хорошо… Я вас не буду неволить. Делайте как вам лучше, Валерий! – Она ласково улыбнулась ему. – Неудобно, голубчик. Никита все-таки гость, а ты, так или иначе, хозяин. Тебя ждут.
Ольга Сергеевна пошла в столовую.
– Восторг, да и только, – сказал Валерий и взял Никиту за пуговицу, покрутил ее. – Слушай, как тебе все это?
– Я спать. А завтра – в Ленинград. Уже все, – сказал Никита. – Как тут с билетами? В тот же день можно?
– Чушь! Никуда ты завтра не уедешь! Потом – тебя приглашает к себе Алексей. Это ясно? И как раз завтра. Возражения есть?
– Есть. Почему это я не уеду? До сих пор я распоряжался собой сам.
– Но ты в гостях, братишка, и есть законы гостеприимства. Тем более что ты таинственный родственник! Парень из тайги.
– Вот это ты прав. Дремучий провинциал.
– А! Все геологи в душе провинциалы. Ладно, поговорим завтра. Детских тебе снов. А я пошел в поте лица размахивать картонной рапирой. За что уважаемый Василий Иванович наверняка закатит в семестре двойку. Забавно, хотя и бессмысленно.
– Тогда зачем размахивать? – сказал Никита. – Лучше пятерка в кармане. А по-моему, с профессором у тебя все в порядке. Пятерка обеспечена.
– Фраза сквозь усмешку? А впрочем, какая разница – пятерка, двойка? Все условности, Никитушка. Главное, делай полный вдох и полный выдох. Делай физзарядку под радио.
5
«Да, это уже все. Мне нечего здесь делать, – думал с решительностью Никита, спускаясь в лифте, мучаясь от боли в виске, которая не отпускала после вчерашнего вечера. – Куда это еще меня приглашает Валерий? К Алексею? Но зачем, зачем к нему? Все это не нужно мне».
И он вышел из парадного. Была середина дня, жгучее солнце, самые жаркие часы.
Перед подъездом, насвистывая в ожидании, слегка раскачиваясь на длинных ногах, обтянутых брюками, ходил под тополями Валерий, задумчиво играл ключом от машины – наматывал и разматывал цепочку вокруг пальца; бинта уже не было на горле, расстегнутый воротник шелковой тенниски свободно открывал шею, лицо тщательно выбрито, влажные волосы причесаны, блестели, как будто он только что принял прохладный душ, и был бодр, свеж. Валерий, увидев Никиту, подкинул ключик на ладони, с улыбкой сказал:
– Если сказать, что у тебя счастливая физиономия, – это бессовестная лакировка действительности! Голова болит?
– Вот что. Мне нужно на вокзал. В справочное бюро. Узнать насчет билета, – проговорил Никита. – Это можно сделать?
– Не волнуйся, я все беру на себя. И бюро и вокзал. Только не сегодня. Сегодня я тебе покажу чудо – необыкновенный уголок Москвы. И заедем к Алексею. В Ленинграде, надеюсь, у тебя братьев нет?
– Это что, твоя машина?
– Хочешь сказать, что избалованный профессорский сынок имеет свою машину? Пошло и банально, как в фельетоне о перевоспитании тунеядца. Нет, эта взята напрокат, что может сделать каждый смертный. Я за государственную собственность. Я член ВЛКСМ и против обогащения. Теория прибавочной стоимости изучена по источникам, а не по конспектам. Садись, братень.
– Зачем мы должны ехать к Алексею?
– Он хочет с тобой познакомиться.
– Мы уже.
– Что значит «уже»? Никаких «уже». Поехали. Алексей – это Алексей.
– Что это значит?
– Садись и не задавай вопросов.
– Странно!
Машина стояла в тени тротуара – это была довольно старая, заезженная, но еще крепкая «Победа» грязно-стального цвета, капот и крылья покрыты налетом пыли, левое крыло заметно помято, наспех и грубо закрашено. Валерий открыл дверцу, влез в машину, распахнул дверцу Никите, не без удовольствия откинулся на горячем сиденье, сказал:
– Два года назад освоил эту механику под идейным руководством Алексея и зауважал себя. Это все-таки неплохо придумано, Никитушка; руль, колеса, педаль газа – все тебя слушается. Это знакомо тебе?
– Нет.
– Тогда мне жаль тебя. Хотя жалость, как нас учили в школе, унижает человека. Откуда цитата?
– Слушай, почему ты не записываешь за собой остроты? Носил бы записную книжку…
– А ты знаешь, твоя ершистость, Никитушка, – это очень мне нравится. Но, по-моему, брат, ты за что-то дуешься на меня? За что?
– Понимай как хочешь. А все-таки тебе нужно было бы сниматься в каком-нибудь фильме – у тебя здорово бы получилось. У тебя способности.
– Ну уж прости – другим быть не могу. Так уж запрограммирован.
Они выехали из арбатского переулка, понеслись вдоль бульваров по улице, туго бьющей в открытые окна мягким жаром асфальта, мимо солнечной и густой зелени над железной оградой, мимо летней пестроты тротуаров, зеркал парикмахерских, мимо кривых изгибов тупиков, странно немноголюдных в этот раскаленный июльский час, с прохладными тенями каменных арок. Мотор, набирая скорость, ровно гудел, сквозняки, охлаждая лицо, шевелили волосы Никиты раздражающе щекотными прикосновениями летевшего в окна ветра.
«Зачем я все-таки еду? – подумал он. – Я не хочу ехать, но еду… Да, это какая-то нерешительность. Что это со мной? Все делаю не то, что хочу. И тоже идиотски острю, как будто так важно все, что говорит Валерий. Но он наверняка играет и почти не думает о том, что говорит. Почему он раздражает меня?»
– Знаешь, что такое бывшая Большая Татарская? – заговорил Валерий, зубами вытянув из пачки сигарету. – Никогда не слышал? Замоскворечье – знаменитая история купечества. Геологи равнодушны к истории?
Никита не ответил.
От узкого, грохочущего, визжащего трамваями перекрестка Пятницкой повернули в кривой переулок, затем выехали на просторную, бело залитую солнцем мостовую – и отдалился грохот трамваев, пошли справа я слева разно покрашенные деревянные заборы под тополями, двухэтажные дома с чердаками, низкими окнами, замелькали сквозь давно снятые ворота заросшие травой зеленые дворики, дощатые сарайчики в глубине их, обитые ржавым железом голубятни с сетчатыми нагулами – всюду зелень, солнце, тени, дремотное спокойствие летнего дня.
– А что… – сказал Валерий. – В этом что-то было! Тишина, покой, пуховая постель и жаркие объятия покорной жены на скрипучей кровати. Завидую купцам первой гильдии! Жили себе, почесываясь. И понятия не имели, что такое бикини или радиация. Ошеломлял лишь размер самовара у соседа. А, старикашка?
– Ты трепач, что я понял, трепач первой гильдии, – проговорил Никита, потирая болевший висок. – Я вчера это заметил. Ты можешь трепаться тридцать часов в сутки. Неужели не надоедает? Потом все эти «старикашки» и всякая такая дребедень устарели давно.
– Не следишь за современной литературой, Никитушка. А литература – что? Литература отображает и изображает жизнь. – Валерий засмеялся.
– Ну, можно помолчать? Честное слово, напоминаешь включенный магнитофон. Неужели не устаешь?
– Будущая профессия, милый. Я же историк. Бесконечная тренировка языка. Привык. Язык мой – хлеб мой.
– Именно хлеб! Вчера ты здорово резал правду-матку профессору, заслушаешься! Хорошо, что не полез к нему целоваться. Я ожидал. Все шло к тому. Но скажи, для чего ты начал тот спор?
– Дитя ты, дитя! Наш спор с тобой бессмыслен, – ответил Валерий, смеясь. – Понимаю, Никитушка, ты ходишь еще в детских штанишках наивности. А жизнь не апельсин. Вся соткана из противоречий. Все. Прекращаю дискуссию. Приехали.
Он круто повернул машину во двор, тесный от деревянных сараев, и, не сбавляя газа, проехал в узком проходе меж оград сочно зеленеющих палисадников, остановил машину на заднем дворике, тихом, знойном, сплошь заросшем травой и ромашками. Низкий одноэтажный дом едва был виден под разросшимися деревьями; на старых его стенах, на скосившемся крыльце, на новой «Волге» под навесом тополей – везде желтели солнечные пятна; и потянуло сразу чуть сыровато от земли, пресно запахло травой, и чем-то покойным, провинциальным повеяло от разомлевших на жаре нежных деревенских ромашек в палисадниках, от ветхих, рассохшихся ступеней крыльца дома, в котором полутьма прохлады стояла в пустых окнах.
Никого не было здесь. Валерий посигналил дважды, распахнул дверцу, превесело крикнул:
– Привет, провинциалы! Мирно спите? Если не ошибаюсь, все смылись из этого дома.
И Никита, вылезший из машины вместе с Валерием, несколько напряженный от этой странной тишины маленького, немосковского дворика, тотчас увидел, как из-под «Волги» высунулись мускулистые с задранными штанинами ноги в кедах, задвигались по траве, затем глуховатый голос размеренно ответил:
– А без ажиотажа можно?
Валерий присел на корточки, играя ключиком.
– Привет, Алеша! Вылезай! И не жестикулируй ногами. Я привез гостя.
Мускулистые ноги в кедах не спеша выдвинулись из-под машины, от движения задралась рубаха, обнажая плоский сильный живот, и Алексей вылез из-под «Волги», сел на траве, – рукава до локтей засучены, руки измазаны маслом; тыльной стороной ладони провел по смуглой щеке, внимательные темно-карие глаза изучающе оглядели Никиту с ног до головы, задержались на его настороженном лице.
– Здорово, Никита, – проговорил Алексей. – Мы ведь с тобой почти незнакомы. Верно?
Никита выжидающе смотрел на него, пытаясь найти сходство этого грубовато-смуглого парня в кедах, в темной, испачканной маслом рубашке с тем Алексеем, которого он видел вчера, но ничего, казалось, общего не было.
– Здравствуйте, – официально сказал Никита.
– Не здравствуйте, а здравствуй, – поправил Алексей и вытер ладони тряпкой, не спуская прищуренных глаз с Никиты. – Пойдем, брат. На крыльце покурим. А ну-ка, Валька, – он строго кивнул Валерию, – возьми масленку да смажь рулевые тяги. Только как свою. Ясно?
Он был среднего роста – не выше Никиты, но крепче, прочнее его; мускулистые руки, загорелое дотемна лицо, плотная, прямая шея вызывали мысль о грубой силе, лишь узкий треугольник кожи на груди, видный в распахнутом вороте сатиновой рубашки, совсем не тронутый загаром, был неправдоподобно белым.
– Значит, приехал, Никита? Вот теперь, кажется, познакомились.
– Ваша мать, Ольга Сергеевна, сказала мне… – проговорил серьезно Никита.
– Ольга Сергеевна не моя мать.
– Я… не понял, – пробормотал Никита, удивленный его равнодушием, как будто Алексей говорил о человеке чужом, незнакомом и мало интересующем его.
– Садись на ступени, – сказал Алексей. – Хочешь папиросу? Так вот: Ольга Сергеевна – вторая жена Грекова. Следовательно, я не ее сын. Валерий – да.
Распыленный тополиный пух мягко летел, плыл в воздухе над зеленеющими палисадниками, над тепловатыми деревянными ступенями крыльца, осторожно цеплялся за ромашки, за траву невесомыми, слабыми островками. Набухшие тополиные сережки, лопаясь, падали с легким шорохом на полированный верх машины, под которой, насвистывая, проворно елозя кедами по траве, постукивал пневматической масленкой Валерий; он, видимо, делал это не в первый раз. И Никита, чувствуя на брови скользяще-щекотное прикосновение рассеянного в воздухе липкого пуха, проговорил не совсем уверенно:
– Никогда не знал…
Медля, Алексей долго разминал тоненькую, дешевую папиросу в твердых испачканных пальцах; чернели каемки масла под ногтями, лицо было пятнисто освещено сквозь ветви иглами солнца, и тогда Никита увидел косой шрам возле его тронутого сединой виска. «Кажется, он занимался боксом?» – подумал он, вспомнив перчатки, кожаную тренировочную грушу в его комнате, и тотчас хотел спросить об этом, но договорил дрогнувшим голосом:
– Никогда не знал, что в Москве у меня столько родственников.
– Естественно. Если твоя мать – родная сестра профессора Грекова, – Алексей зажег спичку, прикурил, положил руку на колено Никиты, – значит, их много. Даже больше, чем надо, брат. Когда-то она бывала у всех.
– Разве ты знал мою мать? – недоверчиво спросил Никита, смахнув прилипший к потной переносице назойливо щекочущий пух, и повторил: – Ты когда-нибудь видел ее?
Пекло солнце, и особенно остро чувствовался давящий зной на волосах, и Никита будто по-особому отчетливо видел смуглое лицо Алексея, глухо заросший травой дворик с палисадниками, густые тополя, раскрытые окна в низком деревянном домике, и даже представилось на секунду, что он все это давно видел, что это было давно знакомо ему. Но он никогда ничего этого не видел, не мог знать, что здесь, в тихом зеленом дворике Замоскворечья, жил его брат Алексей, и показалось ему сейчас, что его приезд сюда с Валерием походил на кем-то начатую игру, и он, как бы насильно втянутый в эту игру, сказал:
– Странно все-таки… В один день мы оказались родственниками…
– К сожалению, – ответил Алексей и вдруг нахмурился, докуривая в ладонь. – Почти. Все мы на этой земле родственники, дорогой брат, только иногда утрачиваем зов крови. Ясно? И это нас освобождает от многого, к сожалению и к несчастью. Как кардан, Валерий? – с прежней строгостью спросил он. – Ты жив, брат?
– Что освобождает? Кого? – подал голос из-под машины Валерий, и там на миг перестала пощелкивать масленка. – Кого это ты цитируешь?
– Зачем цитировать банальности? – сухо ответил Алексей, и вновь Никите бросился в глаза этот едва заметный косой шрам возле его виска.
– Я ночую в твоей комнате, – сказал почему-то Никита. – Там остались перчатки и груша. Подумал, ты занимаешься боксом?
Алексей сделал вид, что не услышал вопроса, затаптывал папиросу на ступени.
– Ты боксер? – опять спросил Никита, глядя на рассеченную бровь Алексея.
– Ошибся. Боксом я увлекался в прошлом. В институте. Сейчас я инструктор. В автошколе. Этот шрам – война. Царапнуло на Днепре…
– Война? – повторил Никита, одновременно с беспокойством думая о том, что Алексей не ответил, видел ли он его мать. Никита знал, что мать несколько раз приезжала по своим сложным делам в Москву, но подробно никогда не говорила об этом.
– И обкатываю машины своим ученикам. Эта «Волга» – одного инженера.
– Ты видел когда-нибудь мою мать? – спросил Никита, стараясь говорить естественно, но боясь поднять глаза, опасаясь выдать напряжение в своем взгляде. – Ты был знаком с ней?
Он посмотрел на Алексея: тот уже стоял около крыльца и, сосредоточенный, поворачивал к солнцу расстеленную на траве брезентовую палатку, густо, как гусеницами, усыпанную тополиными сережками, и не обернулся к Никите.
– Ты когда-нибудь… – упорно проговорил Никита, – видел ее?
Алексей отпустил палатку и, спокойно выдерживая упрямое внимание Никиты, облокотился на качнувшиеся под тяжестью его тела перила.
– Да, раз я видел твою мать, – ответил Алексей.
– И что?
– Помню, она была в телогрейке.
– В телогрейке? – переспросил Никита и сдвинул брови. – Это тогда… Какая тогда она была?
– Она показалась мне суровой. В общем, отец хотел ее обнять, а она сказала: «Прости, я отвыкла от нежностей».
– Что она сказала?
– «Прости, я отвыкла от нежностей».
И Алексей, оттолкнувшись от перил, подошел к машине, остановился подле торчащих ног Валерия, приказал грубовато:
– Вылезай! Сам доделаю. И вот что. Бери иглу и зашивай палатку. Если уж хочешь ехать в Крым. В трех местах дыры. Все дожди будут твои.
– Алешенька, голубчик, пусть Дина зашьет, ни дьявола я в этом деле не соображаю! – лежа под кузовом, жалобно взмолился Валерий, передвигая на траве длинные ноги. – Женское это дело, ей-богу!
– Вылезай, историк, тоже мне! – скомандовал Алексей. – Надо уметь – будешь уметь! И без дискуссий.
– В чем дело? Это что, частнокапиталистические замашки или современное трудовое воспитание? Ты понял, Никитушка, какого брата подкинула мне судьба? – Валерий захохотал, в то же время послушно вылез из-под кузова я, расстегивая надетую для работы старую Алексееву пижаму, прислонился плечом к крылу, притворяясь обессиленным. – Для того чтобы рабочий мог восстановить свои силы, эксплуататор должен давать столько, сколько нужно лишь для восстановления сил. Это по Марксу, Алешенька. Обед будет?
– Видимо, тостов не будет, – сказал Алексей с грустно-насмешливой улыбкой и спросил Никиту: – Ты окрошку любишь? Обыкновенную деревенскую окрошку?
– Мне все равно, – ответил Никита, подходя к разостланной на солнцепеке брезентовой палатке, которую минуту назад осматривал Алексей. – Если это нужно, – сказал он не очень твердо, – я могу зашить. Если найдется большая игла. Это нетрудно.
– Так даже, брат? – проговорил Алексей и обратной стороной ладони похлопал Валерия по щеке. – Ты слышал, пижон? Гомо сапиенс, царь природы… Можешь учиться у геологов.
Валерий же дурашливо завел глаза, завалил назад голову, к колесу, схватился двумя руками за грудь, изображая крайнюю степень сердечного приступа как бы вследствие поразившего его несказанного восторга.
– О, что происходит! Валидол! Валокордин, нитроглицерин! Какого родственника мы приобрели, Алеша! Умеет латать палатки! Идеал домохозяек! Шедевральный парень! Никита, а как насчет глажки брюк? А? Сможешь?
– Могу и погладить, – сказал Никита, еще не определив для себя, как следует отвечать – серьезно или иронически. – Могу и стирать, если хочешь…
– Прекрасно! Для того чтобы найти складку на моих джинсах, не хватило бы и двух научно-исследовательских институтов! Погладим? По рукам?
– Я сказал, что могу и погладить, – уже не без вызова повторил Никита. – Что это привело тебя в восторг?
– А-а, понимаю, понимаю… – протянул Валерий с заинтересованным видом. – Понимаю… Прошу прощения.
– Не вижу твоей вины.
– Все ясно! – произнес Алексей. – Сходи-ка, дорогой Валерий, в дом да принеси иглу и суровые нитки. Возьми на кухне. В ящике. И узнай насчет обеда. Иначе ты еще вспомнишь несколько цитат.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































