Текст книги "Родственники"
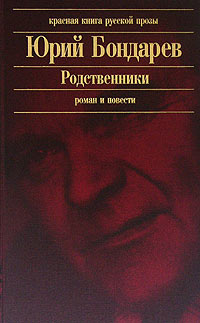
Автор книги: Юрий Бондарев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 11 страниц)
В последний день еще выстояли три атаки. Помню, до этого дня у меня в окопе пятьдесят «лимонок» оставалось и одна граната «эргэде» – все до одной «лимонки» по фрицам пошвырял, а эту солидную «эргэде» оставил при себе… Так вот, в последнюю ночь после третьей атаки снова проверяю, иду по своей обороне. Везде ни выстрела, слышно только: раненые немцы кричат, стонут за бруствером, а во взводах, кажется, и раненых нет: прямые попадания мин в траншею. И пулеметы все поковерканы. Не пулеметы – металлолом. Всю роту сосчитал, как говорится, по головам: оставалось из ста сорока семь человек со мной. Но я хорошо знаю: ни одного целого пулемета, ни одного патрона в парабеллуме, только моя единственная граната «эргэде». Все смотрят на меня, молчат. А меня от усталости и потери крови качает, как пьяного, еле на ногах держусь, а держаться надо… Солдаты мои едва живые, все в бородах, дышат с хрипом, исхудалые, но глаза еще живут, и у каждого в глазах вопрос: «А что дальше, старший лейтенант?»
Я выждал немного, потом вынул свою «эргэде». Говорю: «Мы отбили все атаки. И вот у меня одна граната. Последняя. Но если начнется еще атака, встать вокруг меня, головами поближе – и я чеку дерну, чтоб сразу всем. Кто против и сомневается, отойти в сторону! А сейчас – всем раздеться. Приказываю – переправляться через Днепр!»
Все молчат, но снимают шинели. Тогда я говорю Олегу: «А ну, поползи метров десять по отмели, проверь». Тот перелез через бруствер, пополз в сторону воды. А луна как раз из-за облаков выглянула, и очень ясно его нижняя рубаха на песке выделяется белым. Но немцы не стреляют. Зову его назад. Приказываю всем мокрым песком, грязью замазать нижние рубахи. Оглядел солдат, спрашиваю, все ли на воде могут держаться. Оказалось, все. «Так вот, возвращаемся на тот берег. По песку поползем так: в середине лейтенант Кустов с гранатой, все по бокам – если немцы будут окружать возле воды, даю сигнал: „Чеку дергай! За, мной!“ Потом поползли и поплыли. На том берегу меня почти без сознания вытаскивал из воды Олег – мое ранение и потеря крови сказались. Но семь человек из роты вывели, хотя в штабе дивизии уже и не надеялись, что кто-то из нас уцелел. Уже после госпиталя у Олега спрашиваю: „Скажи, выдернул бы чеку из гранаты, если бы я скомандовал?“ А он даже побледнел, как будто я его оскорбил или ударил: „Что за вопрос? И не задумался бы“. Вот и вся эта история. Так что, брат, с Олегом у меня особые отношения. Вместе с ним не один пуд соли съели. Тебе все ясно, Никита?
– Все-таки завидую я тебе, Алексей. Вот ты воевал… Все видел. Тебе, наверно, повезло. Твоему поколению. Несмотря ни на что.
– Этому нельзя завидовать. Каждому выпало свое.
– Алексей, можешь сказать?.. Почему ты не окончил институт? Ты, наверное, в автодорожном учился?
– Что ж, могу сказать… Это опять о войне. После фронта хотелось самостоятельной жизни. И независимости. Не мог сидеть за столом и с умным видом слушать лекции. Смотрел на профессора и думал: «А вы знаете, уважаемый, как разрывается снаряд на бруствере?» Потом у меня уже была семья. Рано женился. Снять комнату стоило две стипендии. Это понятно, брат? Но было все-таки веселое время – мы вернулись с ощущением, что весь мир перед нами. Завоеванный и освобожденный. По вечерам собирались, пили водку, вспоминали фронтовых ребят, живых и погибших, и ждали манны небесной. Потом бросил институт и, знаешь, почти не жалею об этом. Я люблю машину, сам не знаю почему. Впрочем, конечно, знаю. Как живое существо. Это может тебе показаться странным, но сидеть где-нибудь в конторе по восемь часов и общаться с бумагами не смог бы. И с учениками возиться люблю. Со всякими – бездарными и способными.
– Ты разве тогда не на Дине женился?
– Нет. Дину встретил потом.
– А первая жена, Алексей… где она?
– Мы разошлись, брат. Ей, как говорят, все надоело. Ну, это неинтересно.
– А скажи, Дину ты по-настоящему любишь? Я, конечно, не имею права спрашивать, но…
– А ты без этих «но». Если бы я не любил Дину, она бы не была моей женой. Иначе быть не могло. Вот что. Мы сейчас с тобой выедем на кольцевую. Не будем торопиться. В Москве дышать нечем. Домой успеем.
– Домой?..
– Что ж, я могу тебя завезти к Валерию. Или переночуешь у меня? Раскладушка найдется.
– Мне все равно. Лучше все же к тебе. Если не помешаю…
– Наоборот. Кому ты можешь помешать? Скажи, как ты вообще живешь, Никита?
– Просто живу. Как все студенты. Корплю над конспектами. Хожу на лекции, сдаю зачеты. Вот видишь – в Москву приехал…
– А если откровенно, как ты живешь в последнее время?
– Мне все время кажется, что мама не умерла. Почему-то я не совсем ее понимал, а она ничего не говорила мне перед смертью. Помню, как по вечерам смотрела на меня – сидит, смотрит и молчит. Тогда она была уже больна. Наверно, думала, как я без нее останусь. А я не мог ничего сделать. Не знал, что не вернется из больницы.
– Понимаю. Можешь не объяснять.
Когда выехали на загородное шоссе, солнце садилось в леса, по-предвечернему нежарко дрожало в золотистой дымке над островерхими крышами дач, прохладные тени сосен располосовывали дорогу, ветер с мягким запахом хвои врывался в открытые окна.
8
Вернулись в одиннадцатом часу; в окнах не горел свет. Дина, видимо, уже спала; потом легли на раскладушках, вынесенных Алексеем в палисадник, и долго лежали молча. Тянуло свежестью от похолодевшей к ночи травы, тихий двор был в неподвижном фиолетовом сумраке; над крыльцом вершины тополей слабо серебрились, стояли, застыв в ночной чистоте неба, а там, вверху, было вольно, светло, широко, и пробивались сквозь листву косые лунные коридоры, сетчато рассекали пахнущую сырым холодком тень от дома.
Никита, потираясь подбородком о колючий ворс одеяла, смотрел на сквозные полосы дымчатого света – и эти два дня проходили перед ним, путаясь, беспокоя, возникая в памяти. Зябко сжимаясь от охватившего его чувства одиночества, он понимал, что не может заснуть, что лежит с открытыми глазами на раскладушке не в Ленинграде, не дома, а возле темного, давно затихшего домика среди незнакомого, затихшего Замоскворечья, среди спящих московских улиц, по которым лишь изредка с отдаленным шелестом проезжало одинокое ночное такси. И Никита, глядя в небо, ощущая подбородком шершавый ворс одеяла, вдруг услышал: чиркнула, сверкнула огнем спичка, сбоку горьковато потянуло дымком, и рядом – голос, сдержанный, чуть, хрипловатый:
– А может быть, действительно, Никита, поехать тебе со мной в Крым? Через две недели у меня кончаются занятия в автошколе. Буду на крымских дорогах обкатывать машину и заеду к дочери. Как ты? Крым – это прекрасно. Сразу чувствуешь себя иначе.
Светлячок сигареты загорался ярко, и Никита увидел уголок губ, край щеки, блеск Алексеева глаза, почему-то явственно вспомнил сдавленный плач Дины на кухне сегодня днем, болезненно замкнутое лицо Алексея, повернутое тогда к окну, ответил:
– Нет, я не поеду. Спасибо.
– А в Крыму южные мохнатые звезды, – медленно проговорил Алексей. – И цикады. Миллионы цикад ночью. Все звенит. Особенно в лунную ночь.
Никита сказал:
– А здесь сверчок.
– Да, завелся под крыльцом. Что ж, неплохо, когда и он трещит.
Никита не ответил. Где-то в темноте крыльца, в трех шагах от раскладушек, по-деревенски просверливал звенящим тырканьем, неустанно раскалывал ночное безмолвие сверчок, на миг замолкал и вновь посылал сигналы в пространство, мимо матово синеющих сквозь тополя уличных крыш.
Молчали долго.
– Скажи, Никита, значит, Вера Лаврентьевна очень тяжело болела?
– У меня были страшные ночи, когда болела мать, – сказал Никита. – Полгода.
– Я это представляю…
Красно разгоревшийся огонек осветил брови Алексея, колыхнулся и, трассой прочертив параболу, упал в траву, мерцая там потухающей искрой.
– Скажи, что ты знаешь о моей матери? – осторожно и тихо спросил Никита. – Ты сказал, она приезжала сюда. Она об этом мне не рассказывала. Ты ее видел у Георгия Лаврентьевича?
– Что я знаю? – помедлив, проговорил Алексей и повернулся на бок, странно-пристально вглядываясь в Никиту. – Не много… Но все, чтобы понять, что с ней случилось до войны. Но это, брат, почти бессмысленно… Да, брат.
Никита приподнялся на локте, спросил:
– Что бессмысленно?
– Бессмысленно говорить о том, что уже ничему не поможет. Ничего не решит. Потом все изменилось, другое время. Думаю, что ты меня понимаешь.
– Алексей, я понимаю, о чем ты говоришь… Но что ты все-таки знаешь о моей матери? Зачем она приезжала сюда? – повторил с настойчивостью Никита, глядя в лицо Алексея. Щели лунного света, дымясь, сквозили сверху, разделяя палисадник, как сетью. – Ты начал… и не договорил. Ты сказал, что она приехала сюда в телогрейке…
– Это было, брат, давно, и не хочется, Никита, шевелить давнее, что уже погасло. Возвращаться назад – что это даст? Жить прошлым невозможно. Всем нам надо жить настоящим, Никита. Согласен?
– Но ведь она приезжала сюда… И разве я не имею права знать, зачем она приезжала?
– Вот что, – произнес Алексей решительно. – Да, ты имеешь право! Но сначала скажи мне: Вера Лаврентьевна что-нибудь говорила тебе раньше о Грекове? Ты раньше слышал о нем?
– Только один раз. Когда передавала письмо. Она раньше никогда не вспоминала о родственниках. Только о своей двоюродной сестре Лизе. Но та умерла десять лет назад.
– Преклоняюсь перед твоей матерью, – сказал Алексей, и раскладушка под ним закачалась, он лег на спину, заложил руки под затылок. – Маленькая, нам девочка, была, только вся седая. А когда она писала письмо?
– За день перед смертью она дала мне письмо. В больнице.
– А в письме что?
– Я передал его Георгию Лаврентьевичу.
– А он что?
– Сказал, что мать в письме просит позаботиться обо мне, перевести из Ленинградского университета в МГУ. Чтобы я жил в Москве. Рядом с родственниками. Больше ничего. Я не читал письма.
Никита замолк; ночной воздух острой свежестью пробирался к его голым плечам, и он зяб и от этого ночного воздуха, и от возникшего нервного холодка в груди.
– Не может быть, – после паузы проговорил, как бы не веря, Алексей и некоторое время лежал вытянувшись. Не было слышно его дыхания. – Не может быть! – повторил он.
Раздробленные световые полосы переместились сквозь листву теперь ярко, как узкие лезвия, кололи, лезли в глаза Никиты, и он не мог разглядеть лицо Алексея, слышал удары своего сердца, они отдавались в висках.
– Этого я не предполагал, Никита. Дело в том, что это почти невозможно… – Алексей, раздумывая, помолчал, договорил размеренно: – Нет, все-таки трудно поверить, чтобы она написала отцу так, как ты сказал.
– Почему трудно поверить? – выговорил Никита, ощущая кожей холодок ночи, поползший ознобом по лицу, по плечам, по груди, и этот колючий озноб заставил его стиснуть зубы, чтобы не выдать дрожь голоса. – О чем ты подумал?.. – глухо спросил он.
– У меня сложные счеты с отцом. И давно, – ответил Алексей тоном жесткого спокойствия. – И это опять возвращение к прошлому. Правда, многое я уже простил ему. Нельзя ведь жить как натянутая струна. Да и он не тот. И я не тот.
– Что ты знаешь о матери, Алексей?
– Ты хочешь это знать? И выдержишь, если узнаешь правду отношений Веры Лаврентьевны с отцом?
– Я хочу знать. И конечно, правду. И я выдержу.
– Ну хорошо, брат. Тогда слушай, как было.
Алексей сбросил одеяло и в майке, в трусах сел на раскладушке, оперся на ее край; проступали в фиолетовом сумраке его оголенные колени; потом одна рука его задвигалась, стала шарить по одеялу: он, вероятно, искал сигареты. Сказал:
– Когда твоя мать вернулась, десять дней она была в Москве. В августе месяце. Каждый день ходила в Военную прокуратуру и каждый день ждала реабилитации одного профессора, он тоже должен был вернуться оттуда . Его фамилия Николаев. А они когда-то шли по одному делу. Твоя мать наводила справки у новых уже тогда следователей, которые занимались реабилитацией, в том числе и этого профессора. В архивах искала какие-то документы. И жила это время у меня.
– Она жила здесь? У тебя?
– Я снимал комнатку на Садовой. Как только я женился, с отцом уже не жил. После того как бросил институт, были крупные объяснения: он считал меня неудачником, а я его – краснобаем. Но тогда ездил на Арбат чаще, чем сейчас. Вот там однажды я и увидел твою мать: маленькая женщина с каким-то рюкзачком вошла, сказала, что ей нужно к профессору Грекову. Была в телогреечке, в каких-то туфлях, парусиновых, что ли. Я в гостиной сидел, курил… А когда она вышла из кабинета, отец почти в истерике выскочил за ней, едва не рыдал, весь был совершенно не свой – таким никогда его не видел. Помню, он кричал: «Это чудовищно! Это фальшивка! Они обманули тебя! Ну, убей, убей меня, Вера!» Увидел меня и сразу дверь в кабинет захлопнул. А я подошел к ней, спросил, кто она, откуда. А потом привез ее к себе ночевать. Тогда по всему понял: после разговора с отцом, конечно, не останется на Арбате, а ей негде было… В общем, братишка, вот так я ее увидел.
– И что? О чем они говорили?
– На следствии твоей матери показали одну характеристику. Было на нее состряпано дело по быстренькому доносу ее коллег, обвинили ее черт те в чем: в антимарксизме, во всех смертных грехах, в каких можно было тогда обвинить. Похоже было, сводили счеты под общий шумок, клеветали не оглядываясь. А она просила у следователя только одного: чтобы он обратился к старым большевикам, знающим ее с революции. Надеялась: тогда против нее отпадут все обвинения, тогда все станет ясным. Следователь, видимо, сам несколько сомневался в составе целой горы туманных преступлений и через неделю объявил, что по ее просьбе обратился, и обратился даже к самому близкому для нее человеку. К человеку весьма уважаемому. К известному профессору. Более того, к ее родному брату. И показал характеристику. И прочитать дал. В общем, ясно, что это было за сочинение?.. Вот тогда твоя мать после возвращения и задала отцу вопрос, как же он мог решиться написать такое… Потом она уехала. А он слег с инфарктом. Пролежал в больнице четыре месяца. Вернулся домой как тень, даже глаза остекленели. Вот и все. И знаешь, дело даже не в том, помогла бы ей эта характеристика или нет… Гнусная история, и я не пойму до сих пор – малодушие это было или контузия страхом? И знаешь, все эти годы он суетится добреньким старичком, направо и налево одалживает деньги студентам до стипендии, а вызывает у меня какую-то жалость. Именно жалость. И вроде тошноты, будто воску наглотался. Иногда думаю: может быть, много лет замаливает грехи? В общем, у него такой возраст, когда, как говорят, о боге начинают думать…
Никита уже плохо слушал, что говорил Алексей; металлический непрерывный звон сверчка соединялся с ударами крови в висках, и ему казалось: тяжелая жаркая темнота сдавливает, наваливается на него. Он, напрягаясь, смотрел на темные ветви над годовой, на раскаленный до багрового свечения край луны за ветвями и, глотая комок в горле, с усилием спросил:
– Но почему? За что?
Не отвечая, Алексей сидел на краю раскладушки, чиркал спичкой – резко брызнул огонек, полоснул в темноте по широко раскрытым глазам Никиты, и он увидел хмуро блеснувший взгляд брата, собранные морщины на лбу.
– Это же самое я спрашивал у него, – ответил странно спокойным голосом Алексей. – Он все отрицал, он говорил, что его оклеветали, использовали имя в фальшивке. Разве бы он сказал мне? После этого надо стреляться, брат! – он швырнул недокуренную сигарету в траву и, телом качнув раскладушку, лег. – Ладно. Все. Кончено с этим. В общем, пора спать!
Он прерывисто через ноздри вдохнул воздух, затих, и на миг в этом наступившем молчании туго выросла давящая тишина лунного воздуха, спящего города, его улиц, дворика; и в этой расширенной молчанием пустоте – сверлящее, как пульсирующий ток в ушах, тырканье сверчка. И эта особенная, ощутимая пустынность ночи, и эта неожиданная откровенность Алексея, которую Никита не мог еще полностью осознать, и то, что они оба не спали среди давно заснувшего дворика, – все это вдруг сблизило, соединило их, и Никита ждал, что Алексей скажет сейчас еще нечто особенно необходимое, нужное, точно и до конца понятое им, после чего ясным станет все до конца ясным, но тот молчал, и что-то темное, плотное, безмолвное навалилось на Никиту, мешало ему дышать.
То, что он услышал, мать никогда не говорила ему. Он не помнил свою мать молодой, так же как совсем не помнил отца, кадрового полковника, погибшего на третьем месяце войны в окружении на Западном фронте.
А вот что он знал о матери.
В начале ленинградской блокады мать вместе со своей одинокой двоюродной сестрой, жившей в Ленинграде, успела отправить Никиту в Среднюю Азию, пристроив его к какому-то эвакуируемому детскому учреждению, надеясь выехать следом. Однако о дальнейшей судьбе матери было неизвестно.
Тетка была уверена, что мать погибла, однако через три года неисповедимыми путями дошел до них в эвакуации сплошь потертый, помятый, весь зауглившийся треугольничек – без обратного адреса письмецо, состоявшее из нескольких фраз, написанных химическим карандашом рукой матери: она была жива. Она сообщала только об этом. Она ничего не просила, ни на что не жаловалась, однако можно было понять, что ей пока не разрешено возвращаться в Ленинград. И больше ни одной вести о ней не было.
Но когда мать вернулась, Никита, не помнивший ее, знавший ее только по молодому нежно-внимательному блеску огромных глаз, по гордой и высокой шее гимназистки, по светлым волосам, видным на фотографии, где была она снята рядом с отцом (отец тоже неправдоподобно молодой, в новом френче, с портупеей, взгляд какой-то весело-дерзкий), Никита, знавший ее только такой на фотографии двадцатых годов, увидел незнакомую, худенькую женщину, до сахарной белизны седую, плачущую от радости в объятиях тетки, и сквозь неудержимые слезы жадно, как бы издали глядевшую на него: «Не узнал, совсем не узнал, мой сын?.. Это я… твоя мама». А он в ту минуту молча стоял в комнате перед этой маленькой женщиной, на голову выше ее, с трудом заставив себя вспомнить ее на фотокарточке, заставив себя поверить, что это перед ним его мать, выдавил в растерянности: «Мама?» – и не обнял ее, не поцеловал, еще боясь, что это ошибка и что она ошиблась. Но это была его мать.
Он помнил: долгими зимними вечерами сидели они в своей старой квартире на Мойке возле кафельной, на полстены голландки, раскрыв дверцу печи (мать любила смотреть на огонь, ей все время было холодно, никак не могла согреться), и он видел ее седой пучок волос на затылке, ослабшую спину, ее прозрачную до голубых жилок руку, которой она то и дело подбрасывала в огонь поленья. И все с болью сжималось в нем, все обидно протестовало против того, как она, поймав его взгляд, улыбалась чуть-чуть спрашивающе, как будто постоянно думала о какой-то своей вине перед ним.
Раз он спросил:
– Скажи, мама, в чем же была твоя вина?
Она ответила, легонько касаясь его руки:
– В том, что много лет ты рос без меня. Не знаю, что с тобой было бы, если бы не Лиза. Я всю жизнь буду помнить ее, Лиза стала твоей второй матерью. Я только тебя родила. И то поздно. В сорок лет. Мы ведь были чудаки с отцом и считали, что в век революций не надо иметь детей. Отец твой все время воевал, и я его мало видела.
Мать никогда не говорила, не напоминала, о чем думала эти долгие годы, состарившие, убившие ее молодость, такую, казалось, чистую, неиссякаемо вечную на фотографии. Он хорошо знал, о каких довоенных обстоятельствах она не хочет говорить, и, зная, не спрашивал о том, что вспоминать ей было мучительно.
Он смотрел на ее шею, на нежные голубые жилки на худенькой руке, на морщинки вокруг губ и, сопротивляясь, не соглашаясь, сравнивал ее облик с прежним образом матери, юной, светло глядевшей с фотографии, – та женщина была ближе ему, та женщина была его матерью много лет.
– Ты меня совсем-совсем не помнишь, Никита? – сказала она, всматриваясь в его лицо, с осторожностью двумя ладонями взяла его за голову и так же тихо, как самое драгоценное, что могло быть в жизни, прижала его голову к груди. Он ощутил мягкий родственный запах ее одежды и, обмерев, почувствовал впервые, после ее возвращения, что никого, кроме вот этой седой матери, у него нет и у нее, кроме него, нет никого.
Никита проснулся от холода – тянуло по лицу резкой и влажной свежестью. В сером сумраке над его головой шелестели тополя, и среди шелеста возникал, колыхался другой звук, похожий на звук сдавленного женского голоса, и этот звук будто столкнул с него сонное оцепенение. Никита, сразу вспомнив ночь, лежал, задержав дыхание, – на востоке за деревьями стекленело, розовело раннее небо, из-под ветвей дуло охлаждающей влагой, наносило запах овлажненной листвы; и совсем рядом звучал и замолкал, доходил до него, как из другого мира, хрупкий голос:
– Я не могу так жить, я измучилась без Наташи… Нет, я не могу без нее. Она целый год у твоей матери. В этой отвратительной Ялте. Мне каждую ночь лезут в голову страшные мысли, Алеша!
Никита сомкнул глаза, но у него не хватило сил вздохнуть, пошевелиться, показать, что он проснулся и слышит.
– Ты напрасно начала этот разговор. В смысле этих денег мы не поймем друг друга. Прости, если я был груб…
– Ты так уж спокоен, Алексей? – громче заговорила Дина, выговаривая слова с ломкой детской интонацией. – Я не могу не думать о Наташе. Ведь эти деньги нужны для нее, а не для нас! Разве я этим унижаю тебя, Алеша?
– Можно потише? – сказал Алексей. – Разбудишь Никиту. Я уже сказал, что не хочу никаких пособий, даже для Наташи. Наташа наша дочь, а не Ольги Сергеевны.
– Значит, все из-за этих несчастных денег? Зачем я их взяла, зачем я их, дура, взяла? Ты ведь знаешь, что почти все деньги мы посылаем твоей матери и Наташе. Да, им нужно, им необходимо, и мы живем на шестьдесят рублей… И ведь я не жалуюсь, правда? Хорошо, тогда я уйду из института, Алеша. Я пойду работать в конструкторское бюро чертежницей. Я уйду…
– Нет, ты не уйдешь. Я не позволю тебе этого сделать.
– Пойми, Алексей, Ольга Сергеевна сунула мне конверт в сумочку в передней, когда мы выходили, и сказала, что это для Наташи. Я скоро отдам этот долг. Из своих стипендий. Я хотела купить платьица, туфельки Наташе, только это. И ничего себе… Если бы я взяла эти деньги для себя, ты был бы прав! Это выглядело бы унизительно и гадко! Так я тоже не хочу.
– Дина, ты сегодня же отнесешь ей эти сто пятьдесят рублей. И поблагодаришь за любезность.
– Но это не отец, это Ольга Сергеевна… Ты к ней не совсем справедлив. Нет, невозможно так жить вдали от Наташи! Я возьму ее сюда, в Москву… Я вся измучилась, думая о ней!
– У Наташи слабые легкие, ей обязательно нужен юг, и ты это знаешь. С этого дня на меня не трать ни копейки. Я еще двадцать лет могу носить ковбойки. И старые гимнастерки. Я обойдусь. Проживу как-нибудь без смокинга.
– Я уже не могу, не могу без Наташи! Я привезу ее. Так будет лучше. Так будет лучше, Алексей! Для нас обоих!
– Этого нельзя делать, Дина. Мы погубим Наташу. Мы ни в коем случае не должны этого делать.
– Нет! Ты всех нас делаешь несчастными! У тебя вместо сердца кусок камня, ты жестокий… Ты живешь как в безвоздушном пространстве. Как будто у тебя нет ни Наташи, ни меня!
– Дина, пожалуйста, успокойся. Я прошу тебя. Ты говоришь глупости! Мы так не поймем друг друга, хотя ближе тебя и Наташи у меня никого нет. Да, никого. И никогда не будет.
– Как же понять тебя, Алексей, как? Чего я не понимаю?
Никита тихо повернул голову в сторону, туда, где была спасительная розовая пустота, где не было голосов, и с закрытыми глазами лежал так, до свинцового онемения в мускулах, – затекло все тело.
Потом стукнула дверь в доме. Трещали крыльями, чивикали, сновали в мокрых ветвях воробьи над головой, холодные капли, сбиваемые их крыльями, сыпались сверху, с листвы тополей.
«Почему она не понимает его? – подумал Никита. – Неужели невозможно понять друг друга? Но я тоже не во всем понимал мать. Нет, не во всем. И она тоже боялась, что я не пойму ту ее, другую жизнь. И молчала. Если бы сейчас… если бы она была жива, я бы сказал ей, что я понимаю все, ни в чем ее не виню, только хочу знать одно: почему она никогда не вспоминала пятнадцать лет своей жизни? От чего она меня охраняла? Нет, я все понял бы, мама…»
С усилием он открыл глаза: широкое, уже горячее небо просвечивало сквозь красноватую влажную листву, ровно пылало на антеннах, на желобах, на железных крышах домов вокруг маленького, еще заполненного ранней тишиной дворика – рождалось спокойное и ясное, как радость, летнее утро.
И Никита почти через силу повернул голову к Алексею – тот лежал на спине, неподвижно глядел в пронизанный зарей густой навес тополей; потом он чуть нахмурился, спросил:
– Ты не спишь, Никита?
– Нет.
– Опять будет жаркий день. А утро прекрасное.
– Да.
– Откровенно говоря, я уже жалею, Никита, что рассказал тебе все, – сказал Алексей сдержанно. – Но хотел бы, чтобы ты меня правильно понял. Отец, конечно, чувствует свою вину, но в монастыри уходить сейчас не модно, в двадцатом-то веке. В общем, жизнь его тоже до полусмерти ударила. Больной и несчастный старик… Самим временем наказан, брат. И потом, я забыл тебя предупредить: Валерий, конечно, не должен ни о чем знать, – ровным голосом добавил Алексей. – Есть, знаешь ли, семейные тайны, которые ему не нужно знать.
– Ты не имел права мне не рассказать, Алексей.
– Думаю, ты покрепче Валерия. А двусмысленность хуже всего. Ты не мальчик, Никита…
– Да, я понял. Но я хотел спросить… Тот профессор, который знал мать… он жив? Тот, о котором она хлопотала…
– Да, он живет в Москве. Зачем тебе это нужно, Никита?
– Я хотел бы его увидеть. Я почему-то очень хотел бы его увидеть. Просто посмотреть на него.
– Хорошо. Мы съездим.
Через час они сидели на ступенях крыльца и курили после завтрака – завтракали без Дины, ее не было дома; легкая тишина стояла за полусумраком открытых окон, и ни звука во дворике; на солнце обсыхали отяжелевшие от росы ромашки в палисадниках; мелькали перед глазами, падали в тень под домом тополиные сережки – и всюду тихая благостность утра, жаркий солнечный свет на траве, на стенах домов. Никита чувствовал себя невыспавшимся, и был словно разбит, помят, непрерывный звон ночного сверчка назойливо плыл в ушах; лицо Алексея тоже устало, непроспанно; темно-карие глаза в раздумье щурились на облетающие близ крыльца одуванчики. Никита выговорил наконец:
– Я возьму свои вещи и перееду к тебе. До завтра. Можно?
– Было бы лучше, – сказал Алексей, – если бы я съездил за твоими вещами и привез их сюда. Будешь жить у меня. Сколько хочешь. Меня ты не стеснишь.
– Я сам съезжу за вещами. Мне надо их собрать.
– Ты сказал, что Вера Лаврентьевна просила в письме Грекова о твоем переводе в Москву? Если это так, я поговорю с профессором Николаевым, и он поможет. Думаю, что сделает это с радостью.
– Не надо об этом с ним говорить. Я не буду никуда переводиться.
– А ты как надо подумай, – ответил Алексей и повторил: – Рано, а уже парит. Жаркое утро.
Он сошел по ступеням крыльца, открыл дверцу машины, еще влажно блестевшей под прохладным навесом тополей, с мокрым, прилипшим пухом на капоте, на подсыхающих крыльях, сказал:
– Я в автошколу. Вернусь часа в три. Твои планы?
Он начал протирать стекло. Никита, не вставая, следил за движениями рук Алексея, казавшегося спокойным, негромко спросил:
– Ты сейчас едешь?
– Могу тебя взять с собой. Чтобы ты не ждал. Правда, это утомительно. Экзамены.
– Нет, – сказал Никита. – Подвези меня в центр. На телеграф. Хочу позвонить. Мне надо позвонить в Ленинград.
– Теперь вот что, – проговорил Алексей. – У тебя есть какие-нибудь ресурсы на личные расходы? Только прямо и откровенно.
– Есть.
– А если по-мужски?
– Есть. Мне ничего не надо, Алексей. Я же сказал.
– Ладно. Мы что-нибудь придумаем. Садись. Сейчас поедем.
Никита поднялся, медленно подошел к машине, сказал не без решимости:
– Я не возьму у тебя ни копейки, Алексей. Главное – у меня есть деньги на билет в Ленинград. И больше мне ничего не надо. Ни копейки.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































