Текст книги "Достоевский и Апокалипсис"
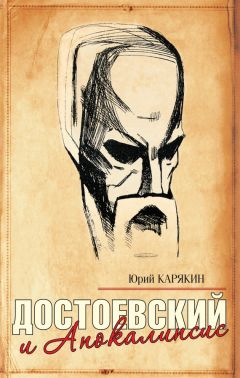
Автор книги: Юрий Карякин
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 51 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
День первый
«В начале июля в чрезвычайно жаркое время, под вечер», Раскольников выходит из своей каморки, «как бы в нерешимости».
«Проба».
Встреча с Мармеладовым.
Отводит его домой.
День второй
Проснулся в десятом часу утра.
Письмо от матери.
Сцена на бульваре.
«Страшный сон» на Петровском острове.
Подслушанный разговор на Сенной (около девяти вечера).
День третий
«Спал необыкновенно долго и без снов». Окончательно разбудил его чей-то крик – «Семой час давно!» – Давно! Боже мой!
Убийство (между половиной восьмого и восемью вечера).
День четвертый
В одиннадцатом часу утра его будит Настасья: повестка из конторы.
Сцена в конторе.
Прячет старушечьи вещи.
У Разумихина.
Бродит по улицам.
Домой вернулся к вечеру. Опять страшный сон, после которого – «наступило беспамятство» (на три дня).
День восьмой
Приходит в себя часов в десять утра. У него – Разумихин: «Четвертый день едва ешь и пьешь». Снова засыпает – до шести вечера.
Появляются Разумихин (с новой одеждой), Зосимов, наконец, Лужин.
Выгоняет Лужина. Все уходят.
Выскальзывает на улицу (около восьми вечера). «Любите вы уличное пение?..»
Сцена с Заметовым в «Хрустальном дворце».
Наталкивается на Разумихина.
На мосту пьяная женщина кидается в реку.
Идет в тот дом, в ту квартиру…
Смерть Мармеладова.
Идет к Разумихину и с ним – домой.
Свет в его комнате – приехали мать и сестра.
День девятый
Утром у него – мать, сестра, Разумихин, Зосимов, позже – Соня (зовет на поминки). Сцена у Порфирия.
Неизвестный человек на улице: «Ты убивец». Дома. Бредовый сон. На пороге Свидригайлов. Их разговор. К восьми идет с Разумихиным к матери и сестре. Разрыв с Лужиным.
Раскольников у Сони («Я к вам в последний раз пришел»).
День десятый
У Порфирия. Сцена с Миколкой.
Поминки.
У Сони.
Смерть Катерины Ивановны.
Раскольников впадает в полубред.
День двенадцатый
«Он вспомнил, что в этот день назначены похороны Катерины Ивановны, и обрадовался, что не присутствовал на них» (похороны, по православному обычаю, – на третий день после дня смерти, включая этот день).
Сцены с Разумихиным, Порфирием, Свидригайловым (потом свидригайловские сцены – с Дуней, у Сони, в кабаке, в гостинице).
День тринадцатый
Часов в пять утра застрелился Свидригайлов. Всю эту ночь и день Раскольников бродит по городу близ Невы.
Часу в седьмом он у матери. Сцены с Дуней, с Соней, на Сенной. Идет в контору.
Плюс полтора года
Приговор суда (каторжные работы второго разряда, сроком на восемь лет) последовал спустя пять месяцев после явки – стало быть, в декабре 1865-го.
Два месяца спустя (в феврале 1866-го) Дунечка выходит замуж за Разумихина (роман уже начал печататься, с января 1866-го).
Весной умирает мать Раскольникова.
Сцена в церкви (расправа над ним каторжных) приходится «на вторую неделю Великого поста» 1867 года (Великий пост в том году начался 20 февраля), то есть на самый конец февраля или начало марта.
После этого он заболел. «Он пролежал в больнице весь конец поста и Святую» (Святая – с 7 по 16 апреля).
Самая последняя сцена (Раскольников с Соней ран– ним утром на берегу реки) происходит весной, в конце апреля 1867-го.
Случай – редчайший, если не единственный: роман печатался весь 1866 год, а последние события, выходит, обозначены реально следующим, 1867 годом, который еще не наступил!
Освобождение Раскольникова должно состояться в июле 1873-го…
Эта опись является как бы развернутым оглавлением романа. Я прибегал раньше к разным сравнениям (облет, слушание музыкального произведения). Теперь мне хочется сравнить это оглавление – с картой.
Карта незнакомой местности, особенно для человека, не умеющего читать карту, – мертва. Но карта местности знакомой, да к тому же для человека, разбирающегося в картах, любящего в них разбираться, – это карта живая. Я знаю таких людей: в своем роде они истинные поэты. Их воображение – безгранично, вдохновенно и, главное, питается живой жизнью. Они умеют разговаривать с картой…
Сделав развернутое оглавление, я и хотел, чтобы читатель, прочитавший и полюбивший роман, поглядел на эту сокращенную карту духовных путей Раскольникова и еще раз вспомнил весь живой роман, еще больше полюбил его, еще больше восхитился красотой труда гениального мастера, который был всегда собой недоволен.
Глава 10
«Сильные впечатления» («Дело поэта»)
Мы знаем обычно произведения искусства ближе, чем их создателей; героев – лучше, чем авторов; персонажей – глубже, чем живых творцов. А главное – интересуемся больше. Дон-Кихот ближе нам, чем Сервантес. Если это так – вернее, когда это так, – то здесь какая-то опасная (и неосознанная) несправедливость, по-моему. Великий художник, гений, да и всякий художник истинный, да и всякий человек, главное, – несравненно больше, глубже, неисчерпаемее любого из своих произведений, любого из творений рук своих.
«Ты, Моцарт, недостоин сам себя…» Если уж и есть что верного насчет «достоин» или «недостоин», так это лишь одно: гениальные художники часто, почти всегда, считали даже самые лучшие произведения свои «недостойным» выражением того, что было в их душе, а потому, как никто, мучились этим, страдали и казнили себя беспощадно, и даже – тем больше, чем больше доставалось им славы. И никакая это не «гордыня». Это естественнейшее желание, потребность – отдать, отдать все-все, что есть, а есть всегда больше, чем отдают. Микеланджело повторял, что если бы он захотел быть вполне удовлетворенным своими работами, то многие из них не выставил бы, – может быть, ни одной. А на смертном одре своем сказал, что раскаивается в двух вещах: во-первых, он не сделал для спасения своей души все то, что обязан был сделать, и, во-вторых, должен умереть тогда, когда только начал читать по слогам в своей профессии. Ему было в то время 89.
Даже «Реквием», даже «Медный всадник», даже «Братья Карамазовы» – это драгоценные, но лишь крохотные частички бесконечного Моцарта, бесконечного Пушкина, бесконечного Достоевского.
И когда персонажи оказываются нам ближе, дороже, интереснее живого человека, творца, создавшего их, то не в том ли просто дело, что слишком уж мы зафразировались, залитературились, что ли, и слова о жизни – пусть самые гениальные – уже дороже нам стали самой живой жизни? Хотя вся литература великая – как раз о том, что живая жизнь бесконечно богаче всего сказанного о ней. Хотя и персонажи-то кажутся нам живее творцов своих благодаря творцам же (да еще из-за слепоты нашей). Хотя и герои-то наши любимые непознаваемы, быть может, во всей глубине своей без главных, самых главных героев, авторов то есть.
В отношении Пушкина мы особенно начинаем постигать это, а потому не можем и не сможем никогда привыкнуть к дате 29 января (10 февраля по нашему стилю) 1837 года. И потому «Борис Годунов» для нас – это Пушкин в Михайловском, а не где-то еще, Пушкин 1825 года, а не какого-то другого. И «маленькие трагедии» – это живой Пушкин на «болдинском острове», осенью 1830-го, тоскующий о Наталии Николаевне и предчувствующий беду… И «19 октября…» – это Лицей, живой Лицей, живой Пушкин с живыми Дельвигом и Кюхельбекером, Пущиным и Яковлевым, с живым Матюшкиным. Это – «Смесь обезианы с тигром», «Тося» и «Кюхля», «Большой Жанно» и «Буффон». Это – чудо беззаботности. Но это и верность в беде. Это еще – и тот крик «Матюшки», который всегда будет пробивать сердца: «Пушкин убит! Яковлев! Как ты мог допустить это?.. Яковлев, Яковлев, как мог ты это допустить!..» И внимание к этой до боли неразрывной связи каждой пушкинской строчки с местом, где она была рождена, со временем, когда родилась, с состоянием, в каком он был тогда, со всей судьбой его, – внимание это есть знаменательный и драгоценный залог избавления от нелюбви к живой жизни.
«“…Знание выше чувства, сознание жизни выше жизни. Наука даст нам премудрость, премудрость откроет законы, а знание законов счастья выше счастья”. Вот что говорили они, и после слов таких каждый возлюбил себя больше всех. <…> “Сознание жизни выше жизни, знание законов счастья – выше счастья” – вот с чем бороться надо! И буду» («Сон смешного человека»).
Не относится ли это отчасти и к литературоведению, к изучению Достоевского? Ведь если литературоведение не сознает себя «лишь» одним из специфических видов жизневедения, то и получится: знание законов литературы – выше литературы, знание литературы – выше жизни или: знание Достоевского, достоевсковедение, «достоевизм» (как выражается один доктор философских наук) – выше Достоевского.
Но все более пристальный интерес к личности Достоевского отвечает, вероятно, какому-то новому моменту, этапу, а может быть, даже целой эпохе в нашем познании нашей культуры. Тут не поверхностная мода, а очень глубокая жизненная потребность. Сейчас происходит истинное возрождение нашей классики XIX века: настоящее открытие заново, читаем как впервые и не перестаем удивляться, насколько богаты и насколько мало трудимся, чтобы овладеть этим богатством. И самое главное и прекрасное, может быть, именно в том и состоит, что великие писатели наши воздействуют на нас все больше не только литературно, своими книгами, образами, героями, но и самими собой, как живые личности, своей жизнью в целом. Происходит как бы их воскрешение. Литературоведение и проявляется здесь как «лишь» специфический способ жизневедения и даже жизнетворчества.
Конечно, я ни в коем случае не за пренебрежение к созданиям во имя создателя. Иначе, спрашивается, зачем бы я уделил столько времени и места прослушиванию и «исполнению» того же «Преступления и наказания», но, помимо всего прочего, я потому-то и уделил этому столько времени и места, чтобы получить право сказать очень простую вещь: мне Достоевский интересней – несравненно интересней, – чем Раскольников (чем любой его герой).
Конечно, конечно, я не за противопоставление, а точнее – как раз против такого противопоставления (вольного или невольного) героя – автору, литературы – жизни, я только за то, чтобы не забывать, что в начале всех начал есть то, что и должно быть в конце всех концов: первичность живой жизни, первичность живой личности творца.
«Чтобы написать роман, надо запастись прежде всего одним или несколькими сильными впечатлениями, пережитыми сердцем автора действительно. В этом дело поэта» (16; 10).
Каковы же были те «сильные впечатления», пережитые сердцем автора действительно и преобразованные потом в «Преступление и наказание»? Точнее: что из собственного духовного опыта помогло Достоевскому «уничтожить неопределенность» в мотивах преступления Раскольникова?
Впечатления эти – и эпохальные, и сугубо личные, интимные, и связаны они неразрывно: эпохальное переживается им как личное, личное – «выводится» на общечеловеческое.[36]36
Тема «Роман “Преступление и наказание” и эпоха шестидеся– тых годов XIX века» исследовалась в трудах А.А. Белкина, Л.П. Гроссмана, А.С. Долинина, Ф.И. Евнина, В.Я. Кирпотина, В.С. Нечаевой, Л.М. Розенблюм, Г.М. Фридлендера и др. Я же здесь обращусь только к некоторым «сильным впечатлениям» Достоевского и при этом вовсе не хочу сказать (и не думаю), будто именно эти и только эти впечатления все определяли. Разумеется, нет. Были и другие. Были и такие, о которых мы не знаем еще и, быть может, никогда не узнаем. Я о том только, что эти впечатления – когда прямо, когда косвенно – не могли не выразиться в романе, не могли не помочь Достоевскому «уничтожить неопределенность» в мотивах преступления своего героя.
[Закрыть]
В конце концов как просто, подумай только – один жест, одно движение, и ты в сонме знаменитостей, гениев, великих людей, спасителей человечества…
Вот поразительное свидетельство А. Сусловой, помеченное 17 сентября 1863 года (она была в то время вместе с Достоевским в Италии, в Триесте):
«Когда мы обедали, он, смотря на девочку, которая брала уроки, сказал: “Ну вот, представь себе, такая девочка с стариком, и вдруг какой-нибудь Наполеон говорит: «Истребить весь город». Всегда так было на свете”».[37]37
Суслова А.П. Годы близости с Достоевским: Дневник; Повесть; Письма. М., 1928. С. 60.
[Закрыть]
Какая жуткая фантазия, какое странное видение, какая боль. И как все это неожиданно еще и – пророчески: Герника, Хиросима…
Почувствовать, подумать, сказать такое в столь безмятежную минуту за обедом, по случаю, который, казалось бы, должен был вызвать лишь умиление, – сказать такое мог только человек, одержимый своими мыслями. Но эта-то одержимость и была обычной для Достоевского. И не она ли отзовется потом в словах Раскольникова: «Прав, прав «пророк», когда ставит где-нибудь поперек улицы хор-р-рошую батарею и дует в правого и виноватого, не удостоивая даже и объясниться…»
Эпоха была одержима наполеономанией всех сортов – вот одно из сильных самых впечатлений Достоевского.
Мы все глядим в Наполеоны,
Двуногих тварей миллионы
Для нас – орудие одно…
То, что Пушкин усмотрел в зародыше, во времена Достоевского – расцвело. И у автора «Преступления и наказания» было уже несравненно больше оснований написать: «Кто ж у нас на Руси себя Наполеоном теперь не считает?» (слова Порфирия).
Напомним: «статья» Раскольникова была написана «по поводу одной книги». Что это за книга? «История Юлия Цезаря», автором которой был Наполеон III? «Единственный и его собственность» М. Штирнера? Вероятно, и та и другая. Но известно еще, что таких книг было много, слишком много. И все они исповедовали, проповедовали необузданное своеволие личности. Все они были битком набиты «трихинами». Достоевский их знал, изучал. И раскольниковская «статья» сама есть художественный образ всех «трихинных» этих книг.
Эпоха, эпоха была одержима наполеономанией, а Достоевский – мыслью о том, к чему все это может привести.
Но мог ли даже он предполагать, что ему суждено столкнуться с совершенно неожиданной разновидностью этой эпидемии – и столкнуться лично, интимно даже?
Его возлюбленная в те годы, А. Суслова, была из женщин «бестиальных». Она увлеклась одним студентом, а когда тот обманул ее, решила его убить. Достоевский спрашивает: «Как можешь ты человеческие отношения решать кровопролитием?» Выясняется, что свою месть она задумала «превратить в подвиг»: «Не все ли равно, какой мужчина заплатит за надругательство надо мной. Но если уж мстить, так чтобы всему миру стало известно о единственной, неслыханной, небывалой, неповторимой мести». Она замышляет убить… царя: «Очень уж увлекает. Огромность шага. В конце концов как просто, подумай только – один жест, одно движение, и ты в сонме знаменитостей, гениев, великих людей, спасителей человечества…
– Славу добывают трудом…
– Или беспримерной смелостью.
– А о муке ты не подумала?
– Это-то и остановило меня. Вдруг подумала: казнят, а ведь прожить до восьмидесяти лет где-нибудь в тишине, на солнце, у южного моря, очень недурно…»[38]38
Цит. по кн.: Гроссман Л. Достоевский. М.: Молодая гвардия. С. 276–279.
[Закрыть]
Разговор этот происходил в самом начале сентября 1863 года в Париже, а через две недели, 17 сентября, в Триесте, и будут произнесены слова о «каком-нибудь Наполеоне»…
Таков этот невыдуманный сюжет, равнозначный разве лишь фантазии самого Достоевского, которая и стимулировалась такими сюжетами.
«Как просто – один жест, одно движение, и ты в сонме…»
Не поможет ли Достоевскому это признание точнее понять «проклятую мечту» Раскольникова, стремящегося получить «сразу весь капитал»?
Каково же, однако, было слышать Достоевскому такое – от любимой женщины? Здесь – одно из самых сильных впечатлений его, «пережитых сердцем действительно».
И кто знает, когда Достоевский сказал той же Сусловой: «Ну вот, представь себе, такая девочка с стариком, и вдруг какой-нибудь Наполеон говорит: “Истребить весь город”, – кто знает, не явились ли слова эти еще и ответом на ее “проклятую мечту”?»
Но и сам Достоевский, наверное, не понял бы все это столь определенно и глубоко, не выразил бы столь убежденно и убедительно, если бы и в нем самом не бушевали страсти, подобные (хотя далеко-далеко не тождественные) этим, если бы не умел он одолевать и свой раскол, свой самообман.
16. IV.1864. «Маша лежит на столе…»Возлюбить человека, как самого себя, по заповеди Христовой, – невозможно. Закон личности на Земле связывает. Я препятствует.
Вспомним, как в «Зимних заметках о летних впечатлениях» (1863), размышляя о «сильно развитой личности», которая «по закону природы» должна отдать всю себя всем, Достоевский писал: «…я приношу и жертвую всего себя для всех; ну, вот и надобно, чтоб я жертвовал себя совсем, окончательно, без мысли о выгоде, отнюдь не думая, что вот я пожертвую обществу всего себя и за это само общество отдаст мне всего себя. Надо жертвовать именно так, чтобы отдавать все и даже желать, чтоб тебе ничего не было выдано за это обратно, чтоб на тебя никто ни в чем не изубыточился. Как же это сделать? Ведь это все равно что не вспоминать о белом медведе. Попробуйте задать себе задачу: не вспоминать о белом медведе, увидите, что он, проклятый, будет поминутно припоминаться…»
Но никогда, кажется, «проклятый белый медведь» не припоминался самому Достоевскому так мучительно, как в это время, непосредственно предшествующее созданию «Преступления и наказания».
Он едет за границу не в свободный вояж, не за «материалом». Он едет лечиться. Он – бежит туда, спасаясь от кредиторов. А еще – чтобы быть вместе с Аполлинарией Сусловой, не таиться наконец от посторонних. Жена, умирающая в чахотке, остается в России. Разводиться с ней он не хочет. Суслова настаивает на этом. Он – наотрез отказывается: «Она же умирает…»
За границей – игра, проигрыш, сдача последних вещей в ломбард, займы денег – для игры же. И опять проигрыши, опять займы. И – унизительные отказы. Один – от Герцена. Достоевский уязвлен: «Он не мог сомневаться, что я не отдам: письмо-то мое у него. Не потерянный же я человек».[39]39
Суслова А.П. Годы близости с Достоевским: Дневник; Повесть; Письма. М., 1928. С. 162.
[Закрыть] Остается (в какой уже раз) только Суслова: «Поля, друг мой, выручи меня, спаси меня! Достань где-нибудь 150 гульденов… я тебе отдам их. Не захочу же я тебя поставить в скверное положение. Быть того не может…»[40]40
Там же. С. 166.
[Закрыть]
Он оправдывается перед братом: «Ты пишешь, как можно играть дотла, путешествуя с тем, кого любишь <…> А мне надо деньги. Для меня, для тебя, для жены, для написания романа. Тут шутя выигрывают десятки тысяч. Да я ехал с тем, чтобы всех нас спасти, от беды выгородить» (28, II; 45).
Страсть игрока, надежда «всех спасти», вина перед женой, страх потерять молодую Суслову, а еще – искусство, главное – искусство. Он предчувствует в себе такие творческие силы, о которых никто на свете, кроме него, пока и не подозревает. И может быть, по одной только силе этого предчувствия он и берет себе право всем рисковать.
«Чужая беда не дает ума» – Достоевский не раз повторял эту пословицу. Она относится и к нему самому. Самое гениальное воображение не может кое в чем – и весьма существенном – заменить собственный опыт.
Случилось в то время еще одно «сильное впечатление» (после возвращения в Россию). 15 апреля 1864 года в Москве умирает жена Достоевского – Мария Дмитриевна. И он делает в этот момент такое исповедальное признание, откровеннее которого даже у него трудно, да, пожалуй, и невозможно найти:
«16 апреля. Маша лежит на столе. Увижусь ли с Машей?
Возлюбить человека, как самого себя, по заповеди Христовой, – невозможно. Закон личности на Земле связывает. Я препятствует. <…> Между тем после появления Христа, как идеала человека во плоти, стало ясно как день, что <…> высочайшее употребление, которое может сделать человек из своей личности, из полноты развития своего я, – это как бы уничтожить это я, отдать его целиком всем и каждому безраздельно и беззаветно. И это величайшее счастие. Таким образом, закон я сливается с законом гуманизма. <…>
Итак, человек стремится на земле к идеалу, – противуположному его натуре. Когда человек не исполнил закона стремления к идеалу, т. е. не приносил любовью в жертву своего я людям или другому существу (я и Маша), он чувствует страдание и назвал это состояние грехом. Итак, человек беспрерывно должен чувствовать страдание, которое уравновешивается райским наслаждением исполнения закона, то есть жертвой. Тут-то и равновесие земное. Иначе земля была бы бессмысленна» (20; 172, 175).
Опять перед нами – невыдуманный сюжет из жизни Достоевского, ничуть не уступающий сюжетам «выдуманным» в его книгах: Достоевский – наедине с мертвой женой (наверное, ночью) – узнает и пишет такое о себе и – через себя – о людях.
Не поможет ли этот собственный опыт «уничтожить неопределенность» в мотивах преступления Раскольникова, который так дорого заплатил за право сказать матери: «Сын ваш любит вас теперь больше себя»? Не отсюда ли еще – глубоко скрытый, но сильнейший исповедальный дух романа? Достоевский и для себя решал «предвечные» вопросы, и свое «я» преодолевал. Он и в себе открыл борьбу противоположных мотивов, законов, целей. Он имел мужество признаться себе в этом, признаться – в один из самых страшных моментов своей жизни. Прежде всего он «уничтожил неопределенность» в своем самосознании. Он и себя был «убаюкивать не мастер, хотя иногда брался за это». И без такого самосознания, стремящегося к полной правде, без такого осознанного вытравливания самообмана, без таких беспощадных признаний не смог бы он создать ни Раскольникова, ни Ивана Карамазова, не смог бы столь глубоко, изнутри, понять их характеры, их раскол.
«Маша лежит на столе…» Тут уж никакого самообмана.
И вот еще одно признание в письме Достоевского своей корреспондентке – 11 апреля 1880 года: «Что вы пишете о Вашей двойственности? Но это самая обыкновенная черта у людей… не совсем, впрочем, обыкновенных. Черта, свойственная человеческой природе вообще, но далеко-далеко не во всякой природе человеческой встречающаяся в такой силе, как у Вас. Вот и потому Вы мне родная, потому что это раздвоение в Вас точь-в-точь как и во мне, и всю жизнь во мне было. Это большая мука, но в то же время и большое наслаждение. Это – сильное сознание, потребность самоотчета и присутствия в природе Вашей потребности нравственного долга к самому себе и к человечеству. Вот что значит эта двойственность. Были бы Вы не столь развиты умом, были бы ограниченнее, то были бы и менее совестливы и не было бы этой двойственности. Напротив, родилось бы великое-великое самомнение. Но все-таки эта двойственность – большая мука» (30, I; 149).
Свою двойственность Достоевский одолевал творчеством, главным образом творчеством. Когда он писал, когда творил, он и себя «выделывал». В том же письме читаем: «Вы пишете о себе, о душевном настроении Вашем в настоящую минуту. Я знаю, что Вы художник, занимаетесь живописью. Позвольте Вам дать совет от сердца: не покидайте искусства и даже еще более предайтесь ему, чем доселе. Я знаю, я слышал (простите меня), что Вы не очень счастливы. Живя в уединении и растравляя душу свою воспоминаниями, Вы можете сделать свою жизнь слишком мрачною. Одно убежище, одно лекарство: искусство и творчество» (30, I; 148).
С января 1866 года в «Русском вестнике» печатается «Преступление и наказание». «Вся моя будущность, – пишет Достоевский, – в том, чтобы кончить его хорошо» (28, II; 156).
Между тем надвигается гроза. Еще в июне 1865 года Достоевский продал издателю-спекулянту Стелловскому право издания всех своих сочинений, обязуясь к 1 ноября 1866 года написать новый роман; в случае невыполнения обязательства все его произведения, включая будущие, должны были стать монопольной собственностью Стелловского. Достоевский отказывается от предложения друзей – писать отдельные главы за него, по составленному им плану. Такого он себе позволить не мог. И вот принимается решение отчаянное – диктовать новый роман («Игрок») «стенографке» – Анне Григорьевне Сниткиной.
За двадцать шесть дней октября он пишет десять листов. Схватка со Стелловским выиграна, выиграна неимоверным трудом.
Достоевский создает в «Игроке» картину «своего рода ада», обнажает страсти, рожденные все той же самоослепляющей погоней за «капиталом сразу», рожденные «самоотравлением собственной фантазией».
«Игрок» еще и болезненно автобиографичен. Это – внутренний расчет с любовью к Сусловой. Это – и попытка выбраться из своего собственного «ада», одолеть пагубную самообманную страсть к игре.
В ноябре – декабре завершается последняя часть «Преступления и наказания». За год написано сорок листов (и каких). А все это время он тяжело болел и ждал ежедневно очередного припадка как визита или письма кредитора. Он имел незавидное право сказать (в июне 1866 года): «Я убежден, что ни единый из литераторов наших, бывших и живущих, не писал под такими условиями, под которыми я постоянно пишу, Тургенев умер бы от одной мысли» (28, II; 160).
Самые «мелкие» и «бытовые» вопросы перепутались, завязались для Достоевского в один узел с вопросами «предвечными», самые интимные – с самыми эпохальными. После страшного проигрыша в Висбадене, в начале августа 1865 года, в полном одиночестве, без гроша, он, по собственному признанию, и «выдумал “Преступление и наказание” и подумал завязать сношения с Катковым» (28, II; 290). Вряд ли именно это и было тем единственным «сильным впечатлением», из которого родился роман. Вряд ли это даже и вообще входило в число таких впечатлений. Но само это отчаянное положение, острое осознание потерянного и теряемого времени своего и дара, чувство вины перед собой и людьми – все это и стало, вероятно, тем последним потрясением, которое сконцентрировало вдруг все созревавшее ранее в порыв самоспасения, в могучий порыв творчества, в окончательное решение немедля писать роман, в котором для него и сошлось все. Все свелось к роману – сдаться или победить. И он – побеждает. Побеждает себя, кредиторов (пока – далеко не всех), побеждает судьбу. Мало кто мог бы с таким правом повторить слова Бетховена: «Я возьму судьбу за глотку». Достоевский – взял.
И всегда-то он все свои грехи искупал главным образом творчеством, а в этот момент – особенно: «Трудно было быть более в гибели, но работа меня вынесла» (28, II; 235).
«Преступление и наказание» – органический художественный сплав мучительных и мужественных размышлений и о себе, и о своем народе, и о судьбах человечества.
Победа его как художника и стала восстановлением его как человека.
Победа Достоевского над самим собой как человека и оказалась великой победой его как художника.
«Чтоб хорошо писать, страдать надо, страдать!»[41]41
Мережковский Д. Автобиографическая заметка // Русская литература XX века / Под ред. С.А. Венгерова. Т. 1. С. 291.
[Закрыть] – говорил Достоевский. Он имел все основания добавить: и преодолевать страдания. Он и сделал такое добавление – каждым своим произведением.
С «Преступлением и наказанием» (и с «Игроком») связан еще неожиданный, крутой и счастливый поворот в его личной жизни. Как награда.
8 ноября 1866 года, крайне взволнованный, он говорит А.Г. Сниткиной: «Представьте… что я признался вам в любви и просил быть моей женой. Скажите, что бы вы мне ответили?..» Анна Григорьевна вспоминает: «Я взглянула на столь дорогое мне, взволнованное лицо Федора Михайловича и сказала: “Я бы вам ответила, что вас люблю и буду любить всю жизнь”».[42]42
Достоевская А.Г. Воспоминания. М., 1971. С. 79.
[Закрыть] А вскоре он напишет (может быть, продиктует своей «стенографке») строчки о любви Раскольникова и Сони из Эпилога: «Их воскресила любовь. Сердце одного заключало бесконечные источники жизни для сердца другого».
И когда мы читаем эти строчки, не забудем, в какой момент они родились, кто был их первой читательницей и что они значили для него.
Много лет спустя после смерти Достоевского композитор С. Прокофьев попросил А.Г. Достоевскую написать что-либо в его альбом, сказав при этом: «Должен предупредить вас, Анна Григорьевна, что альбом этот посвящен исключительно солнцу. Здесь можно писать только о солнце». Вот что она написала: «Солнце моей жизни – Федор Достоевский. Анна Достоевская. 6 января 1917 г.».[43]43
Достоевская А.Г. Воспоминания. М.-Л., 1925. С. 16. (А.Г. Достоевская родилась в 1846 году, умерла 9 июня 1918 года в Ялте.)
[Закрыть]
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































