Текст книги "Достоевский и Апокалипсис"
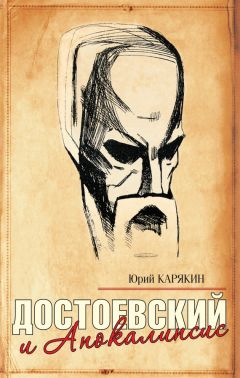
Автор книги: Юрий Карякин
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 51 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Достоевский: «Я скажу вам про себя, что я – дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки».
Финал романа стоил Достоевскому не меньше трудов, чем художественное решение проблемы мотивов преступления.
В сущности, это был, конечно, один и тот же труд, поскольку «исход» Раскольникова и зависел прежде всего от силы этих мотивов.
«Божия правда, земной закон берет свое», – пишет Достоевский о раскаянии преступника (черновик письма Каткову). Но запятая между «Божией правдой» и «земным законом» не может скрыть противоречия между ними. Противоречие это так и не было разрешено до конца жизни, но в искусстве Достоевского – тенденция разрешения противоречия явно в пользу «земного закона». В черновиках к роману читаем: «Столкновение с действительностью и логический выход к закону природы и долгу».
Несчетное число раз Достоевский убеждал себя: «Бог есть идея, человечества собирательного, массы, всех» (20; 191).
«Единый суд – моя совесть, то есть судящий во мне Бог» (24; 109).[48]48
Кстати, позволю себе сделать здесь одно замечание в адрес современных издателей Достоевского: почему в текстах писателя везде «Бог» заменено на «бог»? Ну, понятно, было такое прежде, под неусыпным надзором ждановых, заславских, ермиловых, невежество которых в отношении к религии было синонимом их «воинствующего атеизма», и такая замена казалась им «критикой» и даже «победой». Но сейчас-то – какой Берлиоз, какой Иван Бездомный заставил или посмел править Достоевского? Его всю жизнь «Бог мучил», а не «бог».
[Закрыть]
«Всякая нравственность выходит из религии, ибо религия есть только формула нравственности» (24; 168).
«Религия не одна только форма, она все» (24; 220).
«Совесть без Бога есть ужас, она может заблудиться до самого безнравственного» (27; 56).
Все это факты бесспорные: Достоевский действительно так думал. Но вот и другие, не менее бесспорные факты:
«Я скажу вам про себя, что я – дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных» (28, I; 176). Это 1854 год.
Еще: «Главный вопрос. <…> тот самый, которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь, – существование Божие». Это год 1870-й (29, I; 117).
И еще: «И в Европе такой силы атеистических выражений нет и не было. Стало быть, не как мальчик же я верую во Христа и его исповедую, а через большое горнило сомнений моя осанна прошла» (27; 86). Это накануне смерти, о «Братьях Карамазовых», 1881 год.
И вот как это противоречие выразилось в черновиках к «Преступлению и наказанию»:
«ИДЕЯ РОМАНА.
ПРАВОСЛАВНОЕ ВОЗЗРЕНИЕ,
В ЧЕМ ЕСТЬ ПРАВОСЛАВИЕ.
Нет счастья в комфорте, покупается счастье страданием. Таков закон нашей планеты, но это непосредственное сознание, чувствуемое житейским процессом, – есть такая великая радость, за которую можно заплатить годами страдания.
Человек не родится для счастья. Человек заслуживает свое счастье, и всегда страданием.
Тут нет никакой несправедливости, ибо жизненное знание и сознание (т. е. непосредственно чувствуемое телом и духом, т. е. жизненным всем процессом) приобретается опытом pro и contra, которое нужно перетащить на себе» (7; 154–155).
Идея православия и должна была выразиться в «видении Христа» Раскольникову (после него он и раскаивается). Представим на секунду, что «видение» это осталось. Было бы это художественно? Было бы это убедительно? Ведь этак и исследовать ничего не надо: Раскольников отпал от Бога – поэтому совершил преступление; Раскольников через «видение Христа» вернулся к Богу – поэтому и раскаялся. Но вместо готовой схемы побеждает другое решение: «Соня и любовь к ней сломали» (7; 135). Ср. в романе: «Их воскресила любовь».
Оставим на минуту черновики. Вспомним, как один герой Достоевского (из «Подростка») говорит: «Жизнь есть тоже художественное произведение Самого Творца, в окончательной и безукоризненной форме пушкинского стихотворения».
Гениальная еретическая проговорка: Творец, Бог сравнивается со стихотворцем, творение – со стихотворением!..
Но Достоевский и сам – от себя писал: «Ведь в “Илиаде” Гомер дал всему Древнему миру организацию и духовной и земной жизни, совершенно в такой же силе, как Христос новому» (28, I; 69).
И сколько раз он говорил о Пушкине буквально в тех же выражениях, как и о Христе («пришел ускорить времена и сроки»). И о Шекспире, и о Сервантесе… Достоевский и к Библии относился порой (а может быть, даже прежде всего, больше всего) как к гениальному художественному произведению: «Если б когда исчезла земля, конечно, Библия. Все характеры. Читать детям. <…> Библия принадлежит всем, атеистам и верующим равно. Это книга человечества. Если когда-нибудь исчез бы весь род человеческий. <…> Библия. Эта книга непобедима» (24; 97, 123, 125).
Но ведь точно так же он писал и о «Дон-Кихоте» («предъявим туда»).[49]49
«…Если б кончилась земля и спросили там, где-нибудь, людей: “Что вы, поняли ли вашу жизнь на земле и что об ней заключили?” – то человек мог бы молча подать Дон-Кихота: “Вот мое заключение о жизни и – можете ли вы за него судить меня?” Я не утверждаю, что человек был бы прав, сказав это, но…» (22; 92).
[Закрыть]
«…Библия. Все характеры». Ср.: «…учить характеры могу из писателей, с которыми лучшая часть жизни моей протекает свободно и радостно…» (28, I; 63).
Кстати: не здесь ли – в Библии – и главный корень «полифонического романа» Достоевского? Вот уж где полифония, небывалая и непревзойденная…
Но вернемся к черновикам.
«NB. ПОСЛЕДНЯЯ СТРОЧКА:
Неисповедимы пути, которыми находит Бог человека» (7; 203).
Но Достоевский завершил роман другими строчками, которые явились примером победы художника над своей предвзятостью и одновременно – выражением сомнений, терзавших Достоевского.
Когда Лапласа спросили, почему в его системе нет Бога, он отметил, что в ней все объясняется и без этой гипотезы. Вряд ли Достоевский мог повторить эти слова. Он выдвигал эту гипотезу, превращал ее в аксиому аксиом и сам же снова и снова испытывал ее в «горниле сомнений». Противоречия его раскалены так, что в их огне сгорает всякая традиционная вера. Конечно, если совесть – от Бога, то атеизм аморален. А как быть, если восстание против Бога происходит во имя совести, во имя человека? Если совесть не принимает никакой теодицеи, то есть никакого оправдания Бога за существующее в мире зло? Значит, высшая нравственность и атеизм совместны? – вот главный вопрос, который неодолимо влечет и страшит Достоевского. Сколько раз он отвечал: несовместны, но вот факт неопровержимый: в Боге Достоевский действительно сомневался до гробовой крышки, а в совести – никогда. Он не столько переводил слова «совесть», «любовь», «жизнь» словом «религия», сколько слово «религия» – словами «совесть», «любовь», «жизнь». Созданный им художественный мир вращается вокруг человека, а не вокруг Бога. Человек – единственное солнце в этом мире – должен быть солнцем!
Финал. Достоевский: «Пожар, спасение, ура!»Достоевский: «Короткий срок <…> Мечты о новом преступлении».
Кроме религиозного варианта финала, были и другие. Например:
«ФИНАЛ РОМАНА.
Раскольников застрелиться идет» (7; 204). Но, пожалуй, самым живучим вариантом (из отброшенных) оказался пожар, во время которого Раскольников, уже после убийства, спасает детей, а сам, обгорелый, едва не погибший, возвращается домой и признается, раскаивается в своем преступлении – сначала перед родными, а потом и всенародно. Все в восторге, а сам Раскольников отбывает на каторгу как на праздник. «По высочайшему повелению» ему в награду за подвиг и чистосердечное покаяние (всамделишное!) еще и сбавка большая вышла…
Пожар упоминается в черновиках не меньше раз десяти и даже в 3-й записной книжке (то есть уже тогда, когда первые части романа были сданы в печать).
«Пожар (награда ему). Мать, сестра, около постели. Примирение со всеми. Радость его, радостный вечер. Наутро к обедне, народу поклон-прощание. Приеду, говорит Соня» (7; 134).
Еще: «Пожар. Вот уж то одно, что вы геройством загладите, вы выкупите» (7; 139) (слова Сони).
Еще: «Вася! ты все омыл, все омыл» (7; 141) (слова Разумихина герою, который пока еще называется «Васей»).
И еще: «Гордость и надменность его и самоуверенность в безвинности идут все crescendo, и вдруг на самом сильном фазисе, после пожара, он идет предать себя <…> Наделал громких дел на пожаре. Болен после пожара. Пожар решил всё» (7; 167, 135).
В романе ничего подобного нет. В таком пожаре могло сгореть самое главное – сложнейшая борьба «двух характеров» Раскольникова. Пожар как «спасение» заставлял совместить признание с раскаянием и даже с искуплением. Пожар, как и «видение Христа», – финал искусственный и антихудожественный. Сомнения в таком финале у Достоевского накапливались с самого начала. Именно после слов: «Пожар решил все» – следует: «Короткий срок». А в другом месте после слов: «Пожар. Спасение. Ура!..» – Достоевский пишет курсивом: «Мечты о новом преступлении» (7; 135, 143).
«Короткий срок» – слишком легкое решение сложнейшей задачи, даже не решение, а видимость решения. Сроки будут долгими.
Пожар, впрочем, в романе остался, и даже остался на последних страницах, но как? Он происходит не после убийства, а задолго до него. Пожар остался не развернутой, «громкой» сценой «спасения», а в виде нескольких строчек Эпилога: оказывается, Разумихин разузнал о том, что «Родя был обожжен и даже хворал, спасши от смерти, прошлого года, двух малюток».
Пожар до убийства – бесспорное доказательство существования у Раскольникова правых целей жизни, не целей преступления.
Убийство после пожара – столь же бесспорное доказательство перемены этих главных целей жизни, отступничества от них.
Пожар после убийства – слишком легкий путь искупления, это действительно «награда ему», что-то вроде ордена. Представим на мгновение, что подобным «катарсисом» завершались бы мировые трагедии – Эдипа, Макбета, Годунова, Ивана Карамазова… Не было бы их.
Но преступление Раскольникова все-таки связано с пожаром, и пожар после убийства все-таки есть – только другой: «В городах целый день били в набат. <…> Начались пожары. Все и всё погибало…» Раскольников уже не спасает детей на пожаре, а сам разжигает пожар, угрожающий поглотить всех. Вместо искусственной мелодраматической картинки – грандиозное художественное полотно.
«Тут-то и сон»Али есть закон природы, которого не знаем мы и который кричит в нас. Сон.
Сны проходят настоящим лейтмотивом в черновых заметках Достоевского: «План. После сна…»; «Сон»; «Ночью сон»; «Тут-то и сон»; «Сон»; «NB. Сон»; «Раскольников. Сон» и т. д. (7; 76, 78, 79, 80, 82, 89, 90, 137, 139, 141, 177). О чем – непонятно. Но вдруг встречаются слова, разом освещающие всю глубину проблемы: «Али есть закон природы, которого не знаем мы и который кричит в нас. Сон» (7; 137).
Сон для Достоевского – не какой-то эффектный прием предсказания события, заранее известного писателю, или условное изображение уже происшедшего события. Нет, сон у него – незаменимый способ художественного познания, основанный на законах самой человеческой натуры. Через сон он тоже проникает во «все глубины души человеческой». Через сон он тоже ищет «в человеке человека». В снах у него и «невысказанное, будущее Слово». Сон тоже входит в понятие «полного реализма», реализма «в высшем смысле». Это не уход от действительности, а стремление постигнуть ее в ее собственных своеобразных формах, осмысленных художественно.
Сон – это великое духовное (и художественное) событие.
И при этом у Достоевского здесь нет мистики, как нет ее в снах у Шекспира или у Пушкина. Достоевский и здесь развивает одну из самых животворных реалистических традиций мировой и русской литературы. Но, пожалуй, ни у кого из прежних писателей сны не были столь мощным орудием художественного познания человека и мира, как у Достоевского.
Согласно общей художественно-философской, художественно-психологической концепции Достоевского из человека цельного, непосредственного, то есть общинного, родового, человек становится разорванным и частичным. Однако внутренняя, врожденная потребность в цельности живет в нем неистребимо, как живет и естественно-социальная потребность его в «слитии» с родом (20; 192). Разорванность есть болезнь, социальная болезнь – общая причина преступлений. А преступление не что иное, как покушение на жизнь, на судьбу рода, – потому-то оно и противоестественно. Если высший идеал для Достоевского – это «слитие» каждого человека с другими людьми, с родом, то совесть и есть неотсроченный идеал, «сейчашняя», земная реализация его… Убить совесть и значит убить идеал, и наоборот. Поэтому-то не может быть преступления «по совести», преступности «во время идеала», а есть преступление только против совести, против идеала.
Здесь мысли Достоевского удивительно сходны с мыслями Гегеля, который определял совесть как «моральную гениальность», то есть как естественнейшее свойство каждого нормального человека, то есть именно как неотсроченный, осуществляемый сегодня идеал. Совесть, по Гегелю, – это «одинокое богослужение», являющееся одновременно «богослужением общины».[50]50
Гегель Г.Ф. Сочинения. Т. 4. С. 351–352.
[Закрыть] И опять-таки за всей иррациональностью здесь нельзя пропустить самое главное – объективное, глубоко социальное содержание этих мыслей: совесть как суд человеческого рода над человеком, суд, происходящий внутри самого человека. И у Достоевского, и у Гегеля исходный пункт – один и тот же: община, то есть вполне конкретная историческая данность, а не какой-то сверхъестественный феномен. И у Достоевского, и у Гегеля утрата реального родового единства человечества, утрата цельности человека возмещается понятием – Бог.
А теперь вернемся к снам в понимании Достоевского. «Сны, как известно, чрезвычайно странная вещь: одно представляется с ужасающей ясностью, с ювелирски мелочною отделкой подробностей, а через другое перескакиваешь, как бы не замечая вовсе, например, через пространство и время. Сны, кажется, стремит не рассудок, а желание, не голова, а сердце. <…> перескакиваешь через пространство и время и через законы бытия и рассудка, и останавливаешься на точках, о которых грезит сердце» («Сон смешного человека»). Здесь-то и выявляется особенно, что «рассудок есть только рассудок и удовлетворяет только рассудочной способности человека, а хотенье есть проявление всей жизни…» («Записки из подполья»).
Человеческая натура проявляется наяву обычно лишь частично, а во время катастроф и в снах, сопровождающих и предвещающих такие катастрофы, проявляется в целом. Тут уже не один «ум», но и «сердце», тут вся натура в целом. В снах истинные мотивы деятельности человека обнажаются и теснее соотносятся с судьбой человеческого рода (обычно – через судьбу самых близких ему людей). Самообманное сознание, успокаивающее совесть человека наяву, во сне разоблачается. В кошмаре снов и срываются все и всякие самообманные маски. Самообманных снов у Достоевского не бывает. Сны у него – художественное уничтожение всякой неопределенности в мотивах преступления. Это наяву «ум» может сколько yгодно развивать теорию «арифметики», теорию преступления «по совести», может сколько угодно заниматься переименованием вещей, – зато во сне все выходит наружу, хотя и в кошмарном виде.
Сны у Достоевского – это обнаженная совесть, не заговоренная никакими «успокоительными, славными словечками».
Художник выявляет ответственность человека не только за преступные результаты его действий, не только за преступные средства, но и за преступность скрытых помыслов. Человек ответствен, убежден Достоевский, даже за свои неосознанные желания.
«Знал ли я о страшных последствиях своего сговора с Ламбертом?» – спрашивает себя Подросток. И отвечает: «Нет, не знал». Но тут же добавляет: «Это правда, но так ли вполне? Нет, не так: я уже кое-что, несомненно, знал, даже слишком много, но как? Пусть читатель вспомнит про сон! Если уж мог быть такой сон, если уж мог он вырваться из моего сердца и так формулироваться, то, значит, я страшно много – не знал, а предчувствовал… Знания не было, но сердце билось от предчувствий, и злые духи уже овладели моими снами» (речь идет о сне, в котором Подросток вместе с Ламбертом шантажирует Ахмакову). Сон этот предваряет явь: «Это значит, что все уже давно зародилось и лежало в развратном сердце моем, в желании моем лежало, но сердце еще стыдилось наяву и ум не смел еще представить что-нибудь подобное сознательно. А во сне душа сама представила и выложила, что было в сердце, в совершенной точности и в самой полной картине и – в пророческой форме».
Раскольников тоже «страшно много – не знал, а предчувствовал». И человек, убежден Достоевский, ответствен даже за такие предчувствия, за то, что дал им волю, испугался превратить их в прямое знание.[51]51
При этом предчувствие злодейства, писал Достоевский как раз о пророческом сне Подростка, оказывается чрезвычайно притягательным, тогда как прямое знание его смысла и последствий отталкивает человека: «NB. Это драгоценное психологическое замечание и новое сведение о природе человеческой» (16; 58).
[Закрыть]
«Али есть закон природы, которого не знаем мы и который кричит в нас. Сон». Не этот ли закон природы и кричит в детском сне Раскольникова как раз накануне преступления? Не этот ли сон (хотя пока и на время) пробуждает в Раскольникове человека? У Свидригайлова таких снов уже нет. Перечитайте те несколько страниц, где описываются его последние часы перед самоубийством, в грязной каморке какой-то гостиницы. Ему видятся три сна, один кошмарнее другого. Но вот еще что замечательно: «вход» в эти сны и «выход» из них почти стерты, и трудно, подчас невозможно (третий сон), определить, когда Свидригайлов забывается, а когда – приходит в себя. Так и должно быть, потому что грань бытия и небытия для него давно уже стерта. Эта грань – как колеблющееся пламя свечи, которую Свидригайлов то зажигает, то гасит, и непонятно, когда он в самом деле ее зажигает и гасит, а когда это ему лишь мерещится…
Сны-кошмары у Достоевского – не зеркальное повторение происходящего наяву, не простой дубликат действительности. Это всегда чудовищная аберрация, но всегда – отражение действительности в кривом и увеличивающем зеркале.
Многие сны в классической литературе, не будь им предпослано специальное авторское объяснение, что это именно сны, – в сущности, ничем не отличаются от яви, они именно зеркально дублируют явь. Такие сны вполне могли бы быть заменены простым воспоминанием или ретроспективной картиной действительности. Такие сны – условно-рассудочный прием и с художественной, и с психологической точки зрения. Сны же у Достоевского не заменимы ничем (кошмар Ивана Карамазова с чертом – тот же сон). Это страшный трагический гротеск, позволяющий глубже понять реальность.
«Али есть закон природы, которого не знаем мы и который кричит в нас…»
Объективность законов нравственности – есть она или нет? есть эти законы или их нет? – вот над какой проблемой заставляет задуматься Достоевский. И здесь, быть может, как ни в чем другом, искусство его сближается с наукой. Ведь что такое объективность законов? Это не только независимость их от человека, это еще и зависимость человека от них. Объективность законов в том и состоит, что если не считаться с ними, то они, так или иначе, прямо или косвенно, рано или поздно, покарают нарушителя, отомстят за себя, заставят признать себя, хотя бы через катастрофу.
Известно, что Достоевский неистово протестовал против подчинения живого человека мертвым законам, против превращения человека в «штифтик», в «фортепианную клавишу». Порой даже кажется, что само слово «закон» – едва ли не самое ненавистное для него слово. Но прочитайте всего Достоевского – и вы убедитесь в том, что слово «закон» (или «формула») является для него едва ли и не самым излюбленным словом. Сравните его в этом отношении с другими художниками – и убедитесь, что, наверное, ни у кого из них так часто оно не встречается, чаще, пожалуй, чем это принято обычно даже в научных трудах. Достоевский страстно пытался проникнуть в законы «живой жизни», понять эту жизнь из нее самой. И если сделать подборку его высказываний на этот счет, то нельзя не заметить: он все время говорит о разных законах, «положительных» и «отрицательных», о законах «сохранения» и «разрушения», то считая их равноправными, то протестуя против законов «разрушения» и объявляя единственно «нормальными» лишь законы «сохранения». И вот, можно сказать, итоговая его формула: «Сострадание есть главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего человечества», – читаем в «Идиоте».
Достоевский превосходно знал, что ни от каких проповедей глупцы не становятся умнее, а подлецы – честнее; знал и повторял это с отчаянием, даже с ожесточением. И он прибегнул тоже к отчаянному, последнему, решающему доводу: иначе погибнете! К этому доводу он прибегнул – вопреки своим собственным уверениям, будто «добродетель» мало чего стоит, если она основана на выборе – «будьте братьями или смерть»… Но ведь этот довод и выражает жизненную, спасительную потребность объективного познания социально-нравственных отношений людей, потребность овладения законами природы самих этих отношений.
Однажды на уроке я задал письменную «задачку»: «В чем смысл первого сна Раскольникова?» (ребенок, лошадь, мужики…). Собрав сочинения и еще не просмотрев их, я рассказал ребятам об «ответе», что дал сам Достоевский в черновиках к роману: «Али есть закон природы, которого не знаем мы и который кричит в нас. Сон».
Я поразился выражению лица одного ученика – какое-то счастливое и вместе с тем испуганное. Разгадку я узнал дома. Именно он, не знавши раньше и о существовании черновиков, – именно он оказался автором самого короткого сочинения, всего в одну строку:
«Этот сон – крик человеческой природы против убийства».
Вот вдохновенный тайный замысел гения, и вот непосредственное – вдохновенное же – проникновение в этот замысел пятнадцатилетнего подростка.
Достоевский, думаю, был бы счастлив, узнай он об этом юном отгадчике.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































