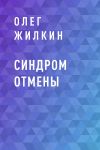Текст книги "Замыслил я побег"

Автор книги: Юрий Поляков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 25 (всего у книги 33 страниц)
26
Эскейпер передернул плечами и пощупал пульс. Этот страшный сон потом долго мучил его и стал одним из самых тяжелых воспоминаний, изгнанных в забвенные потемки памяти. Почему в снах отец и Витенька сливались в одного страшного человека? Почему? Башмаков не знал…
В ту ночь он вскочил со страшным криком, переполошив Катю и Дашку.
– Что с тобой? – вскинулась жена.
– Я… Ничего… Мне приснилось, что отец умер…
– А-а, – зевнула Катя. – Я думала, тебе приснилось, как он женится. Успокойся, Тапочкин, когда снится, что кто-то умер, это, кажется, как раз наоборот – к здоровью. Надо будет у мамы спросить…
– Спроси.
Дашка принесла отцу таблетку радедорма и дала запить водой, приправленной валерьяновыми каплями. Но он еще долго лежал, не смыкая глаз, прислушиваясь к своему ненадежному, ускользающему из груди сердцу. Потом встал, пошел на кухню попить чаю и заинтересовался книжкой, оставленной Катей на столе. Это был какой-то очень знаменитый писатель по фамилии Сойкин, лауреат Букеровской премии. С фотографии смотрел высокомерный бородатый юноша лет сорока пяти. Олег осилил только один рассказ, очень странный.
Школьник влюблен в свою учительницу и подглядывает за ней в туалете. Она обнаруживает злоумышленника, хватает и тащит в кабинет директора. Тот читает мальчику длинную благородную нотацию, объясняя, какой глубочайший смысл вкладывали греки в слово «эрос» и что женское тело объект поклонения, а отнюдь не подглядывания. Затем он заставляет провинившегося ребенка раздеться и вместе с учительницей разнузданно его растлевает, кукарекая и крича:
– Я – Песталоцци!
Заснул Башмаков только на рассвете, когда за окном распустилась белесая плесень дождливого утра.
– Тебе нравится Сойкин? – спросил он вечером Катю.
– При чем тут – нравится? Его теперь в программу включили…
Через день Олег Трудович отправился в поликлинику за бюллетенем, хотя Анатолич и передал слова Шедемана Хосруевича, что никакие «бюллетени-мюллетени» его не интересуют и на поправку он дает Башмакову неделю.
– Да пошел он! – разозлился Башмаков.
В поликлинике Олег Трудович долго дожидался своей очереди среди стариков и старушек, притащившихся, насколько он понял, не за медицинским приглядом и советом, а за рецептами на бесплатные лекарства. Пенсионеры показались ему заводными мышками, уткнувшимися в плинтус и вздрагивающими от последних судорог кончающегося завода. Но сами старички словно этого и не чувствовали, громко болтали обо всем – о ценах в магазинах, о коммерческих успехах детей и внуков, о политике. А один щуплый ветеран с многослойными орденскими планками на пиджаке вожделенно провожал красными слезящимися глазками каждую спешащую по коридору белохалатницу. Потом он доверительно наклонился к Башмакову и прошамкал:
– Была у меня на фронте одна медсестричка. Огонь!
Олег Трудович кивнул, и воодушевленный старичок стал рассказывать ему о своей самой незабываемой фронтовой любви, случившейся как раз весной 44-го. Но начал он почему-то с того, как Молотов объявил по радио о нападении Гитлера на СССР. Далее последовал подробный рассказ о том, что Сталин посадил жену Молотова за вредительство в парфюмерной промышленности и попытку продать Крым Израилю.
– А я так считаю, что уж лучше Израилю, чем хохлам! – сообщил старичок.
Затем, обнаружив отклонение от первоначальной темы, он вернулся к началу войны и долго вспоминал, как в первую же казарменную ночь новую шинель ему подменили на старенькую, уцелевшую, видно, еще с финской кампании…
В этот момент старичка вызвали к врачу.
Чтобы скрасить ожидание, Олег Трудович принялся размышлять о том, что врач не только чувствует, как слабеет внутри него пружина, но даже знает, как именно это происходит, и, более того, мысленным взором видит свое умирание, свой иссякающий организм, точно часовую механику сквозь стеклянные стенки будильника (Олег Трудович чуть было не купил себе такой будильник в Польше). И как же они живут с этим-то знанием? Как?
– Башмаков! – выкрикнула медсестра. – Заходите к доктору!
Домой он возвращался самым долгим путем, вдоль оврагов, мимо церкви. Когда они с Катей получили квартиру, никаких культовых сооружений в округе не наблюдалось. Только возле автобусного круга, за кладбищем, подзадержалось старинное, из красного в чернядь кирпича здание с полукруглой стеной. В здании располагались столярные мастерские. Когда началась перестройка, возле мастерских несколько раз собирались на митинги старушки в платочках. Рыжеволосый парень, из тех, что в революцию разбивали рублевские иконы о головы новомучеников, кричал, надрываясь, в мегафон:
– До семнадцатого года здесь была сельская церковь Зачатия Праведной Анны в Завьялове. А в селе Завьялове жили триста человек. Теперь в нашем микрорайоне двадцать тысяч – и ни одного храма! Позор подлому богоборческому режиму! Долой шестую статью конституции!
– Позор! – кричали старушки. – Долой!
Как раз в ту пору, когда окончательно развалился «Альдебаран» и Башмаков остался без работы, храм вдруг стали стремительно восстанавливать. Надстроили порушенную колокольню, воротили золотой купол с кружевным крестом, выбелили кирпичные узоры. И однажды поутру Олег Трудович пробудился от тугого колокольного звона, волнами прокатывавшегося сквозь бетонные коробки спального района.
– Открыли церковь-то, – зевнула Катя. – Окреститься, что ли?
– Тогда грешить нельзя будет, – предупредил Башмаков, притягивая к себе жену.
– То-то я смотрю, такой ты безгрешный!
Но крестилась Катя позже, после Вадима Семеновича. Зато, когда в лицее на деньги Мишки Коровина устроили компьютерный класс, Вожжа вызвала из храма батюшку и тот благословительно брызнул кропилом на новенькие «Макинтоши»…
«А если поверить в Бога и начать бегать по утрам? – подумал Башмаков и стал подниматься по ступенькам церкви Зачатия Праведной Анны. – Заодно, кстати, спрошу у батюшки, почему Игнатий значит „не родившийся“? Какая тут толковательная хитрость?..»
Он уже было собрался зайти – конечно, не помолиться (Башмаков этого не умел), а просто так: постоять и попросить у Бога здоровья. Но тут из резко затормозившей «хонды» выгрузился мордатый, крепкозатылистый парень в куртке «пилот» и трижды с поклонами перекрестился на храм. Крестился он широко, величественно, художественно, и каждое новое крестное знамение было шире, величественнее и художественнее предыдущего, словно он участвовал в заочном конкурсе на самое величавое крестное знамение…
Ночью Башмаков снова не мог уснуть. Он посидел перед аквариумом, послонялся по квартире и тихо, чтобы не разбудить Катю, разыскал на полке дареную Библию. Пошел на кухню, заварил чай и стал читать Евангелие от Матфея. Дойдя до слов: «…Если свет, который в тебе, – это тьма, то какова же в тебе сама тьма!» – Олег Трудович закрыл книгу и стал думать. О тьме.
Потом, улегшись рядом с женой, он вдруг почувствовал в себе эту тьму – бескрайнюю, теплую, тихо покачивающуюся, словно ночное море. Рядом сонно существовала иная, Катина тьма, никак и никогда по-настоящему не сливавшаяся с его, башмаковской, тьмой. В соседней комнате спала Дашка – еще одна, ими рожденная, тьма… А на другом конце Москвы ссорились по пустякам мать и отец – две замучившие друг друга тьмы. И наконец, в заснеженном дачном поселке тосковала по родной, безвременно ушедшей, зарытой в землю тьме вдовая Зинаида Ивановна…
«Если тьма, которая в тебе, – это свет, то каков же в тебе сам свет?» – размышлял, засыпая, Олег Трудович.
Со следующего дня он начал бегать.
Нашел старый спортивный костюм, кроссовки, шерстяные носки, лыжную шапочку, поставил будильник на шесть и с трудом проснулся. Наверное, со времен армейской службы Башмаков не вставал так рано. На улице было еще темно. Воздух пах снегом, а не бензином. Пробегая мимо храма, Башмаков на минуту задержался и, пользуясь отсутствием свидетелей, несколько раз по возможности величественно перекрестился. Получилось неплохо. По пути Олег Трудович встретил еще нескольких бегунов, они все друг друга, видимо, знали, поэтому взглядывали на новичка с одобрительным интересом. А один старичок даже бросил вдогонку:
– В первую неделю не перенапрягайтесь, молодой человек!
Башмаков бежал и удивлялся: когда собственная смерть представлялась ему гибелью Вселенной, он спокойненько травил и разрушал себя милыми земными излишествами, не помышляя даже об оздоровительном беге, а теперь, чтобы продлить в себе этот жалкий мышиный завод, готов бегать трусцой, сидеть на диете и беречься изо всех сил… Странно.
Вернувшись домой, пока все еще спали, Башмаков принял контрастный душ, почувствовал себя прекрасно и даже забрался в постель к теплой Кате.
– Тапочкин, тебе пока нельзя, – предупредила она, сонно отбиваясь.
– Льзя!
На следующее утро страшно болели мышцы и ломило все тело, но Башмаков, сам поражаясь своему силоволию, влез в спортивный костюм и, кряхтя, зашнуровал кеды. Это был, конечно, не бег, а некое оздоровительное ковыляние. Через два дня стало немного легче. Встречные бегуны, убедившись, что он не смалодушничал после первых трудностей, признали его за своего и приветливо кивали. Но именно эти пробежки стоили Башмакову работы. Может, сам Шедеман Хосруевич, возвращаясь поутру из ночного клуба, увидел своего больного сторожа бегущим по улице, а может, кто-то наябедничал, но Анатолич передал возмущенные слова хозяина в точности:
– Я думал, он умирает, а он бегает как ишак…
– Не расстраивайся, – приказала Катя. – И даже хорошо! Тоже мне работка – машины чучмекам сторожить! Я пока лучше еще одного ученика возьму…
Башмаков и без Катиных утешительств совершенно спокойно воспринял известие об увольнении. Ему было не до этого – Олег Трудович увлекся собой. Он купил в киоске брошюрку с поэтичным названием «Здоровье – это спорт и диета!», внимательно прочитал, даже законспектировал – и заголодал по всем правилам, с физическими нагрузками и очистительными клизмами. Потом сел на раздельное питание. Благодаря помещенной в конце книжки таблице он мог теперь на глазок определить калорийность любого блюда или продукта.
– Шестьсот килокалорий, – задумчиво говорил он Дашке, уплетавшей трехслойный гамбургер.
– Ужас! – соглашалась дочь.
– Тысяча! – сообщал он Кате, запивавшей пивом свиную отбивную с жареной картошечкой.
– Отстань, Тунеядыч! Дай спокойно поесть!
Башмаков каждое утро после пробежки и контрастного душа протирал запотевшее зеркало и смотрел на свое убывающее день ото дня, стройнеющее и молодеющее тело. Он втягивал живот, напрягал мышцы, радуясь тому, что их прежде невидимая, поджировая жизнь теперь выходит наружу. А когда забрезжили много лет назад утраченные квадратики брюшного пресса, он вызвал в ванную Катю и гордо спросил:
– Ты ничего не замечаешь?
– А что я должна заметить? – уточнила жена, на всякий случай проверив взглядом мужнину комплектность.
– Квадратики?
– Ax, квадратики! Замечательные квадратики… Какие квадратики?
Лицо у Башмакова тоже похудело, стало моложе, мужественнее и трепетнее, что в сочетании с благородной сединой производило известное впечатление. Но главное – изменились глаза. Может, от пережитого сердечного страха, а может, от постоянного самоотверженного недоедания в них засветилась некая мучительная глубина и забрезжила тревожная мудрость.
Даже дочь как-то сказала:
– А ты, папец, явно залучшал!
– Папа решил начать личную жизнь сначала, – ехидно добавила Катя.
Он и в самом деле залучшал – в теле теперь ощущалась давно забытая веселая избыточность, и даже иногда мелькала сумасшедшая мысль: а разве нельзя сделать так, чтобы год от года этот мышиный завод внутри тебя не иссякал, а, наоборот, мощнел, чтобы пружина не ослабевала, а, наоборот, тужала и тужала. И по утрам, пробегая мимо церкви, Олег Трудович уже не репетировал крестное знамение, не обещал сам себе в ближайшее время сходить в храм и, как говорится, воцерковиться, но со снисходительной иронией смотрел на спешащих к заутрене… Не-ет, Бог не в елейном чаду и не в золоченых подкупольных потемках. Бог – в знобком московском утре и в остром запахе свежего пота, смываемого звонкой, хлорчатой водой.
«Если свет, который внутри тебя, это – тьма, то на хрена тебе свет?!»
Но в храм он все-таки пошел… Позвонила рыдающая Людмила Константиновна и сказала, что Труда Валентиновича с тяжелым инсультом увезли прямо из «Стрелки»…
3-ю Образцовую типографию приватизировали еще в 92-м. Явился какой-то уркаган с мешком ваучеров и купил типографию на корню, вместе с мраморной доской, извещавшей о том, что в 18-м году в этом здании перед революционными печатниками выступал сам Ленин. Труд Валентинович был уже на пенсии, однако с разрешения знакомого начальства продолжал подрабатывать в родном коллективе. Новый хозяин закупил немецкое оборудование, разогнал стариков, набрал молодежь и стал выпускать цветные рекламные проспекты и каталоги.
– Такова жизнь, – философски заметил Башмаков-старший. – Сегодня ты есть, а завтра на твоем месте бабашка…
Пенсии не хватало даже на еду, и отец устроился сторожем в гриль-бар, открывшийся по соседству в помещении книжного магазина. Работа нетрудная: прийти за час до закрытия питейного заведения, выпроводить засидевшихся гостей, принять у бармена ключи и заступить на пост. Но и деньги – смешные. Однажды Труд Валентинович прислушался к спору двух подвыпивших посетителей. Собственно, спор заключался в том, что один считал чемпионат в Италии неудачным, а второй – позорным…
– Параша, а не футбол. А помнишь, какой в 86-м чемпионат был?
– О!
– А помнишь, как Вальдано головой немцев размочил?
– О!
– Вальдано забил второй гол на пятьдесят шестой минуте. А головой забил Браун с углового на двадцать второй минуте. И вообще, мы уже закрываемся! – ворчливо поправил Труд Валентинович.
– Не мешай, командир… – возмутился один.
– Не, погоди! Правильно он говорит – Браун. Вас как звать-то?
– Труд Валентинович.
– Слушай, Валентиныч, а помнишь, как Буручага немцам вхреначил?
– Еще бы! С подачи Марадоны. На восемьдесят пятой минуте… Какой гол! И вот ведь как в жизни бывает. Немцы-то Аргентине тоже на восемьдесят пятой пенальти вкатили. А разница – как между первой брачной ночью и храпаком после золотой свадьбы!
– Хорошо сказал, Валентиныч. За тебя!
Весть о вундерпенсионере, знающем наизусть всю историю мирового футбола, быстро распространилась среди завсегдатаев бара. Труд Валентинович стал приходить на работу не за час до закрытия, а час спустя после открытия и потихоньку кочевал от столика к столику.
– Валентиныч, на ап: пятьдесят четвертый – полуфиналы?
Труд Валентинович закрывал на мгновение глаза (позже он еще стал мучительно морщить лоб, чтобы подчеркнуть нелегкость своего знания), – а потом без запинки отвечал:
– ФРГ – Австрия, шесть—один, Венгрия – Уругвай, четыре—два…
– Молоток! Выпьешь?
– Две капли. Хватит, хватит! Ну, свисток – вбрасывание!
Хозяин бара очень скоро сообразил, что не использовать в коммерческих целях чудо природы, явившееся ему в виде отставного метранпажа, просто неприлично. Труду Валентиновичу отвели специальный столик. Каждый посетитель мог задать любой вопрос из истории футбола и мгновенно получить ответ. Иногда подвыпившие болельщики организовывали стихийный тотализатор: ошибется или нет футбольный всезнайка? Нет, не ошибался! Никогда. За работу ему полагался ежевечерний ужин с выпивкой, а также, учитывая все возрастающую популярность бара среди окрестных болельщиков, небольшая премия.
У Труда Валентиновича была драгоценная реликвия – старый снимок Стрельцова с настоящим автографом великого Эдика. На фотографии «Есенин» русского футбола, юный, еще не сидевший в тюрьме, держал в руке мяч и улыбался. Труд Валентинович увеличил снимок, обрамил и повесил над своим служебным столиком. С тех пор безымянный прежде гриль-бар стал называться «У Стрельцова», а в алкогольном просторечье – «Стрелкой».
Башмаков иногда заезжал к отцу. Труд Валентинович вел себя солидно, почти по-хозяйски: взмахивал рукой, чтобы подали закуску и выпивку. Он начал полнеть, хотя раньше этого за ним не замечалось, наоборот, отец всегда упрекал Олега за ранний животик. Теперь лицо его набрякло, а щеки и нос стали крапчато-красными. Верный признак того, что от «конвенционной» кружки пива он шагнул далеко вперед. Из-за этого у них с Людмилой Константиновной произошел конфликт, можно сказать, разрыв. Они разъехались в разные комнаты, жили теперь каждый за свой счет и даже холодильник поделили пополам – две полки одному, две полки другому, а морозилку разгородили специальной вертикальной фанеркой.
Однажды, после катастрофы с приборами ночного видения, Олег Трудович поехал в «Стрелку» развеяться. Выпив, он зло прошелся по демократам, которых уже тогда стали называть «демокрадами».
– А вот и неправильно! – возразил отец. – Страну развалили? А может, так и надо… Страна должна быть людям впору! Ты же не покупаешь ботинки семидесятого размера? А страна у нас была семидесятого. Вот и сократили на несколько размеров. Я при коммунистах шестьдесят четыре года прожил. Я-то знаю, как ночью вскакиваешь от того, что тебе сон приснился, будто ты портрет Брежнева вверх ногами заверстал! Я-то знаю, как это бывает, когда пятнадцать лет ждешь квартиру, а потом вдруг тебя нет в списке…
– Но ведь дали же!
– Дали… Мать твоя теперь каждое утро трындит: «Если бы не я, если бы не я…» Говорит, чтобы я ей отстегивал за квартиру, потому что ей площадь дали, а не мне! А почему мне кто-то что-то давать должен? Почему? Человек должен заработать и купить!
– А если человек не может заработать?
– Значит, он или дурак, или лентяй! Дурака надо лечить, а лентяя мне не жалко. Голодному человеку надо не рыбу жареную давать, а удочку, чтобы он рыбки наловил!
– Это, кажется, по телевизору вчера Гайдар говорил?
– Ну, говорил…
Тем временем кто-то из посетителей почтительно приблизился к столику:
– Валентиныч, в семьдесят четвертом финал кто судил?
– Тейлор, – мгновенно ответил отец с некоторым даже недоумением по поводу такой легкой незначительности вопроса.
– Ага, спасибо. Сынок навестил?
– Сынок. Наследничек. Вот учу уму-разуму!
Характер у отца начал портиться, и Башмаков все реже заглядывал в «Стрелку». Зато Людмила Константиновна стала регулярно наведываться к сыну – всласть пожаловаться на съехавшего с глузду Труда Валентиновича. Однажды мать приехала заплаканная и рассказала, что денег отец совсем не дает, приходит поздно из бара пьяный и смотрит до трех ночи по видику чемпионаты прошлых лет. Громко кричит и выпивает по поводу каждого давным-давно забитого и выученного наизусть гола. А вчера даже упал в ванной и разбил стеклянную полочку, на которой стояли шампуни. А главное – женщина у него появилась.
– Да ну что вы такое говорите? Какая женщина?! – возразила Катя и глянула на мужа со значением.
Она и не сомневалась, что все Башмаковы отличаются генетической предрасположенностью к блудовитости.
Последний роман Труда Валентиновича начался необычно. Как-то раз загулявший в баре мужик, занимающийся туристическим бизнесом, восхитился футбольными познаниями бывшего верстальщика и подарил ему путевку на финал чемпионата мира в Лос-Анджелесе с заездом в Нью-Йорк. Отец, до этого ни разу не покидавший пределы Отечества, вернулся потрясенный.
– Олег, ты никогда не догадаешься, куда я залазил!
– Куда?
– В голову статуи Свободы. Пустая, что у твоей матери!
В этой поездке, как признался впоследствии сыну Труд Валентинович, он и познакомился с вдовой-генеральшей. Та сдала иностранцам четырехкомнатную квартиру на Кутузовском и зимнюю дачу во Внукове, получала в месяц столько, сколько и не снилось ее усопшему лампасному супругу, и разъезжала теперь по всему миру. В поездке между генеральшей и Башмаковым-старшим завязался скоротечный туристический роман, и, расслабившись на предотлетном банкете, генеральша с причитаниями и жалобами на ушедшее здоровье изменила усопшему мужу.
– Ты понимаешь, Олег, сначала все на судороги жаловалась, а под конец разошлась как молодая! Я чуть зубы не потерял!
По прилете в Москву они обменялись телефонами и даже несколько раз перезванивались. Один такой разговор и подслушала Людмила Константиновна.
– Ах, бросьте вы! – высокомерно утешила Катя. – Ну куда он уйдет? Кому он нужен?
– Не скажи, Катенька…
– А если и уйдет – скатертью дорога! Вы же сами говорите, житья с ним нет.
– Сама уж не знаю. То убила бы – прямо сечкой для капусты и зарубила бы! А другой раз с утра не переругнемся, уйдет к себе в «Стрелку» – и тоже вроде как сама не своя хожу…
– Вас не поймешь!
На следующий день жена отправила Башмакова вести среди Труда Валентиновича воспитательную работу. Отец еще больше разъехался нездоровой полнотой, а к красной крапчатости на лице добавились фиолетовые прожилки и бурые пятна. Он отрастил пушистые сенаторские бачки и ходил в темно-синем двубортном пиджаке с металлическими пуговицами. Поговорили о том о сем, и Олег мягко упрекнул разнуздавшегося папашу.
– Пожаловалась! – пофиолетовел отец. – Она когда еще к вам собиралась, я сразу понял – доносить побежала! А кому мне жаловаться, как она меня с тещей всю жизнь угнетала? Понятно, белая кость. А я так – тубзик егорьевский…
Кто-то из завсегдатаев бара подошел к ним и перебил разговор обычным футбольным вопросом.
– Позже! Не видишь, что ли, у меня посетитель! – отмахнулся Труд Валентинович. – Уйду я от нее к чертям собачьим!
– К чертям или к генеральше?
– Зачем мне эта старуха? Молодую найду. Чтоб грудь торчком, секель сверчком!
– Здоровья-то хватит?
– Хе!
– А денег?
– Отложены. Я ж ей не сказал, что мы с тобой материну избуху продали. Она, курица, ничего не знает.
– Слушай! Ну что вы на старости лет дурь развели? Давай мы к вам приедем и вас помирим!
– Мириться? Никогда. Я у нее грибного супчика из кастрюльки полполовничка отлил. А она! Ты знаешь, что она мне заявила?
– Что?
– Что! Сказал бы, если бы она не мать тебе была…
– Значит, не хочешь мириться?
– Нет!
Лежал Труд Валентинович в затрапезной больнице в переполненной палате на облезлой койке, заправленной бельем, серым, как снег на обочине. Врачи и медсестры были раздражительны, хамливы или же просто презрительно равнодушны. Лекарства приходилось покупать самим. Людмила Константиновна перерыла всю квартиру (отец и ей за день до удара все-таки похвастался заначкой), но ничего так и не нашла.
У Труда Валентиновича отнялась вся левая сторона, и говорить он фактически не мог, а только слюняво бубнил. Когда он увидел сына, то, мучительно кривя рот, что-то загукал. Олег склонился над ним и только с третьего раза разобрал:
– Спроси меня!
Башмаков поначалу не понял, а потом догадался и громко, внятно, словно у отца пропала не только речь, но и слух, произнес самое простое, что могло прийти в голову:
– Лос-Анджелес, девяносто четвертый. Финал.
Отец закрыл глаза, наморщил правую половину лба и так лежал молча несколько минут, а потом заплакал, даже как-то жалко захныкал, тряся головой.
– Ну ладно, ладно, вспомнишь! – Людмила Константиновна погладила его по волосам, вдруг страшно поредевшим буквально за несколько дней.
Отца выписали домой, предупредив родных, что лучше уже не будет, а только хуже. Он лежал на своем диване, тупо уставившись в телевизор. Людмила Константиновна ухаживала за ним самоотверженно и лишь иногда, кормя с ложечки и тетешкаясь, как с ребеночком, вдруг черствела лицом и спрашивала скрипучим голосом:
– Ну что же ты к своей генеральше не уходишь? Иди! Только сначала куда деньги спрятал, вспомни! Эх ты, бабашка!
Но гнев быстро иссякал, голос теплел, и мать как ни в чем не бывало гладила отца по голове, приговаривая:
– Ну, еще ложечку! За Олега… Видишь, Олежек к нам пришел – тебя проведать…
Труд Валентинович поднимал на сына серьезно-бессмысленный взгляд, потом в глазах появлялась боль, он морщил правую половину лба и выборматывал только одному Олегу понятную мольбу:
– Спроси меня!
И, не дождавшись вопроса, начинал рыдать, сотрясаясь всем своим исхудавшим телом.
Место выделили на Домодедовском кладбище, почти возле аэропорта. А поскольку ехать туда нужно было через Завьялово, то и отпевать отца решили в храме Зачатия Праведной Анны. Отпевали сразу двух покойников – Труда Валентиновича и какую-то старушку. Батюшка все время повторял «раба божия Антонина и раб божий Михаил». И это случайное соседство двух чуждых усопших в преддверии вечности странно укололо башмаковское сердце. Кстати, только в церкви Олег узнал, что отец крещеный (спасибо покойнице бабушке Дуне!), поэтому и Господу на Страшном суде он отрекомендуется не своим советским чудизмом «Труд», а как положено – Михаил.
Проводить Труда Валентиновича в последний путь пришло человек десять завсегдатаев «Стрелки». От 3-й Образцовой, где отец протрубил столько лет, вообще никого не было. Зато тот самый богатый фанат, отправлявший его в Америку, прислал большой букет алых роз на длинных шипастых стеблях, похожих на ровно нарезанные куски колючей проволоки. Олег Трудович подумал вдруг, что границу державы при нынешнем безденежье совсем не обязательно обтягивать дорогой колючей проволокой, а вполне достаточно засаживать такими вот розами.
Батюшка торопливо вышел из алтаря и начал отпевание. Башмаков, не вникая в полупонятный старославянский речитатив, мял размягчившуюся в пальцах свечку и размышлял о том, что тело, как ты его ни лелей, ни тренируй бегом, ни взбадривай контрастным душем, – рано или поздно оказывается в таком вот обтянутом оборчатым крепом ящике. А душа… Есть ли она, душа? Вдруг и апостол Петр возле райских врат, похожих, наверное, на ворота спецсанатория, не просто так, для собственного удовольствия ключами позвякивает, а напоминает взыскующим вечной жизни:
«Кончился ваш завод, мыши вы пружинные! А ключики-то вот они!..»
А если душа – это вообще какая-то разрушительная болезнь, запущенная в разум, вроде компьютерного вируса? И Страшный суд – всего лишь программа по выискиванию и ликвидации таких вот душ-вирусов?..
Священник вдруг оборвал речитатив, строго посмотрел на провожающих и сварливо сказал:
– Если кто-то забыл, напоминаю. Крестятся православные люди следующим образом: складываем пальцы щепотью, а затем – ко лбу, к животу, к правому плечу и к левому плечу. Усвоили?
Все виновато переглянулись и старательно закрестились. Башмаков, собиравшийся по окончании отпевания подойти к батюшке и коротенько расспросить про свое крестильное имя, так и не отважился обеспокоить сурового пастыря.
Похоронили отца в мелкой могилке, вырытой экскаватором в мерзлой земле. Кладбище было огромное, и сразу возле десятка могил толпились родственники, прощающиеся с покойными. Издали они почему-то напомнили Башмакову кучки спорящих болельщиков, оставшихся на площади перед стадионом, когда основной народ уже схлынул.
Гроб с Трудом Валентиновичем они долго возили туда-сюда, ища свой участок и путаясь в заснеженных кладбищенских улицах и переулках. Потом прощались у могилы. Отец лежал в гробу потемневший и нахмурившийся, словно мучительно вспоминал, кто же не смог забить решающий пенальти в Лос-Анджелесе. Башмаков наклонился и все-таки коснулся губами бумажного венчика на отцовском лбу. И не почувствовал ничего, кроме холодной шероховатости бумаги. Людмила Константиновна, когда яму уже забросали, очень расстроилась, увидав, как могильщики перерубили лопатой длинные шипастые стебли великолепных алых роз.
– Все равно тащат, – шепнул кто-то, – обрубки в венки вплетают…
Поминали отца в «Стрелке», и выпившие завсегдатаи почему-то очень серчали, что Башмаков, в отличие от своего усопшего родителя, в футболе совершенно «не Копенгаген».
Через несколько дней после похорон Дашка принесла Башмакову новую, упакованную в коробку рубашку.
– Завтра ты идешь к Корсакову.
– А кто это?
– Директор валютно-кассового департамента. Я договорилась.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.