Текст книги "Княгиня Менжинская"
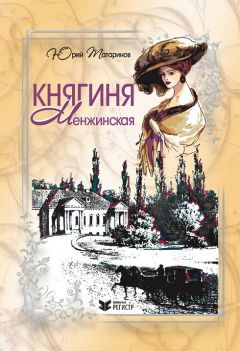
Автор книги: Юрий Татаринов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Кроме Терешки, в герутевском доме был еще один человек, который отрицательно относился к предложению Менжинского, – пан Теодор, отец панны Марии. Он говорил так:
– Рано ей замуж. Пусть сначала ума наберется. А князь… Пусть он завоюет ее сердце. Мужчина должен помучиться, прежде чем завладеть сокровищем. Иначе он быстро разочаруется. Он должен сделать для нее что-то невозможное, снять звезду с неба.
Теперь, двадцать лет спустя после своей женитьбы, уже вырастив дочь, он готов был признать, что его тесть, пан Юзеф, был прав, когда всячески мешал его встречам с панной Юлией. Те препятствия лишь закаляли страсть пана Коллупайло. И тогда, и теперь пан Теодор готов был пойти ради жены на любые жертвы, даже умереть, только чтобы она не знала ни горя, ни слез.
И сейчас, думая о дочери, он беспокоился прежде всего о жене. Позволив сделать больно панне Марии, он мог убить пани Юлию.
Когда Менжинский посетил Герутево первый раз, пан Теодор принял его предложение с воодушевлением. Все-таки сватался знатный жених.
Однако потом, когда он навел кое-какие справки, – в частности, узнал о донжуанстве князя, о его природном лицемерии и откровенном бездушии, – воодушевление его угасло. Менжинский продолжал приезжать. Пан Теодор был с ним учтив. Но конкретных разговоров в отношении возможной свадьбы уже не поддерживал. Более того, как только гость затевал об этом беседу, хозяин тотчас менял тему. Он будто дразнил князя.
Такая тактика задевала самолюбивого жениха. Лишь опыт и упрямство удерживали его от того, чтобы отказаться от затеянного.
– Рыбак, вознамерившийся выудить рыбу, должен быть терпелив на всю ее величину, – говорил он себе. И упорно ждал.
Пан Теодор только этого и добивался. Ему хотелось заручиться уверенностью в том, что Менжинский не так уж бессердечен, как о нем судачили. Ему хотелось разобраться, что же это за человек. Сам по натуре добрый, сердечный, готовый помочь нуждающемуся, пан Теодор не верил в то, что где-то может существовать его прямая противоположность – мужчина, лишенный настоящей души и совести.
Сплетни, скабрезные истории, касавшиеся любовных похождений Менжинского, он забывал уже в следующую минуту. Его интересовало совершенно другое – душевные качества будущего зятя. Вот как раз здесь он предчувствовал беду. Ему было известно, что князь редко кому давал в долг, а тем, кто был ему должен, угрожал судом. Отказывал Менжинский и мужикам в их просьбах. Даже погорельцам! За что деревенские, словно сговорившись, называли его Иродом. Но что особенно не располагало людей к нему, так это его равнодушие к религии. Князь был католиком – но едва ли кто-то помнил, чтобы он когда-нибудь бывал в костеле.
– Нехристь он! – говорили пану Теодору мужики из тех, кому доводилось сталкиваться с князем Леоном. – Никогда не перекрестится, не упомянет имя Божье. Говорили, у его матери на левой ноге было копыто! Она тоже не уважала Бога!
Единственное, что подкупало герутевского хозяина в князе, так это умение последнего работать, его разворотливость. Менжинский не просто был неспокоен в том, что касалось дел, он был еще и ненасытным работягой. Три громадные мельницы князя работали круглые сутки. На его полях выращивались достойные рачительного хозяина урожаи. А пастбища были полны доброго скота. В том, что касалось ведения хозяйства, пан Теодор мог лишь завидовать этому человеку.
– Славный хозяин, – говорили мужики-арендаторы о князе Леоне. – Дело свое знает. А потому и деньгу зашибать умеет. Такой не пропадет, – и тут же повторяли: – Вот только скуповат. Не лопнул бы от жадности!
Пан Теодор готов был признать, что Менжинский хороший хозяин. И все-таки истинного мнения об этом человеке составить не мог. Между тем время шло. Князь Леон продолжал появляться в Герутево, ждал ответа. Пан Теодор наконец почувствовал себя неловко. И главным образом ему было неудобно перед дочерью. Он помнил и ценил ее слова, которые она повторяла не раз: «Папа, я выйду за человека, который будет хоть в чем-то похож на тебя».
В этот день вернувшись поздно, он узнал от жены, что был Менжинский и что разговор опять шел о дате свадьбы. Особенно опечалился пан Теодор, когда узнал, с каким восторгом встретила гостя панна Мария.
– Кажется, Марися влюблена, – печально, словно сообщая о смерти близкого, сказала ему пани Юлия. – Думаю, князь успел вскружить ей голову.
Только тут пан Теодор понял, что пора более решительно вмешиваться в происходящее, шутить и медлить долее нельзя. Если дочь действительно увлеклась этим человеком, то он как отец должен был уберечь ее от возможных неприятностей. Надо было ехать к князю и серьезно говорить с ним. И наконец делать какие-то выводы… И пан Теодор решил действовать.
Август забирал много времени на дела. Но надо было чем-то жертвовать, коль события развивались так стремительно. В этот вечер, прежде чем лечь, пан Теодор вызвал слугу и приказал ему завтра пораньше отправиться в Свентицу – предупредить его сиятельство о том, что он приедет к нему вечером на переговоры…
На следующий день, справив дела, хозяин Герутево, как и подобает человеку слова, отправился в Свентицу.
Надо заметить, что за минувшие двадцать лет пан Коллупайло внешне мало изменился. Разве что стал как будто шире в плечах и круче в груди, раздобрел. Но за ним осталось то, что всегда так нравилось пани Юлии: его галантность, нежность в общении и абсолютная выдержка. Он редко выказывал гнев, разве что в особых случаях, больше вынашивал переживания в себе, отчего, по-видимому, и заимел болезнь сердца…
В суконной куртке с карманами на груди, в галифе и блестящих сапогах, в высокой стоячей фуражке, он напоминал жокея. Усов и бороды он не носил, а потому выглядел моложе своих сорока семи лет. Черные вьющиеся волосы его, такие же пышные и красивые, как у дочери, лишь на висках тронула седина.
Пан Теодор предпочитал другим экипажам таратайку – легкую двухколесную повозку с жесткими сидениями из прутьев и откидной кожаной крышей. Проехав лесной дорогой, герутевский хозяин наконец оказался в поле. Впереди, в низине, угадывались хаты Свентицы. Эта деревня находилась на развилке дорог. Когда кто-нибудь из герутевских или вердомичских отправлялся в костел в Гнезно, он обязательно проезжал через Свентицу. Дорога через деревню была ухоженной – имела канавы с обеих сторон и была обсажена деревьями.
В этот вечер пан Теодор не следил за дорогой. Мысленно он прокручивал предстоящий разговор с Менжинским. Как человек доверчивый и смирный, он уже теперь хотел найти какую-то завязку дружбы с князем. Кажется, Менжинский любил охоту. И герутевский хозяин, знавший толк в этом искусстве, уже прикидывал, когда можно будет отправиться с ним поохотиться. Но основой их дружбы должна была стать любовь князя к его дочери. И пану Теодору сегодня предстояло выяснить, действительно ли существует эта основа. Он не любил праздность и редко разъезжал по гостям. Сей визит тоже был ему в тягость. Но это был необходимый визит. Дело касалось судьбы его дочери – и потому он был настроен решительно. Он прекрасно понимал, что за словами, клятвами, заверениями, которыми мог осыпать его сегодня князь, должна стоять какая-то истина. И ему отчаянно хотелось разгадать ее.
Деревянный дворец в Свентице был заметен издали. Он стоял над крутым обрывом. В этот час, на закате солнца, окна его большого мезонина на втором этаже напоминали глаза стрекозы. Заходящие лучи отражались в них, создавая иллюзию света внутри дома. Темные, обугленные солнцем балки и алый блеск окон помимо воли внушали недоброе предчувствие, словно в этом доме обитал нечистый, тот, кто готов был рано или поздно утворить ужасную беду… Пан Теодор рассматривал здание дворца – и угадывал отсутствие сердца у человека, когда-то построившего его. «Все же родовой дом, где обычно живет не одно поколение, – размышлял он, въезжая в усадьбу, – должен источать больше тепла. Он должен зазывать, а не отталкивать…»
У парадного крыльца, выводившего на громадную открытую мансарду, гостя встретил хозяин.
Лакеи в старомодных ливреях выстроились живым коридором от крыльца до самых дверей. Их число несказанно удивило пана Теодора. Поэтому первым его вопросом еще в тот момент, когда оба только входили в вестибюль, был следующий:
– На что вам, батенька, столько дармоедов? И это в августе, когда люди так нужны в поле!.. На что князь Леон с присущей ему уверенностью отшутился:
– Отдаю их вам в аренду. Потом вернете, когда не нужны станут.
Пан Теодор оценил шутку добродушным смехом. Достав платок, он стал вытирать вдруг выступившие слезы.
– Вот это по-родственному! – от чистого сердца признался он. Но, встретив взгляд князя, в котором ясно читалась надменность, замолчал, разочарованный, и даже закашлялся, почувствовав неловкость. Когда оба оказались в гостиной, он занял место в мягком кресле, чтобы немного успокоить свое ноющее после тряски в жестком экипаже тело.
– Уф, – усевшись, сказал он, – заботы одолели хуже кредиторов. Сегодня был в Полуянке. Потом летал в Вердомичи. Что-то старая мельница закапризничала. Надтреснул зуб основного вала. В результате образовался люфт. Беда!.. Уж не знаю, управятся ли мужики к утру?
– А у меня на лесопилке неудача, – тут же начал о своем Менжинский. – Английский механизм поврежден. И нет запчастей…
Поговорив еще о заботах, оба наконец притихли, задумались каждый о своем – пары были выпущены, надлежало перейти к основной теме.
Но это оказалось делом непростым. Чтобы начать иной разговор, необходим был толчок. Менжинский понял это и, неожиданно ударив в ладоши, бодро крикнул стоявшему у дверей лакею:
– Вина и что-нибудь закусить! Живо! Лакей поклонился и, открыв дверь, поспешил исчезнуть во тьме коридора.
«А они у него расторопны», – имея в виду слуг, отметил про себя пан Теодор и, не зная, как оценить это, спросил:
– Вы всегда с ними так строго?
– Строго? – вопрос гостя явно удивил Менжинского. Князь уставился на прибывшего проницательным взглядом, спросил: – Что вы имеете в виду?
– Может быть, в другой обстановке, один на один, вы разговариваете с ними как-то иначе, более дружески?
– Разговариваю?.. – хозяин дома усмехнулся. – Пан Теодор, вы удивляете меня. О чем я могу разговаривать со слугой? Кесарю – кесарево. Я даже не замечаю их!.. И потом, у меня убеждение: если слуге дать поблажку, он скоро сядет вам на шею. С ними надо быть не просто строгим, но жестоким!
Гость собирался было возразить. Но тут дверь опять открылась, и все тот же лакей в длинной зеленой ливрее, прошитой на воротнике и вокруг пуговиц золотыми нитками, внес в гостиную большой поднос с полным графином, рюмками и двумя-тремя тарелками чего-то съестного. Выставив содержимое подноса на столик перед гостем, слуга оглянулся на стоявшего у окна хозяина и, заметив его движение кистью, означавшее «исчезни», неслышно направился к двери.
Когда он вышел, Менжинский приблизился к столику.
– Предлагаю выпить, – сказал он.
– О господи, какой из меня выпивоха! – попытался отказаться гость.
Менжинский пропустил мимо ушей его слова. Он взял графин и, налив вина в обе рюмки, вернулся к креслу гостя.
– Прошу прощения, водки у меня нет, – сказал он, передавая одну рюмку. – Не держу. Считаю сей напиток мужицким пойлом. Предпочитаю вина. Они у меня отменные, из солнечной Франции!
Пан Теодор принял рюмку – и тут же почувствовал, что хозяин завладевает его волей. Так паук плетет свою паутину: всего несколько минут назад ее еще не было, а тут оглянуться не успеешь, как она скрыла полпространства перед тобой!.. Князь уже навязывает ему напитки, говорит о своих симпатиях и антипатиях. Уже в начале беседы пан Теодор чувствовал, что перед ним отнюдь не двоедушный человек, не лицемер, как он думал сначала, а просто эгоист, человек, думающий только о себе и о своем благополучии. Кажется, в этом мире для Менжинского не существовало никого, кроме него самого. «Я предпочитаю», «я не держу», «я считаю»… На минуту гостю сделалось тошно. С эгоистом его дочь не могла рассчитывать на счастливую жизнь… Он постарался перебороть свое ощущение. Надо было продолжать разговор, надо было разбираться дальше. Он все еще надеялся, что князь лучше, чем представляется на первый взгляд.
Когда настойчивость хозяина восторжествовала и гостем была выпита первая рюмка, зашел разговор на тему, ради которой они собрались.
– Хотелось бы сразу узнать о ваших намерениях, – начал пан Теодор. – А именно: какую цель преследуете вы, сватаясь за мою дочь?
– У меня нет цели, – ответил хозяин. Просто я люблю панну Марию.
– Но вы, надеюсь, понимаете, что само по себе слово «люблю» ровным счетом ничего не означает?.. Простите, ваше сиятельство, но, как отец, я желал бы иметь доказательства вашего признания. Вы могли бы представить мне их?
– Все, что угодно. Вам стоит только потребовать.
– Вы хотите, чтобы с наступлением зимы я потребовал от вас окунуться в прорубь?.. Хе, неубедительно.
Ирония гостя задела хозяина. Но он не выказал гнева. Напротив, угадав, что сделал промашку, сейчас же постарался загладить ее.
– Я готов отказаться от приданого, – уверенно сказал он. Пан Теодор потянулся к своему платку. То ли вино ударило в голову, то ли влияла натянутость разговора, но ему сделалось душно. Отдуваясь и махая платком, он неожиданно ответил:
– А вот это уже лукавство, ваше сиятельство! Я хоть и не признаю себя за мудреца, но и дураком себя не считаю. Вы прекрасно знаете, что после моей смерти и смерти моей жены все мои и ее деревни отойдут нашей дочери. Она – единственная наследница сразу по двум линиям – Коллупайлов и Толочек. Согласитесь, об этом знает любой бродяга в нашем уезде.
– Еще раз говорю, – жестким тоном, так, как он недавно обращался к лакею, сказал Менжинский, – я готов отказаться от приданого! А чтобы вы были уверены в чистоте моих намерений, мы можем еще до регистрации брака составить документ о том, что все деревни, о которых вы упомянули, и все причитающиеся ей, как единственной вашей наследнице, земли в будущем, после моей и ее смерти, отойдут к третьему лицу…
Глаза пана Теодора округлились – то ли от удивления, то ли от страха. Кажется, ему не терпелось спросить: «К какому третьему лицу?»
– К ее наследнику, – продолжал Менжинский. – И что я никогда не буду иметь прав на них.
– Вы обижаете меня, князь, – искренно воспротестовал гость. – Между датой подписания бумаги и совершеннолетием наследника может пройти два, а то и три десятилетия. А смерть – она не любит расчетов наперед. Умри я завтра после подписания этого унижающего меня документа, документа-недоверия, кто проследит за тем, чтобы наши земли не заросли травой и лесом, а народ от голода и мора не двинулся в другие места? Я никогда не подпишу подобного документа хотя бы потому, что не считаю вас непутевым хозяином. Вижу, какой порядок на ваших землях. И знаю, что в случае необходимости вы наведете порядок и на других вверенных вам в опеку землях.
Высказывая упрек, пан Теодор в душе ликовал. Неожиданно он услышал от Менжинского то, ради чего приехал. Сказав о наследнике, князь, может быть, и не желая того, выдал то, что, кажется, являлось его главной жизненной надеждой. Пан Теодор был мудрым человеком – он понял, что, думая о его дочери, князь думает о будущем…
Дальнейший разговор был неинтересен гостю. Разобравшись, пан Коллупайло понял, что не откажет Менжинскому. Пришло то время, когда он уже испытывал потребность иметь внуков. Старость стучалась в его в дом. Пора было успокоить себя мыслью, что и после него в Герутево и других его деревнях жизнь не остановится. Он надеялся понянчиться с внуками и даже что-то подсказать им.
По сути, услышав про наследника, пан Теодор получил те самые доказательства, ради которых приехал в Свентицу. «Он любит ее!» – уверенно сказал он себе. И восторг, вызванный этим выводом, заставил его сделать то, чего он никогда бы не позволил себе в гостях, – взять графин и налить себе еще одну рюмку.
– Действительно хорошее вино! – заключил он свой монолог. Корректность, такт хозяина и, конечно, его изумительное вино сделали-таки свое дело. Пан Теодор пришел в хорошее расположение духа. Чуть позже, когда князь завел разговор о делах, он оценил и его способности как хозяина. У Менжинского было чему поучиться. Через час, уже охмелевший – немножко от вина, немножко от усталости и долгой беседы, – гость почувствовал, что хочет спать. До Герутево было четыре версты. Он знал, что его ждут.
А потому выбрал минуту и наконец стал прощаться. Князь не задерживал… Простились они почти по-родственному. Он проводил гостя до крыльца и даже помахал вслед.
И только полчаса спустя, когда лошади вынесли экипаж на возвышение, с которого был виден герутевский дом, пан Теодор неожиданно подумал: «Но почему я все-таки не верю ему?» На сердце его сделалось неспокойно. Оно, сердце, явно не лежало к хозяину Свентицы. «Уж очень строг со слугами!» – подумал старик, пытаясь как-то объяснить свои сомнения. Мысль о Менжинском опять отозвалась в нем странным, болезненным чувством, почти предчувствием беды. Пан Теодор даже растерялся. К нему вернулось убеждение, что не стоит отдавать дочь за этого человека, что Марися не будет счастлива с таким. Эти сомнения были некстати, потому что через минуту-другую ему предстояло держать отчет о визите перед женой и дочерью. А лгать он не умел…
Глава VII. Блаженные крикиНастойчивость князя Леона вкупе с неумолимым желанием панны Марии не могли не приблизить день их бра косочетания. Свадьбу решено было сыграть за неделю до Рождественского поста.
Потянулись дни, полные чудесных ожиданий для одних и дополнительных забот для других. Менжинский постарался забыть о своих любовницах. Его ежедневные визиты в Герутево говорили о том, что он наконец остепенился. Тем, кто его знал, это казалось невероятным…
Упрямец добился-таки своего. С первыми заморозками, в начале ноября, состоялось торжественное венчание. Панна Мария, Терешка и нянечка Зося перекочевали из герутевского дома в Свентицу, во дворец Менжинского. Панна Мария стала княгиней.
Первая брачная ночь подарила обвенчанным столько упоения, что они на несколько дней забыли не только о делах, но и о родственниках.
Князь Леон испытывал такое ощущение, будто помолодел на двадцать лет. Теперь рядом с ним постоянно была его молоденькая жена – живая черноволосая куколка. Он обнаруживал это ночью, когда просыпался, днем, когда пытался уединиться в своем кабинете. Стоило ему увидеть ее, как страсть тут же рушила всякую мысль о заботах, а руки помимо воли тянулись к его тоненькой егозе. Для него это было почти наваждение.
Что касалось княгини Марии, то она даже не думала скучать, пребывая в этом большом, обставленном старинной, неуклюжей мебелью доме. Она не умела сидеть на месте. Когда князь усаживал ее к себе на колени, она задерживалась там не долее минуты. Даже поцелуй вдохновлял ее лишь поначалу. Ей постоянно хотелось чего-то нового – игры, удовольствий, шуток. Иногда, словно бесенок, она могла ни с того ни с сего вдруг вспрыгнуть мужу на спину и обхватить его за шею руками – так она выражала то необыкновенное, счастливое состояние, в котором теперь пребывала.
– Марися! – восклицал при этом князь. – Ты задушишь меня! А она смеялась и еще крепче сжимала его своими тонкими ручками…
Иногда случалось наоборот – князь начинал искать общения с ней. Оставив дела, он принимался метаться по дому.
– Где моя девочка? – кричал он. – Хочу поцеловать ее маленькие губки!
Он перебегал из одной комнаты в другую, переворачивал по пути стулья – и испытывал при этом невыразимое чувство восторга от мысли, что он владеет такой жемчужиной, чистейшим, безукоризненным существом, которое не просто принадлежит ему, но еще и любит его, а значит, не продаст ни при каких обстоятельствах. Он, как истый эгоист, радовался, что она принадлежит ему всецело и что свет для нее, по крайней мере на этот счастливый период, сошелся на нем клином.
Иногда, разыскивая жену, он обнаруживал ее в ванне…
Она сидела, окутанная паром от горячей воды, умиротворенная и одновременно готовая к новым, еще большим восторгам. За скромным и даже робким взглядом ее угадывалась некоторая неловкость из-за того, что князь видит ее нагую. Такое ее выражение еще сильнее распаляло князя, усиливало и без того неуемное его желание. Менжинский подходил к ней, ступая так, будто у него вместо ног были пружины, и, встав перед низкой ванной на колени, протягивал к жене руки, словно блаженный, молящийся у алтаря. Поглаживая ее роскошные, спадающие на маленькие груди и плечи волосы, он любовался ею – ее широко раскрытыми, как у наивного дитя, глазами, ее курносым носиком, на который ему так хотелось легонько нажать, ее смуглым румянцем, вызванным теплом воды и внутренним умиротворением.
– Вы – ангел! – начинал он свою молитву. – Разве можно не любить вас! Разве был кто-нибудь в этом мире до Христа и после более счастлив, чем я! Вы и я – вот целый мир! Нам не надо другого! И так будет до гроба, до последнего толчка сердца! Девочка моя, ангел мой, отдаю свое сердце в ваши руки! Вот оно! Возьмите!
И он начинал нежно целовать ее – в шею, в губы, в грудь… Потом осторожно погружал свои руки в воду, под ее тело, и поднимал жену. А потом, прижимая ее, стремительно, словно с отчаянья, уносил в спальню, не замечая пугливых и любопытных взглядов бесчисленных слуг.
Так повторялось иногда по нескольку раз на день.
Каких-то задушевных бесед, пусть даже и на тему любви, они не вели. Обоих в эти первые дни совместной жизни связывала лишь страсть. Оба были охмелены: он – ее молодостью, красотой, невинностью, она – тем, что впервые познавала близость мужчины… Но как раз такая, построенная лишь на страсти, тяга друг к другу скоро должна была надоесть. Связь их была хрупка, ненадежна, не подкреплена чем-то основательным. Между ними не было настоящей близости. По сути, это была лишь животная забава, временная игра, которая в случае пресыщения должна была вызвать отвращение друг к другу.
Князь Леон, как человек опытный, понимал это. Понимал он и то, что должен как-то укреплять их союз, развивать привязанность. Но он был развращенным человеком, жил сегодняшним днем. Вместо того чтобы сдерживать себя и молодую жену, вел себя точно одержимый – брал, не давая ничего взамен.
Он пользовался ее наивностью, ее податливостью, ее абсолютной беззащитностью перед ним. Развивая в ней беспредельную страсть, он сам мало-помалу освобождался от своей. Имея возможность брать от жены все, что хотел, и не получая в ответ ничего нового, вскоре он опять начал подумывать об оставленных любовницах… С ними ему было сложнее. Они были капризны и требовательны. А потому и влекло его к ним сильнее – преодоление трудностей потакает самолюбию. Властность и даже жесткость – вот что, пожалуй, могло бы удержать князя около жены. Но княгиня Мария была неискушенной в том, что касалось семейных отношений. Между тем известно, что в семье, где кончается женская власть, зачастую начинается анархия. А это обязательно ведет к беде…
Наступившие морозы заставили свентицкого хозяина распорядиться, чтобы в доме затопили печи. Все десять труб над крышей дворца стали дымить день и ночь.
– Побольше света и тепла! – приказывал он слугам. И при этом сам следил за тем, чтобы его указания исполнялись.
В первые дни их медового месяца он направил свой опыт донжуана на то, чтобы влюбить в себя жену. Едва ли он сам любил ее – уж слишком примитивное представление имел об этом чувстве. А если и любил, то не саму княгиню Марию, а то, что она давала ему, – он просто забавлялся ею, как очередной игрушкой.
Особенно развлекали его ее блаженные крики.
Забываясь в объятиях мужа, княгиня Мария порой начинала кричать – то ли от удовольствия, то ли от боли. В такие минуты она теряла контроль над собой: могла вдруг заплакать, как разбуженный ребенок. Сначала князь пугался такого ее поведения, но вскоре его развращенная натура оценила это. Прежде у него не было «кричащих женщин». Он приписывал подобное особой страстности жены и потому специально старался возбудить ее до этих криков, воображая при этом, что он на дьявольском пиршестве.
Потом он просто перестал получать удовольствие от связи с женой, если та не кричала. Поэтому всякий раз, ложась с ней, он пытался довести ее до такого состояния экстаза, при котором княгиня Мария теряла всякую волю.
С этого периода порабощения жены начались их первые раздоры. Княгиня Мария не нуждалась в оргиях. Ей довольно было ласкового прикосновения, нежного поцелуя. Все, что муж делал с ней, лишь угнетало и оскорбляло ее. Но она не умела и не смела противиться тому, что навязывал ей этот опытный в делах утех человек.
Прежде всего ей было неудобно перед слугами. Она прекрасно понимала, что те слышат, когда она кричит, занимаясь любовью. Она чувствовала на себе косые взгляды, когда днем прохаживалась по комнатам, их насмешку… Действительно, в ее присутствии слуги вели себя как будто чинно, но стоило ей пройти в другую комнату, как они начинали беззвучно смеяться.
Слабость госпожи тешила их бессердечные души.
И только Терешка понимал госпожу и сочувствовал ей.
Иногда он осмеливался утешать ее, чувствуя, что ей непривычно и одиноко в этом большом доме.
– А ничего, матушка, свыкнетесь, – говорил он. – Вы только, родимица, не поддавайтесь ему. Нет хуже собаки, властвующей над хозяином! Держите его за ошейник!
Он учил ее уму-разуму, этот безобидный Терешка. Учил, потому что искренно любил. Любил, как дочь. Ему некого было любить, кроме нее.
– Он за свое – а вы воспротивьтесь, – продолжал слуга, – встаньте в позу! Ан нет, дорогой! Не будет по-твоему! Так ты мне и на шею сядешь! Вот как скажу, так и будет!.. Хошь вы и моложе, а постарайтесь заиметь над ним власть. Придумайте что-нибудь! У вас же столько козырей! И красота, и молодость!.. Иначе он охладеет к вам!
Княгиня Мария как будто соглашалась с мнением слуги, но что-то изменить в отношениях с мужем не умела. Уж слишком непокорным, солидным виделся ей князь. А капризничать, возражать она не хотела – была против упреков и жалоб. Наивная – она надеялась на милосердие мужа, не осознавая того, что милосердие и бездушие несовместимы.
Уже очень скоро она почувствовала, что князь начал сторониться ее…
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































