Текст книги "Время и место"
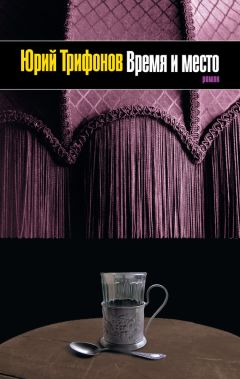
Автор книги: Юрий Трифонов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 19 страниц)
Все, что должно было двигаться куда-то, оно и двигалось, по-видимому. Медленно произрастали, раскидываясь вдаль и вширь, ветви романа про Никифорова; медленно громоздились этажи кооперативного дома на окраине, медленно взрослели и уходили в неведомую страну дети; медленно отъезжали друг от друга две половины треснувшей льдины, на одной половине стоял Антипов, на другой Таня, и никакого ужаса не было на их лицах, они разговаривали, шутили, принимали лекарства, раздражались, ходили в кино, а льдины тихо плыли своим путем, ибо нельзя ничего остановить, все плывет, двигается, отдаляется от чего-то и приближается к чему-то. И так же таинственно двигалось то, что возникло между ним и женщиной, жившей теперь в Ленинграде, которой он звонил чуть ли не каждый вечер, иногда ночью, в гостиницу, надеясь по голосу и словам угадать: куда все это плывет? Неподвижной воды нет, а в той, которая кажется стоячей, тоже происходит движение – она испаряется или гниет.
Первые вечера заставал ее в гостинице и выслушивал возбужденные рассказы о том, что она наметила, придумала, открыла, узнала, иногда выслушивал стихи, отрывки из писем, воспоминаний того и сего, свою версию роли Гончаровой, Гончарову называла Натали, как гимнастку Кучинскую, жаловалась на пушкинистов, которые с версией не соглашались, отстаивая честь мундира, она спрашивала его советов, интересовалась здоровьем и тем, как идет «Синдром», потом перестал заставать вечерами, начались ее разъезды, поздние возвращения, встречи с пушкинистами, а однажды не застал ночью. В марте он жил в пансионате под Москвой и мог звонить ночами свободно. Но не захотел звонить больше. Он выждал девять дней, дальше выдержки не хватило.
Она кричала по телефону в неистовом волнении, перемежая слова любви, ругани и упреков: «Куда ты скрылся? Ты свинья! Я хотела мчаться в Москву, хотя это невозможно! Я думала, ты в больнице! Видела ужасный сон! Нельзя так издеваться!» Он сказал, что звонил ночью, не застал ее, и желание звонить пропало. Что значит: пропало? Пропало, и все. Голос был слабый, дрожащий: «Ты свинья… Садист… Не хочу иметь с тобой дело… У нас неприятности, а ты издеваешься…» – «Какие неприятности?» – «Неважно. Тебе это неинтересно». Потом выяснилось: что-то снимать не разрешалось и вот добивались разрешения. В ту субботу поехали на два дня в Комарово. Все было понятно, объяснимо, он мог успокоиться, были поцелуи, слова «скучаю», «безумно», «не могу дождаться», но что-то куда-то сдвинулось и плыло.
Он позвонил через сутки, и опять никто не ответил. Было два часа ночи.
Дом стоял в снегу, в соснах, ночи были холодные, накрывался двумя одеялами, а днем грело солнце, обледенелый снег на дворике перед домом растапливался, сырели лужи, по ним носились, радуясь теплу, бездомные, холуйского вида собачонки, которых подкармливали на кухне. Старухи бросали крошки воробьям. Пожилые люди в долгополых шубах гуляли по аллеям, неслышно и как бы на ухо что-то друг другу рассказывали. Но все говорили примерно одно и то же. Из окна Антипов увидел, как по аллее идет стремительно, с портфелем в руке, в своем куцем бушлатике, в черной кроличьей шапке Степан, и обрадованно встал из-за стола: не видел сына несколько дней, да и работа не шла на ум. Ну что? Все хорошо. Как мама? Прекрасно, вот прислала белье и книги, которые ты просил. А Маринка велела позвонить в театр кукол и попросить два билета на воскресенье. Ей для учительницы. Ладно. Попробую. Твои-то как дела? Мои…
Они вышли во двор и отправились по размокшей дороге к лесу. Степан был Антипову ближе всех. В нем было понимание. Причем было всегда, даже в пору, когда он был младенцем. Было в глазах, поражавших необычным для младенца внимательным и печальным взглядом, как будто, едва родившись в пятидесятом, сразу начал отца жалеть. «Папа, – сказал Степан, – я не знаю, как мне быть с Настей». – «Оставь ее, – сказал Антипов. – Она для тебя не годится». Хотел сказать: «То, что годилось, ты, наверное, взял, а остальное не нужно», – но промолчал. Парень огромного роста смотрел на отца с тоской. «Папа, я знаю… Но я не могу оставить!» – «А чего ты хочешь?» – «Я хочу жениться. Только не говори маме пока. А Настя говорит, что рано, что невозможно, я человек безответственный, и так далее». – «Говорит правильно». – «Папа, глупости! Неужели не понимаешь, что это отговорка?» Он помолчал, раздумывая. Все это напоминало вид пруда в перевернутый бинокль: те же самые деревья, тот же домик, купальня, но в перевернутом виде. Он спросил: «А она чего хочет?» – «Продолжать все так же. Просто так». – «Ну и хорошо! – сказал он с фальшивой бодростью. – Лучше не придумаешь! Она умная женщина». Сын шел с поникшей головой и уныло молчал, ему было плохо. Антипов заговорил о другом. Через час, когда возвращались из леса к обеду, столкнулись на въезде во двор с директорской синей «Волгой», Котов велел шоферу остановиться и вылез из машины, чтобы пожать старому приятелю руку.
Антипов жил в пансионате давно, но Котова встречал редко – тот чуть не каждый день мотался в Москву, весь был опутан какими-то делами, заботами, обязательствами. Ну, как тебе тут живется? Жалоб нет? Персонал не грубит? По кухне нет замечаний? Все было полувшутку-полувсерьез, остановка с рукопожатием не означала ровно ничего – эти две льдины тоже разъехались, их давно несло течением в разные стороны. У Котова на уме были капиталовложения, ассигнования, цемент, стекловата, но иногда ему хотелось дать понять, что он вовсе не то, что о нем думают. Вот и теперь он остановился лишь затем, чтобы сказать, что работает над сценарием. Для киевской студии. Но работать абсолютно некогда – урывает два-три часа по ночам.
Антипов не верил. Но это не имело значения. Встреча с опухшим багрянощеким старым барбосом всегда была чем-то мила. Памятью о невозвратном. И он спросил то, что хотел от него услышать барбос: о чем сценарий? «О Гоголе, – был простой ответ. – Точнее, о юности Гоголя. Мне эта тема близка. Ведь я по матери хохол». И много ли сделано? Примерно треть. Сценарий будет трехсерийный. Но ужас в том, что работать некогда. Впору хоть бросать этот райский уголок, будь он неладен! Да на кого бросить? Вы же первые взвоете…
Махнул рукой, втиснулся в машину и покатил в сторону гаража. Антипов смотрел ему вслед с улыбкой. «Ни одному слову верить не рекомендую. Не будет ни сценария, ни фильма». Степан сказал: «Вот разница между нашими поколениями. Ты считаешь, что не будет, а я посмотрел на товарища и твердо верю: фильм будет». Он захохотал глуповато, по-мальчишески, забыв о своих невзгодах. А ведь он умница. И так ничтожно попался! За обедом Антипов начал подкоп с другого конца – со стороны Ройтека. Сказал, что ройтековская среда настораживает, это люди другого кроя, трена, крена, черта в ступе, словом, чего-то другого. «И самого Романа Викторовича ты подвергаешь сомнению?» – спросил Степан. «Именно». – Ну да, я забыл, вы ужасно колбасились с Новым годом, не хотели с ним сидеть, Настя над отцом потешалась: ты, говорит, как вий, тебя все боятся! А мне кажется, он человек нескверный. Он добродушный, компанейский, любит водочку, анекдоты. Словом, обыкновенный папаша средней руки, чей поезд ушел». Антипов поглядел на сына. «Почему ты думаешь, что поезд ушел?» – «Ну, ушел, конечно. Это ясно. Недаром же ему хамили под Новый год. Но имей в виду, Настя знает его навылет! Особого почтения там нету. А он любит ее совершенно по-идиотски». В словах Степана Антипову чудилась какая-то мина, но не мог точно определить, где он ее заложил, и оттого молчал, сурово сдвигая брови. «Да! Между прочим! – сказал Степан. – А про тебя он всегда спрашивает и говорит только хорошее. Даже очень хорошее. Говорит, что ты талант, что ты очень искренний, что он знает тебя по студенческим временам. Печатал твой первый рассказ в газете». – «Ну, печатал, – сказал Антипов. – И что из того?» – «Папа, а как назывался тот рассказ?» – «Не помню. Это был, собственно, не рассказ, а фельетон на две колонки. В отделе юмора». – «Правда? Вспомни, пожалуйста, как назывался. Забавно же, первый рассказ!» Антипов стал вспоминать и вспомнил. «Кажется, вот как: «Колышкин – счастливый неудачник».
Степан воскликнул: «Колышкин – счастливый неудачник»? Здорово, папа! Шикарное название! – Вдруг прыснул смехом и, согнувшись пополам, стал хохотать как безумный. – Колышкин? Счастливый неудачник? Это колоссально, папа!»
В потемках провожал Степана на станцию. К вечеру похолодало, дорога заледенела, шли медленно. Степан спросил: а можно ли каким-то способом узнать, любит ли женщина по-настоящему? Или это театр? Спрашивать ему, видно, было неловко, он долго собирался с духом и вот дождался темноты, спросил. Антипов сказал, что способов нет. Женщина сама не знает. Должно пройти время, может быть, жизнь, тогда выяснится. Сын сказал с неподдельной печалью: «Но ведь это катастрофа! Как можно жить?»
Наверно, у него вертелось на языке: «Как вы все живете?» Он ухватился за последнее, что обещало надежду: «А наша мать? Она… – голос дрогнул, – по-настоящему тебя любит?»
Отвечать было необходимо. Антипов сказал: «Наверно. Но ведь прошла долгая жизнь. В нее уместилось две жизни: твоя и Маринкина».
Ночью Антипов понял, что было частью «синдрома Никифорова»: страх потерять Гогу. Это могло случиться по воле рока, тут Никифоров бессилен, ни предвидеть, ни защитить, но – молния могла ударить по воле самой Гоги, ибо неподвластно пониманию, н а с т о я щ е е и л и н е т соединяет людей, вдруг раскалываются небеса и наступает гибель. Человек расщепляет атом, исследует мир до мельчайших крупиц, близок к тому, чтобы силою своего знания этот мир уничтожить, но трепещет беспомощно перед загадкой: н а с т о я щ е е и л и н е т? На другой день, позавтракав рано, Антипов тотчас сел за стол. Он работал над главой о сорок пятом годе, декабре, когда в Козихинском переулке возник первый муж Гоги, нелепый Владимир Леонтьевич Саенко, с которым Гога рассталась двадцать лет назад. Саенко был красный командир, он вытащил гимназистку Гогу из развалин купеческого дома города Николаева, привез сначала в Россошь, потом в Москву, работал экономистом Центросоюза, мучался красотою Гоги и жаждал узнать правду: настоящее или нет? Запутавшись в диалектике сложных Гогиных чувств, дойдя до отчаяния, он сочинил «Десять пунктов семейной жизни» и представил их Гоге в виде меморандума. Это было в двадцать шестом, а в двадцать седьмом «Десять пунктов» стали уликою во время чистки и его исключили из рядов как чуждый и разложившийся элемент. И он сгинул куда-то, то ли удрал в свою Россошь, то ли уехал искать счастья на Дальнем Востоке, и, когда Никифоров нашел голубоглазую Гогу, от Саенко не осталось ничего, кроме скудных анекдотических воспоминаний и пожелтевших листков меморандума, которые Гога иногда читала гостям, чтобы позабавить. И вот однажды он постучался в дверь и вошел – миф воплощенный, предмет привычных домашних шуток, не человек даже, а некий знак, некий призрак лонострадальца в чистом виде – и обратился с просьбой. Все было нелепо: и появление, и просьба. Если уж появился, то не проси. Саенко был долговяз, сутул, лет пятидесяти пяти, с худым зеленовато-темным лицом, говорившим о нездоровье, на котором резкими морщинами было вычеканено застарелое недовольство или обида, но в глазах синела детская простоватость. И это было то, что странно соединяло его с Гогой; Никифоров сразу заметил, и его это покоробило. Саенко попал в сорок первом в окружение, оказался в плену, бежал, воевал вместе с партизанами во Франции, еще раз угодил в немецкий лагерь, опять бежал и воевал и теперь хотел устроиться куда-нибудь экономистом или бухгалтером, но не удавалось. Его жена, еврейка, и дети погибли в Белоруссии. Он приехал в Москву, мечтая как-то поправить пошатнувшиеся дела. Он так и сказал: пошатнувшиеся дела. Старые знакомые, на которых он случайно наткнулся, сказали, что у Георгины есть связи, и вот…
Антипов перечитал внимательно написанное вчера – было необходимо, как глубокая втяжка воздуха перед тем, как нырнуть, – и стал писать.
«Никифоров маялся без сна и, чтобы не разбудить Гогу, которая спала чутко, в три ночи тихо встал, ушел в угловую комнату, за шкаф, и сел за стол. Работать он, разумеется, не мог, но мог курить и думать. Приезд странного человека взбаламутил что-то темноватое и путаное, какие-то водоросли на дне души. Может быть, эти донные водоросли, присутствовавшие в потемках от века, были особой формацией страха, загадочным полипом, который, впрочем, почти не беспокоил Никифорова – с ним можно было жить. Но иногда вдруг глубоководная ткань приходила в движение и все существо Никифорова колебалось и ныло, охваченное, как болезнью, страхом потерять Гогу. О каких связях Гоги говорил Саенко? И кто эти старые знакомые, которые навели на Гогу? Почему-то не успел спросить, он ушел, Гога велела позвонить дня через два. Никифоров знал магическую силу п и с а н и я, которое притягивает к себе жизнь. То, о чем писалось, что было полнейшим вымыслом – поднялось из твоего мрака, из твоих ила и водорослей, – внезапно воплощается в яви и поражает тебя, иногда смертельно. Роман о Всеволодове – Валдаеве остановился на странице, где героя допрашивал офицер колчаковской контрразведки в девятнадцатом году, в Невьянске, в конторе чугуноплавильного завода, здесь решалась судьба. Недописанный роман о Сыромятникове лежал, запеленатый наподобие мумии, в сундуке в сарае пермского купца Гольдина. И возникла женщина, дочка Гольдина, которую Всеволодов когда-то боготворил, потом проклял, и от нее зависело: спасение или смерть. Она была тайно близка к кому-то из тех двоих: к колчаковскому контрразведчику или к матросу из отряда особого назначения. Никифоров проглядывал написанное, поправлял механически то слово, то запятую и думал про жену и Саенко. Нить, сочетавшая их когда-то, не прервалась доныне, дотянулась призрачной паутиной, хотя Гога отрицает, женщины всегда отрицают, они уверяют, будто прошлое для них не существует, и искренне, хотя это неправда.
Никифоров рылся в ящиках стола, отыскал запыленный конверт с письмом и «Десятью пунктами» Саенко – давно забрал эту прелесть себе, надеясь воткнуть в какое-нибудь сочинение. Письмо было страниц на десять, напечатано на «Ундервуде», пылкое, глупое, чудесное, бессмысленное, с укорами, мольбой и орфографическими ошибками – Гога куда-то от него убежала, он хотел письмом ее вернуть… «…Ты меня обнадежила, Георгина, что приняла мое предупреждение насчет того, чтобы в Россоши оставить все николаевское прошлое… Ты обещала бросить легкомысленную крикливость, неуместный хохот в присутствии других людей… В первый день Троицы приходил какой-то денди, спрашивал Георгину. Я ему из окна крикнул, что она уехала (куда, не сказал), и он ушел со склоненной головой… Да, вот еще что. Платья твои я сжег (кроме шелкового) и пояс тоже там, где мы сожгли нашу переписку. Туфли твои хотел было порезать ножом, да Тоня Герасимова вступилась, они ей очень понравились, взяла и носит теперь. Ждал, ждал, что ты напишешь, а ты все молчала, ну я и… все уничтожил. Думаю, если будет хорошая – все ей будет, и еще лучше. Не жалей, друг, всей этой мелочи, тряпок. Это сущая чепуха и ерунда. Раз оставила, значит, выбрось из головы, а я, конечно, когда на другой день посылал деньги (10 рублей), зачем-то полез в чемодан, уж не помню, зачем он мне понадобился, когда увидел тряпки, конечно, погорячился, уж так больно мне стало. И все сжег тут же вечером. Жег с полчаса, воняли тряпки, особенно кофта, а новое вишневое платье разом вспыхнуло и сгорело…»
И вот на отдельном листе:
«Совместная жизнь возможна лишь на следующих началах:
1) В отношении расположения меня к себе – все начинаешь ты. Должна сама начинать и ласку, и способы ликвидировать размолвки, и подходы в каждом отдельном случае, судя по моему настроению, ко мне, понимая меня в каждый отдельный момент.
2) Абсолютно полная на все 100 процентов любовь, а не такая: на 40 процентов нравишься, а на 60 процентов нет – с тем, чтобы я чувствовал, понимал, видел, что я действительно для тебя все, лучше всех (дороже всех), роднее всех, милее всех, чтобы я чувствовал, что за меня в огонь и в воду, друг самый надежный, нежный, понимающий, смягчающий мои тяжести жизни, дающий мне воодушевление и помощь в борьбе, чтобы я чувствовал, что я необходим как воздух, а не так: мне раньше лучше было с тобой, теперь хуже; или: что-то не хочется возвращаться из Харькова…
3) Быть хозяйственной, заботливой, любить уют и свою обстановку, ведать хозяйством, выработать в себе бережливость, всякие расходы (до копейки) делать из общего согласия, не рассчитывать на многое, на шик, на роскошь, на величие, на знатность, а самой понимать, что можно сейчас требовать и что подождать, а что и вовсе отменить, вычеркнуть из поля своего зрения (всякие там польта с крыльями и пр.).
4) Понять мои вкусы в одежде, в обращении с людьми, в походке, в поведении со мной наедине, в ласках (формы ласк и пр.), делая как можно больше приятного, всемерно, беспрекословно считаться с моими указаниями, сознавая, что как по линии теоретической, так и по линии практической превосходство на моей стороне…»
Пятый и шестой пункты были вариантами того, что говорилось прежде: о «полном послушании» и «исполнительности во всех без исключения случаях». Тут сквозила затравленность человека, которого не ставят ни в грош. Ни о чем другом он не смеет мечтать. «Гога это умеет! – подумал Никифоров с чувством удовлетворения. – Если уж кого не уважает, тот человек не существует для нее вовсе. Бедный Саенко, представляю его страдания!»
«…7) Хотеть быть матерью, смотреть на меня как на отца своего будущего ребенка – самого дорогого человека на свете, и беречь себя как мать, дабы ребенок был хорошим, а не нервным от нервирования и нервозности матери, тогда и с моей стороны будет адекватная заботливость и нежное хладнокровие.
8) Ни одной мысли даже, не только слов об «уйду», «уеду», «потом снова, может быть, полюблю», «здесь скучно» и пр. Бросить всякую тактику из головы и из сердца, дать ему простор, и оно будет заполнено.
9) Желать меня в половом отношении как самого милого, самого приятного мужчину, мужа и друга на всю жизнь, твердо осознав, что все, что было до сих пор, было ерунда, хуже того, что есть во мне, что мне надо отдать все, желать, как дыхания, меня. Всякие капризы и отговорки пора забыть.
10) Чувствовать себя женщиной, не мужичиться, выбросить мужественность и всякие там а-ля фасон Моника Лербье, знать, что я своей силой мужчины доминирующе силен и заставлю тебя чувствовать силу, если будешь артачиться. Поэтому выбросить все это из себя сразу, немедленно».
Прочитав, вспомнил, как раньше смеялся, но теперь почему-то не было ни смеха, ни даже улыбки. Человек, изглоданный войной, концлагерями, смертными испытаниями, болью потерь, все еще во что-то наивно верил. Женщина поразила когда-то беспощадно и намертво, и он верил: она спасет. Каким образом?»
Тут Антипов оставил писание, почувствовав усталость. Он работал три с половиной часа, достаточно, дальше пойдет не впрок. Важно остановиться там, откуда проглядывается ход дальнейшего повествования, чтобы завтра двигаться, как по рельсам. Рельсы были видны: Никифоров не понимает, каким образом Гога может помочь Саенко. Надежды бывшего мужа ему кажутся комическими да попросту дурацкими. Какие связи у Гоги? Через педикюршу Капитолину с женой влиятельного лица? Тут опять возникает характерный для «синдрома Никифорова» феномен – боязнь увидеть. Он все ясно видит и абсолютно ничего не видит, тайный механизм страха застилает, как катарактой, глаза. Поэтому он искренне изумлен, когда через два дня Гога сообщает Саенко, что того ждет в Минске работа…
Эти страницы еще не были написаны, но Антипов видел их отчетливо, с отдельными фразами, с рисунком абзацев, со словечками, которые должны непременно быть – например, словечки «катаракта» или «помутнение хрусталика», – и казалось, что страницы готовы, их можно причислить к общему счету страниц. Он торопился все закончить к концу пребывания в пансионате. Было важно по многим причинам. И он закончил. Упрямая муха продолжала жужжать и трепыхать крылышками, погибая в клею. Но в начале апреля стало ясно, что переделки не помогли.
Он не звонил в Ленинград две недели, и от нее не было известий. Могла бы найти его в пансионате, он дал телефон. За две недели все переменилось: расплавился и потек снег, открылась земля, бушевали в черных ветвях птицы. Вместе с теплым воздухом вплывало дремотное успокоение, какое бывает лишь в весеннюю рань – среди дня хочется заснуть, какой-то хмель одолевает и ломит, исчезают волнения, ничего не страшно. И думается легко: ну и конец, ну и ладно. Ну, и так тому и быть. По телевизору показывали фильм про Суздаль; он спокойно узнавал храмы, мотель, торговые ряды. Вспоминал, как гуляли, о чем разговаривали. Увидел сквер, возле которого остановили машину, оттуда прогнал милиционер, грозил штрафом, а какая-то бабка, когда Антипов вылез из машины, бросилась к нему с радостным сообщением: «Сынок, в рядах чай цейлонинский дают!» Все это он видел и вспоминал как бы сквозь дрему.
Однажды после обеда, когда был в бильярдной, позвали к телефону, он оторвался от стола с неохотой, даже позволил ударить партнеру, сам внимательно прицелился и ударил, после этого пошел, не торопясь, в вестибюль, где был телефон. Не ждал ни важных звонков, ни радостных новостей. Вдруг внезапный, как выстрел, голос: «Ты когда будешь в Москве?» Не было ни «здравствуй», ни «куда ты пропал?». Он сказал: собирался быть завтра. Не собирался. Но так сказал. Наступило молчание, и у него вырвалось: «Могу сегодня. Вечерней электричкой. Двадцать два тридцать». – «Приезжай! Мне надо с тобой поговорить».
В пустом вагоне он размышлял без особого волнения: что бы это значило? Голос сухой, разговор скомканный: «М н е н а д о с т о б о й п о г о в о р и т ь». Такая фраза предваряет упрек, выяснение отношений, в ней звучит угроза. Открылась их тайна? Такой-то выгнал из дому? А может, беда с картиной? Консультант Евстропов оказался подлецом? Почему-то подозрителен был Евстропов. Никаких улик и намеков, компрометирующих Евстропова, не было, кроме единственного – кто-то сказал, что внешне он похож на него, Антипова. И тут крылось что-то неприятное. Но вдруг ему мерещилось нечто сладостное: она дико соскучилась и, едва приехав в Москву, тотчас звонит, голос сух и разговор скомкан от волнения, но она уже договорилась – звонком из Ленинграда – с какой-нибудь подругой о квартире, так что, возможно, проведут ночь вместе. Мало верилось, но думалось хорошо. Потом стал думать о таком-то. Мысли о таком-то всегда несли беспокойство. Ирина сама запуталась и не помнила, что когда говорила: то утверждала, что такой-то о нем знает и ненавидит его, то выходило, что лишь только догадывается, но идет по ложному следу, а то можно было понять, что вовсе ничего не знает и ни о чем не догадывается. После Нового года передала слова такого-то, сказанные с оттенком одобрения: «Антипов, наверное, занимается карате? Как он этого типа от стола-то рванул!» – «А ты что ответила?» – «Ответила: откуда я знаю?» Похоже было, что вроде бы он не в курсе, но Ирина сказала, что он человек такой выдержки и такого чувства достоинства, что может не показать вида. «Самообладание грандиозное. Еще бы, на такой работе!» И поэтому Антипов все же склонялся к тому, что такой-то туманно догадывается и способен столь же туманно губить, то есть губительность его неопределима, бесформенна и всепожирающа, как туман. Глупость могла заключаться в том, что роман на исходе, а пагуба длится…
– А, брат! – бормотал Антипов, постепенно все более загораясь беспокойством. – А ты хочешь, чтоб без последствий? Нет, голубок, без последствий даже кошка не чихает. Долго будешь репьи обирать…
И вот увидел ее – возле автоматов с газированной водой, как договорились, озябшую, в тоненьком кожаном пальтеце с поднятым воротником, губы побелели, глаза несчастные, – все забылось, мрак отлетел, никаких мыслей, только обнять ее, прижать к себе. Пошли бегом в зал ожидания, она вела за руку, раньше присмотрела место в конце зала на полупустой лавке. Рядом сидели старик со старухой, на лавке напротив спала тетка, положив голову на что-то тряпичное, и рядом с нею дремали удобно, плотно обнявшись, две девочки лет десяти. Был первый час ночи. Ирина молчала, все держа Антипова за руку, и не то улыбалась, не то просто дрожали губы и испытующе всматривалась в его лицо. Ты что смотришь? Отлично выглядишь. А ты усталая. Я плохая, я знаю. Потому что у меня плохо. Что у тебя? Обнял ее за плечи, придвинул легкое тело, она послушно придвинулась, склонила голову на его грудь, косынка упала, он раздувал темные пушистые волосы, от которых шел мятный, травяной запах какого-то шампуня, и прислушивался к ее шепоту; она шептала что-то про Ленинград, про дирекцию, про операторов, все было вздором. Он понимал, что дело в другом.
«Что у тебя?» – повторил он и стал гладить ее плечо. «Я в Москве уже неделю. Просто дома тяжелая обстановка, и я не могла звонить. А вчера он лег в больницу». – «Кто?» – «Такой-то». Они разговаривали шепотом, чтоб не будить спящих. «Что-нибудь серьезное?» – «Да ничего страшного! – с внезапным, непонятным раздражением, но не против мужа, а против чего-то еще, воскликнула она. – Обострение язвы. Как тут не обостриться. Ведь ты знаешь?» – «Что?» Она подняла лицо, которое показалось ему необыкновенно красивым, нежным и мятым от слез, и смотрела с изумлением. «Ты не знаешь?» – «Нет». – «Такой-то уходит».
И поразительным было то, что эта комическая новость, которая должна была бы вызвать улыбку или вздох облегчения, подействовала на Антипова странно: вдруг он содрогнулся от жалости и стиснул ее так сильно, точно хотел защитить.
Он стал ее успокаивать: не огорчайся, ну что ж, ничего страшного, такие люди не пропадают, его устроят на хорошее место. Она горестно качала головой: нет, хорошего места не будет. Ничего не обещают. Один человек на него чрезвычайно взъелся по одному поводу. Но такой-то не виноват. Тот человек вымещает на нем свои неприятности. А такой-то страдает оттого, что он порядочный: не может кому нужно сказать, что тот действует несправедливо, а он к тому делу непричастен.
«У меня к тебе просьба, – голос ее дрожал, – ты знаком с Квашниным? Поговори с ним насчет института. Там есть место завсектором. Такой-то давно хотел заняться научной работой. Его бы это устроило». Теперь было ясно, что беда нешуточная: после этакой вышки мечтать о месте завсектором! Антипов горячо кивал, обещал, уверял, что все будет сделано, Квашнин – старый приятель и, конечно, поможет. «Ты пойми, милый, – говорила она, – мне его безумно жаль. Он такой неприспособленный в этих делах. Не умеет бороться, не умеет себя защищать. Его ответ: лягу в больницу! Ну и ложись. Кого этим напугаешь?»
Антипов понимал, успокаивал, верил всем сердцем: все будет хорошо, Толя поможет. Она поцеловала его полураскрытыми губами, долгим поцелуем. Он думал: «Она хорошая. Ведь не любит такого-то, а как жалеет его и как хочет помочь!»
Две девочки проснулись и сидели тихие, молчаливые, завороженно глядя на Ирину и Антипова и прислушиваясь к разговору.
Она шептала: не может простить себе, что поссорилась и была груба с ним как раз в дни, когда против него все затевалось, но она не знала. Он скрывал до последней минуты. Кто-то ему наплел, будто ее и Евстропова видели в ресторане и у них роман, и он стал просить ее вернуться немедленно, стал требовать ультимативно, что на него непохоже, и она по телефону устроила ему ужасный разнос. Он потом извинялся. Говорил, что свистопляска на работе выбила из колеи, сдали нервы и что он сам себе отвратителен. «А может, у тебя правда роман с Евстроповым?» – спросил Антипов. «Ну что ты! Зачем я ему нужна? Я для него старуха». Антипов засмеялся. Девочки смотрели на Ирину, не отрываясь. Просто пожирали ее глазами. На Антипова они не обращали внимания.
«Что будем делать? – спросил Антипов. – Ночевать на вокзале?» – «Зачем? Поедем ко мне…»
Такой-то в больнице, а дочку она отправила к матери. Взяли такси, приехали в начале второго. В громадной пустой квартире, где было много дорогого, тяжелого, в позолоте, в ковриках и коврах, но мало книг, мало уютного бумажного хлама, к которому Антипов привык, он внезапно почувствовал свою неприкаянность. Вдруг подумал: если позвонить домой? Таня еще не легла. Она любит возиться на кухне и в ванной за полночь. Часто были стычки из-за этого. Можно услышать ее испуганный голос: «Да, да?» Ирина обрызгивала спальню чем-то душистым из пульверизатора. Распахнула халат и побрызгала на себя. Антипов так вожделел этого часа, но сейчас почему-то не испытывал энтузиазма. Долго лежали и разговаривали. Она рассказывала о своих соображениях по поводу Натали и Геккерна. Потом погасила свет и, засмеявшись в темноте, сказала: «Я вижу, я интересовала вас только как жена такого-то!»
На другой день Антипов созвонился с Квашниным, тот велел прийти в понедельник в контору. Антипову оттяжка не понравилась, не понравилось и то, что не домой, а в контору, но он скрепился, пошел. Секретарша просила подождать: Анатолий Лукич извиняется, у него польские товарищи. Антипов шлепнулся на диван, закурил и думал, озлобляясь: «Еще хорошо, что не за себя пришел просить!» Квашнин изумил его: отказал категорически и сразу. Не объясняя причин. И Антипову посоветовал: «Ты за таких людей не ходатайствуй. Без тебя найдутся ходатаи. А за него не волнуйся, его трудоустроят». Долго разговаривать с ним не хотелось. Толя был хоть и дружествен, но как-то рассеян, заторможен, небрежен и, в общем-то, гнусен. Вдруг Квашнин спохватился: «А ты пошто за него хлопочешь?» И глаз вспыхнул островато, прицельно. «Так надо», – мрачно сказал Антипов и направился к двери.
Квашнин крикнул вдогонку: «Когда новоселье будет? Смотри не замотай!»
Антипов в тот же вечер позвонил и рассказал: неожиданный афронт! Ирина, помолчав, сказала: «Я почему-то так и думала. Мне сейчас трудно разговаривать. Я тебе перезвоню, хорошо?» И короткие гудки.
В субботу кончилась путевка, и Антипов приехал в Москву. Она не звонила ни в пятницу, ни в субботу, ни в воскресенье. Он занимался сладким делом: перечитывал, правил и улучшал текст, только что полученный от машинистки. Таня в соседней комнате счастливым голосом отвечала на телефонные звонки: «Приехал! Нет, не могу! Он работает!» И каким-то приятелям: «Сашка приехал! По-моему, жутко интересно! Страниц четыреста! Позвони часа через два!» Но ни разу не походило на то, чтобы в трубке молчали, тогда бы он понял, что звонит Ирина. Он перечитывал последнюю главу про Гогу, законченную неделю назад: о том, как Гога узнала в 1955 году о смерти своего старого знакомого и какой разговор произошел между нею и Никифоровым за утренним кофе. Глава Антипову нравилась, но было пока еще неясное чувство, что чего-то он тут недочерпал, какой-то важный мотив остался в стороне.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































