Текст книги "Время и место"
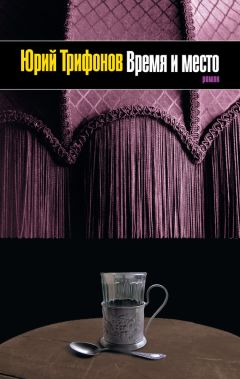
Автор книги: Юрий Трифонов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 19 страниц)
Семичасовая электричка оказалась битком, работяги торопились в Москву, в ночные смены. Сашка влез в тамбур, поставил мешок рядом стоймя. Народ подваливал на всех станциях, в тамбуре скучилась невозможная теснота, и, когда приехали на Белорусский вокзал, стали выходить скопом, мешок опрокинули. Сашка хотел крикнуть «Постойте!», но было стыдно кричать, да и кто бы послушался? Чертыхались, спотыкались, топали по мешку, один сказал: «Тут вроде кто-то лежит». Другой: «Да пьяный небось скот». А третий определил: «Это чей-то мешок сдался». Прокопытили его в клочья, картошку раскатали по тамбуру, половину вниз, под колеса. Сашка ползал, собирал. На вокзалах всякий свет запрещен, хоть глаз выколи, чего соберешь? А я предупреждал: будешь иметь дурацкий и глупый вид.
Сложил кучку на перроне, стал продавать, потому что взять не во что. Представляю себе, как он униженно бормотал: «Кому картошку… По дешевке… Отдам…» – а народ мимо, мимо, всем некогда, бегут на работу, кто впотьмах покупать станет? Вдруг гнилая? Ничего не продал. Насовал сколько мог в карманы и пошел в метро. А кучка продержалась на перроне до утренних электричек, и тогда уж, наверное, растащили.
Поздним вечером он свалился вдруг на мою голову, я не спал, бабка уже спала, разговаривали на кухне, пили чай с сахарином, и он рассказывал всю эту ахинею с мешком, якобы смеясь, шутливо, но на самом деле с тайным отчаянием. Вид у него был обалделый. Он спросил: не могу ли я ему помочь продать бекешу? Почему-то он считал, что я на рынке более ловок. Я стал его отговаривать: отличная бекеша, ее можно носить еще двадцать лет, сносу не будет, ты что, с ума сошел, продавать такие бекеши? Но он сказал, что это его твердое решение: пока ехал ко мне, обдумал все варианты и понял, что бекеша – единственный выход. На другой день пошли на Даниловский рынок, я изображал покупателя, и нам удалось всучить бекешу одному типу в обгорелой шинели за семьсот пятьдесят. Мешок картошки стоил шестьсот. Мы купили еще самодельные санки и поволокли мешок по сырой, в тающем снегу Большой Серпуховской. В воздухе уже колыхалось тепло. Зима была позади. Сашка шел в телогрейке и посвистывал.
Пришли на Кировскую, в переулок, в двухэтажный дом, вход со двора, потащили вдвоем по деревянной лестнице наверх. Я у Льва Филипповича раньше не бывал. Женщина отворила дверь, показала рукой, куда идти, и шелестела сзади: «И все что-то тянут, тянут…» Лев Филиппович в белой рубашке сидел за столом и при свете настольной лампы, низко нагнувшись, разглядывал чертеж.
– А, картошка приехала! – сказал Лев Филиппович. – Это хорошо. Почему в другом мешке?
– Да тот порвался, пришлось пересыпать, – сказал Сашка. – Тот совсем пропал.
– А! – сказал Лев Филиппович. – Это жаль. Ну, молодец. Это ты правильно сделал.
За занавеской хлюпала вода, что-то постукивало, наверно, стирали. Наверно, таз стоял на табуретке, и табуретка стучала ножками в пол. Вдруг вышла Надя в длинной хламиде, вроде мужской полосатой пижамы, с рукавами, засученными до локтей, руки были мокрые.
– Ой! – вскрикнула Надя то ли обрадованно, то ли испугавшись. – Наверно, не ожидали? – Она засмеялась. – Я вот начальнику помогаю.
– Надежда мне помогает. К сожалению, не часто. Но и на том спасибо. Сейчас будем чай пить! – сказал Лев Филиппович и вышел из комнаты.
Сашка мертвенно молчал в своей излюбленной позе столбняка, с полуоткрытым ртом, а я сказал:
– Почему не ожидали? Вполне. Как раз ожидали.
– Ребята, знаете, – шепнула Надя, – я Льва Филипповича так жалею… Я вообще-то жалостливая… Кто ж ему постирает, приберется?.. У него всех, всех побили, подчистую… Даже прабабку девяноста лет…
– А нас не пожалеете? – спросил я нагло.
– Вас? – Она опять засмеялась, и лицо было пылающее, счастливое. – Чего вас жалеть? Вы молоденькие. Вас еще пожалеют.
Жалеть нас было не надо. Мы делали радиаторы для самолетов. И война приближалась к концу. Летом сорок четвертого Лев Филиппович добился того, чего хотел, – его отправили на фронт, больше мы о нем ничего не слыхали. И все мы скоро разлетелись кто куда. Война сводила людей и рассыпала навек. С Сашкой я еще иногда встречался, а остальные исчезли. Темная от копоти, заматерелая, потерявшая цвет кирпича стена бросилась мне в глаза, когда случайно – полжизни спустя – я забрел в этот переулок за Белорусским вокзалом, вдруг узнал свой завод и все вспомнил.
Тверской бульвар – III
Она пропала весной, ушла, как снег, ее не было нигде, ни за что, никогда, вместо нее сверкало голубое небо, просохли аллеи, женщины копались в земле на бульваре, нежная листва томилась в воздухе. Настало лето, ее по-прежнему не было. В доме на Ленивке, где она снимала комнату, говорили, что ничего не знают. Уехала – и концы в воду. В общежитии тоже не знали. Подруга Вика сказала, что видела ее последний раз в начале апреля, она говорила об академическом отпуске, после чего провалилась сквозь землю, она ведь с причудами. А после того, что случилось, стала вовсе «таво». Каждый день моталась на Ваганьково, на кладбище. Видели ее в пивной на Пресне с какими-то ярыжками. Да боже мой, теперь можно рассказывать всякие басни! Она исчезла, и все тут. И он стал понемногу освобождаться от нее, но однажды, придя с новым приятелем, румяным, лупоглазым и крикливым книжником Маркушей – впервые увидел его когда-то в квартире Бориса Георгиевича, а потом улица свела, точнее, вот этот пятачок в проезде Художественного познакомил, – и вот, придя с Маркушей на горбатую улочку, тесную от магазинчиков и толпы, где по воскресеньям толкутся книжные барыги, истинные собиратели, пьянчужки, жулики, мелкие игроки в «железку», где все знают Маркушу и Маркуша знает всех, он встретил долговязого Левочку и спросил, не знает ли тот про Наташу. У Левочки было бескровное, тестяное лицо наркомана, голова легонько качалась, к груди он прижимал растрепанный том «Нивы», прося за него сто пятьдесят, недорого. Левочке деньги были нужны срочно.
– Тебе зачем? – спросил Левочка, уставив на Антипова мутный, недобрый глаз.
– Просто интересуюсь, – сказал Антипов. – Помнишь, пианино перетаскивали?
– А? Ну, ну. Просто интересуешься… – ворчал Левочка. – Просто знаешь что бывает… Просто! Ишь ты, тетя Феня… А «Ниву» не желаешь взять? Пятиалтынный?
– Марафет, ты делом отвечай! – закричал Маркуша. – Про Наташу знаешь?
– А ты молчи, тля. Сперва Цвейга отдай…
И Левочка, шлепая галошами, отошел в сторону, ввинтился в кучку книжников с портфелями, не сказал ни «да», ни «нет», забыл, Маркуша к нему подбежал, они шушукались, Левочка мотал длинной серой башкой. Но, когда Антипов, потолкавшись и не найдя того, что нужно – искал Бунина в любом виде, – выбрался из толпы и пошел в сторону Кузнецкого, Левочка свистнул и, быстро шлепая, подошел.
– Постой-ка! Адресок есть. Сам провожал. Вещи тащил…
– Ну?
– Вещи – смех, одна корзинка… Два червонца…
Антипов подсчитал, в кармане было шестнадцать.
Левочка дрожащими пальцами сунул бумажки за пазуху и, глядя в сторону, морща лицо, с ожесточением произнес:
– Черт с тобой: Краснодарский край, станица Лабинская. А больше ничего не знаю, и не спрашивай.
С этого дня затеплилась мысль, даже не мысль, а фантазия, пустая надежда: сесть бы как-нибудь в поезд, пускай в бесплацкартный… Встать перед той, как лист перед травой, внезапно, чтобы ахнула и сказала: «Ты приехал? Молодец. Я рада…» Потому что все, что происходило в его жизни, не имело тайны, какой обладала она, исчезнувшая. И это мучило Антипова, и временами – ночами – сильно. Тайна Сусанны довольно быстро рассеялась, как речной туман поутру: пригрело солнце, и вместо таинственных очертаний видны некрасивые ветлы, старая лодка на берегу, дощатый настил для полоскания белья. В Москве было влажно, душно, лето началось с дождей и жары, все разлетелись кто куда – на практику, в поездки, на дачи, некоторые махнули на юг наудалую, рассчитывая покантоваться и отъесться в богатых колхозах на сборе, например, винограда. И спросить насчет командировки было не у кого. Но Сусанна оставалась в городе, и Антипов, поколебавшись – потому что зачем напускать туману, когда все развиднелось, – отправился в знакомый дом, прихватив по дороге бутылку портвейна «Три семерки» и банку крабов. Боялся, что встретят холодно, не появлялся здесь месяца полтора, но выхода не было. Однако Сусанна изумила опять – вскрикнула радостно, обняла душистыми руками и необмерной грудью, прижалась щекою к щеке, в мгновенном прижатии было прощение неизвестно чего и нечто едва уловимое новое, с оттенком товарищества, что было прекрасно.
– Ты куда пропал, хулиган? – громко, капризно и весело спросила Сусанна и, схватив за руку, потащила в комнату.
За круглым столом, за которым не раз сиживал Антипов, а до Антипова Мирон, а до Мирона еще какие-то товарищи, может быть, даже Борис Георгиевич, теперь сидел черный, коротко стриженный Феликс Гущин и смотрел неулыбчиво, застылым взглядом. Эта застылость не означала ничего плохого, Гущин всегда смотрел так.
– Те же и пропащая душа, Саша Антипов, – сказала Сусанна. – Надеюсь, вы не имеете ничего друг против друга? Или, как теперь говорят, вы м о н т и р у е т е с ь?
– Вполне, – сказал Антипов.
– Мгм, – подтвердил Гущин.
Пожали руки. Гущин был странный тип, держался особняком, был неразговорчив, а если разговаривал, то не о том, о чем говорили все, а о чем-то своем, нелепом. Голос у него был тихий, и он будто совсем не заботился о том, чтобы его слышали и понимали. Писал стихи, вроде бы неплохие, но какие-то несуразные, никчемные, печатать их было нельзя – так говорили ребята из семинара. Кроме того, Гущин занимался боксом, носил на пиджаке значок мастера спорта, но Мирон утверждал, что значок липовый, Гущин не боксер, а визионер, галлюцинирует, воображает себя Метерлинком. Гущин приносил в институт перчатки и после лекций предлагал желающим поучиться боксерским приемам, стойке, ударам, тому, что может пригодиться на улице. Раза два и Антипов соблазнялся на такие уроки, но Мирон его высмеял. Сусанна щебетала, разливая портвейн:
– Чудесно, что вы монтируетесь, слава богу, я устала от несоответствий. Вы все такие особенные, каждый сам по себе, каждый с комплексами. Я думала, только у нас, баб, бывают всякие квипрокво, а теперь вижу… Вижу, вижу! – Хохотала, грозя Антипову и Гущину пальцем, точно уличая в плутовстве. – Вы хуже нас, мальчики! Намного хуже, должна вам сказать! Но все равно люблю вас, дурачков…
И обнаженной рукой то ли шлепала, то ли гладила Гущина по плечу.
– Правда, любишь? – спросил Антипов, закусывая крабом.
– Люблю. Вы как кутята, ей-богу, тычетесь со своими папочками, тетрадочками туда-сюда, как слепые, беспомощные, а вас гоняют. Только и делают, что гоняют, бедных… Ха-ха… Хи-хи, боже мой, грех на вас обижаться… – Прыскала со смеху, на глазах были слезы, и все старалась выгнуться попрямей, выставить горделиво свою шею почтовой марки. Никогда он не видел ее в таком состоянии. – Честно, мальчики, я вас уважаю. Я думаю, какую надо иметь адскую силу воли и несокрушимое честолюбие, чтобы, несмотря ни на что, вопреки всем очевидностям рваться…
Тут Гущин прервал оскорбительную фразу – не нарочно, а потому, что думал про свое, – и произнес:
– Человек должен бояться одного – самого себя. Не так ли? Ты, Саша Антипов, должен бояться Саши Антипова. Вы, Сусанна Владимировна, должны бояться Сусанны Владимировны…
– Что ты мелешь? Остановись! Вздор! – Она чмокнула Гущина в щеку. – С какой стати мне бояться себя? Бояться такой милой, доброй, все еще обаятельной женщины? – И опять хохотала, прыскала, горела пятнами, точила слезы и вытирала глаза пухлым запястьем. Антипов видел, что пришел зря. Все же заговорил: где бы достать командировку? Никого в Москве нет, Ройтек уехал. А командировка нужна смертельно. Сусанна предостерегающе вскинула раскрытую ладонь. – О делах не надо! За деловые разговоры штраф. Антипов, почему ты такой деловой?
«Ну вот, она навеселе, плохо соображает. Не надо было начинать».
– Нет, Антипов, милый, ответь: почему ты такой деловой? А? Приходишь только по делу? – Она дергала его за руку, требовала ответа, а пылавшее лицо ежемгновенно менялось: то улыбалось, то смотрело вдруг неприязненно. – То устраивай тебе Ромку Ройтека, то еще кого-то, то командировку… Всему учи, во всем помогай… А мне надоело, хочу, чтоб меня учили, мне помогали. Нельзя же так, Сашенька, исключительно на деловой почве…
Он краснел и мялся, униженный.
– Почему ты молчишь? Опровергай меня. Скажи: «Дорогая Сусанна Владимировна, это ложь…»
– Да что опровергать… – пробормотал Антипов.
– Вот за это люблю: за то, что честный и простодушный. Такой честненький, простодушненький эгоистик. В тебе много детского. Но ты себя воспитывай, вот бери пример с Феликса. Ему ничего не нужно. Художник и дела – это гадость, это плебейство. Я вас прошу, мальчики, я умоляю, не будьте деловыми… Правда, Феликс?
– Что? – Феликс глядел нездешними очами в пространство между Сусанной и Антиповым и вдруг заговорил стихами: – Когда я был маленький, мне было совсем легко, зимой я ходил в валенках, а летом пил молоко…
Сусанна закрыла глаза. Потом было стихотворение об атомном взрыве, о конце мира. Сусанна, видно, уже слышала эти замечательные стихи, потому что шепотом комментировала:
– Больше всего он боится бомбы… Тотальная смерть… А тут когда…
Антипову стихи показались скучными. Когда он поднялся уходить, Гущин пригласил его во вторник в институт: там пусто, можно в зале позаниматься. Перчатки он принесет.
Сусанна вдруг бросилась уговаривать Антипова остаться, обнимала его могучей рукой за шею и другой рукой, вцепившись в Гущина, тянула того зачем-то из-за стола. Освободиться было непросто. Знакомый душный запах духов одурял Антипова. Она говорила, что не хочет, чтоб они расставались, Антипов и Гущин, пусть они будут оба вместе всегда и во всем, они такие разные и так монтируются. Если сейчас все они расстанутся, будет невероятно глупо. Но Антипов проявил твердость и вырвался на простор прихожей.
Сусанна завязывала на его шее распустившийся галстук и, близко глядя в глаза, негромко, трезво сказала:
– Не огорчайся, командировку мы сделаем. «Молодой колхозник» подойдет?
– Да, – сказал Антипов.
– Вот и хорошо, все будет в порядке. Ты только попроси Бориса Георгиевича, чтобы написал рекомендацию, а мы сделаем письмо. Будь здоров, милый. – Она поцеловала его в щеку. – Не пропадай! – И слегка подтолкнула в спину, когда он шагнул за порог.
Гимназическая подруга тетки Маргариты принесла пакет – дневники погибшего мужа, который в давние времена дружил с Костиным. Надо было Костину передать. Разговор об этом велся давно, но подруга – Татьяна Робертовна, тетка звала ее Таней – была до странности нерешительна, колебалась, мучилась, то готова отдать, то раздумала, и если уж раздумала, то требовала, чтоб Антипов не обронил Борису Георгиевичу ни словечка. Так тянулось зиму, весной Татьяна Робертовна заболела, пролежала в больнице три месяца и теперь решила наконец драгоценность отдать. Почему именно Борису Георгиевичу? Ведь Костин вел себя не вполне безукоризненно по отношению к Мише, то есть к Михаилу Ивановичу Тетерину, мужу Татьяны Робертовны. Они дружили в юности, потом Миша внезапно – после совершенно блестящего успеха «Аквариума» – стал знаменитым, Борис ревновал, произошло охлаждение, а затем случилась трагедия, и Борис проявил себя, ну, скажем, не на сто процентов джентльменом. Антипов ничего об этом не слышал. Разумеется, в литературном мире об этом не знают. Антипов не принадлежит к литературному миру. Он пока еще в предбаннике. Так вот, ничего ужасного Боря Костин не совершил, кроме малости: снял фамилию Миши на общей пьесе, написанной в тридцать четвертом году. Вероятно, так велели. Но все равно Татьяне Робертовне стало невозможно с ним встречаться, он тоже не горел желанием, сначала позванивал, потом оборвал, но какие-то деньги, отчисления за пьесу, переводил почтой. Пьеса патриотическая, она шла во время войны. Сейчас почти не идет. Вот, собственно, вся подоплека, отчего Татьяна Робертовна сомневалась и колебалась. А теперь решилась из-за своего состояния. Тетка Маргарита возразила: какое особенное состояние? Выписали из больницы, вид отличный, не надо на себя наговаривать.
– Я долго не проживу.
– Татьяна! Зачем ты так говоришь? – воскликнула тетка Маргарита сердито и одновременно плаксиво. – Пожалуйста, не говори так. Тем более что неправда.
– Правда. Родственников у меня нет, наследников тоже. Литературный музей брать не хочет. Кому оставить? Жива, правда, первая Мишина жена, но ты ее знаешь, я не могу с ней. Лучше уж Боре. Ведь он не враг, он не предал, просто немного струсил.
Антипов рассматривал невзрачное мелкое личико в мелких морщинках, мелких седоватых кудряшках ошеломленно – видел эту женщину не раз и не знал, что она жена Тетерина. Того самого, о котором он слышал, книги которого пытался достать. Спросил сразу: нет ли чего почитать Михаила Тетерина? Читает он быстро, за ночь книгу. Полная гарантия сохранности и тайны вклада. Татьяна Робертовна собрала все мелкие складочки вокруг сохлого рта, что-то этими складочками томилась выразить, губы пошевелились немного, но так и не раскрылись, молча покачала головой. Тетка Маргарита за нее объяснила: ни одной книги мужа у Татьяны Робертовны не сохранилось. Потом стали вспоминать прошлые годы, гимназию, тетка Маргарита все помнила хорошо и говорила много, а Татьяна Робертовна вставляла слова изредка и невпопад, и все что-нибудь про Мишу. Вдруг рассказала про ту ночь, когда Миша уехал в Ленинград, откуда не вернулся, какой странный сон приснился ей тогда. Будто в Мишином кабинете возле книжных полок стоит коза, надо ее доить, а она боится к козе притронуться. Миша говорит строго: «Ты должна научиться. Это крайне важно». У него была любимая фраза: «Это крайне важно». Но зачем же, боже мой? Я не хочу! Я не могу! «Нет, ты можешь, ты будешь. Это необходимо для жизни». И вдруг она слышит, как коза шепчет: «Совсем просто. Как на швейной машине. Я вас научу». Тут она проснулась от непонятного страха. На другой день он не позвонил ни утром, ни вечером, она сама позвонила друзьям, и они сказали, что он уехал к кому-то на дачу, в деревню Козино. Когда услышала «Козино», сердце оборвалось – поняла, что непременно что-то случится. Друзья разговаривали весело, ни о чем не догадывались, а она уже дрожала. Два дня места себе не находила, не было ни звонков, ни телеграмм, потом помчалась в Ленинград и там узнала. Вот еще почему никогда Борису не простит – ему позвонили из Ленинграда в тот же день и обиняками дали понять. Так что он знал. Но ей сказать побоялся. И она металась в неизвестности, хотя, если бы он сказал, если б она узнала, если б не потеряла три дня, разве что-нибудь изменилось бы? Ничего, разумеется. Удар ужаса пришелся бы на три дня раньше. Н о в с е р а в н о о б я з а н б ы л е й с к а з а т ь. Потом женщины заговорили о болезнях и о ком-то, кто лечит травами.
Антипов ушел в комнатку, где спал, когда приходил к тетке, и лег на диван. В комнатке стоял сладковатый запах сухой лаванды. Тетка говорила, от моли. Антипов думал о Борисе Георгиевиче с жалостью. Он забыл, что должен к нему поехать и просить насчет командировки. А когда вспомнил и вышел в большую комнату, Татьяны Робертовны не было.
– Мы думали, ты лег спать. Поэтому Таня не попрощалась, – сказала тетка. – Знаешь, Таня решила так: она дневники пока что забрала. Ты сначала спроси, согласится ли он их взять. Ведь он может не согласиться, ты понимаешь? Зачем же тогда нести?
– Хорошо, – сказал Антипов. – Я спрошу. А если он скажет «да» и она опять раздумает?
– Несчастная Таня! – вздохнула тетка Маргарита и слабо махнула рукой. – Чего ты от нее требуешь…
Жарким воскресным днем Антипов спрыгнул с подножки вагона на дощатый перрон, вокруг был лес, пахло хвоей, сиял и стрекотал июльский полдень, пассажиры с сумками и рюкзаками тянулись тропкой на бугор, подъем был крутой, женщины останавливались. Антипов шел налегке, он взял поклажу у одной старухи и еще сумку у молодой женщины, которая все смеялась и что-то рассказывала. Дорога шла лесом мимо озера. Было жарко. В озере плескалось много людей, несколько лодок скрипело уключинами. Местечко было чудесное. Старуха сказала, что она дошла, – кланялась и говорила: «Дай вам бог! Дай вам бог!» – и это относилось к Антипову и к молодой женщине. Антипов отдал старухе ее авоську, набитую коробками спичек и буханками хлеба. Молодая женщина обо всем говорила со смехом. «Меня зовут Гортензия, – говорила она, смеясь. – Можно просто Тезя». Она была в очках, со светлыми волосами. Спина красная от загара, в веснушках. Гортензия ничуть не стесняла Антипова. Вообще он заметил, что в последнее время перестал стесняться и конфузиться по пустякам. И даже теперь, когда шел к Костину незваный, с просьбой, он, как ни странно, не испытывал никакой неловкости – уж очень хотелось поехать и найти в Краснодарском крае Наташу. Гортензия остановилась и сказала: «Как жарко! Не хотите искупаться?» Он сказал: «Нет, сейчас не хочу. На обратном пути». Гортензия взяла у него сумку, вышла на солнцепек и сразу стала снимать сарафан. Она была широкая в кости, с длинными ногами. Волосы были как пакля. Может быть, она красилась. А может, они казались такими белыми на солнце. Не сняв очков, побежала в воду, плюхнулась и поплыла, держа голову высоко. Антипов смотрел на нее и вспоминал Наташу. Он вспоминал Наташу даже тогда, когда думал о другом. Через полчаса стоял перед калиткой в глухом заборе, нажимал кнопку звонка, слышал лай пса, потом женщина крикнула:
– Борис, ты кого-нибудь ждешь?
Прошло долгое время, прежде чем к калитке подошли, тот же голос спросил:
– Кто здесь?
Антипов назвался.
– А! Здравствуйте. Вы с Борисом Георгиевичем договаривались?
– Нет, – сказал Антипов. – Но я на минуту…
– Проходите. Только прошу вас, Антипов… – Она зашептала: – В самом деле, не засиживайтесь, хорошо? Вы извините, что говорю откровенно, без церемоний, но мы свои люди, правда же? У Бориса Георгиевича неважное состояние, не хочу его утомлять. И не говорите с ним о неприятном.
– То есть?
– Ну о разных статьях, газетах и прочем.
Антипов не имел понятия, о чем идет речь, но сказал: хорошо. Борис Георгиевич встретил радушно, сели на терраске, на теневой стороне. В большом доме были еще две терраски, внизу, и на втором этаже, но они принадлежали другим людям, тоже писателям. Одного писателя Антипов видел, в синих шароварах он расхаживал по дорожке, держа руки за спиной, в глубоком раздумье. Какой-то парень, видимо, сын писателя, возился с велосипедом, поставив его колесами вверх. Борис Георгиевич расспрашивал про студентов: кто что делает, куда уехал, что написал, интересовался, конечно, своими любимцами. Антипов рассказывал: Толя Квашнин устроился на лето в редакцию, отвечает на письма, Володька Гусельщиков уехал на Белое море, Элла тоже куда-то уехала. А Злата печатает в «Вечерке» театральные рецензии под псевдонимом Златникова. Дима Хомутович издал в Детгизе книжку сказок.
– Вот как? – спросил Борис Георгиевич как бы с удивлением и поднял бровь. Нет, он не выглядел больным или чем-то подавленным, наоборот, вид имел гораздо лучше, чем в городе: загорелый, улыбающийся, хотя немного сонный, все зевал и потягивался. Холщовый занавес на терраске надувался и хлопал, ветер был жаркий, пахло флоксами. Валентина Петровна принесла стакан морса и бутерброд с кусочками колбасы. Колбаса показалась Антипову замечательной. Копченая, три маленьких твердых кусочка. Он уже собрался сказать Борису Георгиевичу насчет командировки и рекомендации – минута была удачная, Валентина Петровна вышла, а ему не хотелось ни о чем просить при ней, – но Борис Георгиевич вдруг наклонился и вполголоса спросил:
– «Литературку» читали? Я и не знал, что я скрытый декадент. Только молчок, при Валентине Петровне ни слова! Она переживает…
Валентина Петровна вернулась, неся стакан морса и еще один бутерброд с колбасой. Борис Георгиевич взял бутерброд, стал вяло жевать.
– Борис, это было для гостя. Как вам нравится? – Она засмеялась, но за другим бутербродом не пошла, села к столу и стала обмахиваться веером. Все шло хорошо. Антипов рассказывал о новостях, о том о сем, о болезни директора, о том, что с сентября приедут корейцы и албанцы, успел сказать про «Молодой колхозник», намекнуть на рекомендацию, и Борис Георгиевич кивал благожелательно и говорил «ну да! ну да!», вдруг Валентина Петровна ни с того, ни с сего с неожиданным напором сама заговорила о запретном:
– Я не понимаю, у вас такой благостный разговор, а между тем творится бог знает что. Как вы объясняете появление таких статей, как эта, против Бориса Георгиевича? Что это значит?
– Валя! – В лице Бориса Георгиевича мелькнул испуг.
– Вы не в курсе? Ну как же, в «Литгазете» статья некоего Правденко – разумеется, псевдоним, но мы предполагаем, кто за ним скрылся, – о последней мемуарной книге Бориса Георгиевича…
– Валя, я прошу! – Борис Георгиевич взял жену за плечи и твердым шагом увел с террасы в комнату. Закрыв дверь, вернулся и сел в свое кресло. Стал выколачивать трубку. Но дверь слегка отворилась, в щели показалось побледневшее, с блестящими глазами лицо Валентины Петровны.
– Этот человек бывал у нас дома! Я поражаюсь бесстыдству людей! – Дверь захлопнулась.
– Не обращайте внимания… – пробормотал Борис Георгиевич. Мотая головой и мыча, как от боли, он стал ходить по терраске, забыв про Антипова и повторяя: – Не обращайте, не надо.
Он ходил долго, а Антипов не знал, что ему предпринять. Напоминать про рекомендацию было некстати. Обождать хотя бы минут десять. Чтоб не сидеть молча, заговорил, о чем просила Татьяна Робертовна: насчет дневников. Не согласится ли Борис Георгиевич взять?
Борис Георгиевич перестал ходить и уставил голубые выпуклые глаза на Антипова с изумлением.
– Вы о ком?
– О Татьяне Робертовне.
– О жене Миши Тетерина, что ли?
– Ну да.
– Да вы-то при чем?
– Я вам рассказывал, вы не слышали. Моя тетка Маргарита Ивановна училась с нею в гимназии…
– А! Понимаю.
С неожиданной стороны раздался голос Валентины Петровны, она почему-то оказалась в саду и стояла теперь внизу, возле террасы:
– Не надо брать никаких бумаг.
– Ну почему, собственно…
– Повторяю, брать не надо.
В ее голосе звенела нервность. Борис Георгиевич сопел трубкой, обдумывая. Было похоже, что оба в молчании решают какую-то сложную задачу. Антипов вдруг почуял: в воздухе этого дома и сада что-то переменилось. Так меняется ветер, и внезапно среди теплого дня пахнет севером. Он отчетливо понял, что прежнего разговора не будет и что эти люди х о т я т, ч т о б ы о н у ш е л. И тотчас он встал, попрощался, что-то путано объяснил насчет того, что опаздывает, и пошел поспешно к калитке, вовсе забыв про рекомендацию для «Молодого колхозника». Борис Георгиевич молча провожал до калитки и, открыв щеколду, сказал:
– Передайте, что я не понимаю задачи с этими дневниками. Пусть Татьяна Робертовна позвонит и сама скажет, чего хочет. Я немножко знаю Татьяну Робертовну и поэтому и проявляю осмотрительность. Будьте здоровы!
Он поклонился. Все было другое – и лицо, и взгляд. Пройдя несколько шагов, Антипов вспомнил про рекомендацию, но возвращаться было невозможно. Он затронул что-то недозволенное, и все разрушилось. «Черт меня знает, – думал Антипов, – обязательно влипну в чужую историю. Это какой-то рок – влипать в чужие истории. Ладно, обойдусь». Он возвращался на станцию прежней дорогой, мимо озера, и увидел беловолосую Гортензию на том месте, где они расстались; рядом на песке сидела под зонтиком девочка лет четырех, тоже в очках. И волосы у девочки были как пакля. Антипов остановился возле них, колебался: купаться или нет? Было как-то не до того. Попусту потерял день. И, кроме того, он страшно проголодался. Однако предвечерний зной томил так сильно, что он все же быстро разделся, побежал по горячему песку и прыгнул в воду. Вода била прохладная, наверно, тут был ключ, в воде плавали кусочки глины и отломившийся от берега дерн. Гортензия что-то кричала с берега, махала руками, но он не мог разобрать и без очков ничего не видел – туманное, облитое солнцем, телесного цвета пятно. Он стал медленно нырять, потом поплавал на спине, лежал недвижно, раскинув в стороны руки и ноги, и думал: если бы научиться не влипать в чужие истории. Ведь он чуял, что с дневниками дело неладно. Недаром она колебалась. Что-то ее останавливало. А он по дурацкому простодушию или, лучше сказать, по дурацкой беспечности ничего не понял, позволил собой манипулировать, вот и влип. Когда снова взглянул на берег, увидел, что Гортензия все еще машет руками – туманное пятно верхним краем дрожало. Он подплыл ближе, Гортензия кричала: «Дождь! Дождь! Уходите!» Он и не заметил, как надвинулась туча. Где-то поблизости уже гремело. Гортензия собирала вещи, схватила зачем-то его рубашку и брюки, а его попросила взять на руки девочку. Дождь хлынул внезапно и мощно. Мальчишки бесновались на середине озера, гикая, хохоча, но все, кто был на берегу, кинулись спасаться под навес дощатого павильончика или под деревья, которыми была обсажена дорога. Бежать без очков с девочкой на руках было непросто. Девочка начала плакать, ее мама в купальнике с багровой спиной и розовыми ногами неслась вперед, как физкультурница, и смеялась. Взбежали по крыльцу на застекленную верандочку. Гортензия была тоже без очков, улыбалась бессмысленно, волосы облепили голову, она походила на мальчишку. Гроза кипела. Все за окном стало белым, как в метель. С треском и гулом грохотал ливень, молнии раскалывали округу. Девочка вдруг запрыгала, закричала, стала хлопать в ладоши, мать схватила ее и убежала в комнату. Антипов сидел в трусах на чужой веранде, оглушенный шумом воды, и думал: опять? Влезаю постепенно в историю? Он просидел так довольно долго, гроза неспешно удалялась, ливень стихал, и Гортензия вышла в байковом халатике, причесанная, в очках и вся розовая, пылающая, как видно, здорово обгорела сегодня; по-деловому спросила: «Кушать будем?» Он сказал: да. Поели котлет с помидорами и огурцами, выпили по стаканчику вишневой наливки, стало хорошо, весело, пили чай. Гортензия рассказывала о своей жизни: она работала сестрой в железнодорожной поликлинике, девчонка на неделе в саду, мужа нет, подрабатывает вязаньем, у нее тут много клиенток среди дачниц. Все это сообщалось со смехом. Антипов чувствовал, что может позволить себе с этой женщиной многое, но она ему как-то не нравилась. Хотя она была красивая, белокурая, со спортивной фигурой, такие женщины ему в принципе нравились… Но в ней было что-то не то. Подъехал мотоцикл, затопали по крыльцу, вошли двое, один белобрысый, широкий, с пологими плечами и без шеи, как медведь, спросил: «Это что за какашка тут сидит? Возьми-ка его!» Второй взял Антипова за руку и с силой дернул из-за стола. Гортензия закричала, белобрысый втолкнул ее в комнату, запер дверь, Антипов успел подумать: «Ну, вот… – и почувствовал удар под ребра, отчего исчезло дыхание, затмилось все, кроме догадки: – Это, наверно…» Еще был удар в ухо, коленом в лицо, потащили, толкнули с крыльца, и он растянулся на мокрой земле. Белобрысый кричал: «Т ы, к а к а ш к а, еще раз тебя застану, поедешь отсюда на катафалке!» Антипов не мог шевельнуться, из носа и губы текла кровь, но в сознании блеснула мысль: рассказ под названием «Ц е п ь». Ведь началось с того, что он предложил женщине понести сумку. Разумеется, надо все усложнить, цепь событий должна быть длинной, может быть, в несколько дней и даже лет, герой может на женщине жениться… Дыхание возвращалось, Антипов сел и огляделся, ничего подходящего вокруг не было. Он выворотил из земли замшелый кирпич и встал, покачиваясь. Ну, например, так: герой убивает кирпичом соперника, любовника этой женщины, белобрысую сволочь. Нет, не годится. Это на поверхности. Антипов отбросил кирпич. Ноги держали плохо. Дверь веранды распахнулась, появился белобрысый и крикнул: «Земляк, извини! Я думал, ты Николай. Поди сюда, товарищ, ударь меня в ухо по справедливости».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































