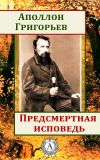Читать книгу "Зимний скорый. Хроника советской эпохи"

Автор книги: Захар Оскотский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Он взглянул на часы: шесть вечера. Через час закроется ее магазин, еще через полчаса она вернется домой. Сердце гулко заколотилось. А что такого, в конце концов, если он ей позвонит?..
Почта помещалась в деревянном домике. К телефону-автомату выстроилась очередь. Все хмуро слушали, как мужчина в кабинке громко бранит дочь, судя по всему провалившуюся на экзаменах в медицинский институт: «Я тебе говорил, в технический надо идти!»
Григорьев сразу решил, что в такой обстановке разговаривать не станет, сейчас же уйдет. Но не ушел, остался обреченно стоять. Старался не слышать, о чем говорят сменявшиеся в кабинке люди, словно надеялся, что тогда и другие не будут подслушивать его самого.
Когда настала его очередь, он шагнул в тесную кабинку, бросил в автомат пятнадцатикопеечную монету и быстро, боясь, что струсит, накрутил номер. Ответили сразу, после первого гудка. Чужой, недовольный женский голос произнес: «Алло!» Он испугался было, что не туда попал, но тут же догадался: это соседка. Деревянно выдавил из пересохшего горла:
– Стеллу, пожалуйста!
Там, в Ленинграде, хлопнула трубка о столик. Сердце билось так сильно, что удары отдавались в животе, в ногах. Он слушал потрескивание и шорох разрядов в сорокакилометровой линии. И вдруг, электрическим уколом – в ухо, в мозг, в похолодевшее сердце – вонзился тоненький, встревоженный голосок Стеллы:
– Я слушаю!
Он с трудом назвал себя и услышал, как она облегченно засмеялась:
– А, это ты! Что так долго не звонил?
Он оттаял немного от ее дружелюбного смеха и торопливо заговорил, что вот, он не в городе, а в доме отдыха, в Зеленогорске. Словно находился здесь не третий день, а уже бог знает сколько времени, и именно это было объяснением, почему он давно не объявлялся. Говорил негромко, чтобы очередь за дверью кабинки не услышала. Казалось, от этого его голос приобретает скрытую силу и доверительность.
– Везе-ет же тебе! – с шутливой завистью протянула Стелла. – Как будто специально для тебя и погода установилась!
– Конечно. По моему заказу, – негромко посмеивался он, сам себе удивляясь: как легко он с ней разговаривает, свободно, иронично. Так, как всегда хотел и не мог говорить с девушками.
– У вас там хорошо-о, наверное, на заливе?
– Конечно! Купаемся, в волейбол играем!
– А у нас в городе ду-ушно так. Я ведь тоже в отпуске, а еще и не загорала толком.
– В отпуске?.. – у него спазмой сдавило горло, и следующие, главные слова, которые готовился произнести легко и небрежно, он выговорил прерывающимся голосом: – Ну так приехала бы ко мне…
– В Зеленогорск? – спросила она. – Далеко очень. Целый день уйдет.
– Вот на целый день и приезжай!
Он молил сразу и о том, чтобы она не поняла его игру, и о том, чтобы поняла и откликнулась. За дверью кабинки слушала нетерпеливая очередь, но ему было уже всё равно.
Стелла молчала несколько секунд, а когда наконец ответила, голос ее звучал уже по-другому, растерянно:
– Когда?
– Приезжай завтра утром!
– Ну что ты… Сейчас вечер уже. Как это вдруг я все дела брошу…
– Приезжай! – требовал он, почувствовав какую-то, еще непонятную самому, власть над ней. – Приезжай… а то погода испортится!
Она пыталась что-то возразить.
– Я буду тебя встречать на зеленогорском вокзале с десяти часов! – объявил он. – Всe электрички буду встречать подряд, слышишь?!
– Да, – отозвалась Стелла. – Я слышу. Да, хорошо…
С горящим лицом, весь в поту, он выскочил из душной кабинки и пролетел мимо растянувшейся до самого выхода очереди, словно прорвался сквозь натянутую проволочную сеть раздраженных и любопытствующих взглядов.
Возбужденный, он спал в эту ночь совсем беспокойно. Поднялся рано. Как мог, вымылся над раковиной. Тщательно побрился. Неужели ЭТО случится с ним сегодня?.. Рассматривал себя в зеркале над умывальником и огорчался слишком юному виду: мальчишка мальчишкой! Хмурился, взглядывал исподлобья, стараясь найти более взрослое выражение лица.
На площадке под окном раздражающе стучали о щит кольца. Возле нарисованного мужика с волком, козой и капустой, как всегда, громко спорили отдыхающие.
Вдруг он ужаснулся: а если Димка обо всем узнает?! Но то, что владело им, то, что подгоняло его сейчас, было сильнее дружбы с Димкой…
Электрички из Ленинграда приходили на зеленогорский вокзал через каждые пятнадцать-двадцать минут. Пассажиры высыпали на платформу, текли мимо него потоком, редели, исчезали. Стеллы всё не было. И времени как будто не было: он не замечал его, электрички подъезжали словно одна за другой. Почему-то он был уверен, что Стелла опоздает, но в конце концов появится обязательно. А кроме этой уверенности не осталось никаких отчетливых мыслей, и даже волнения не осталось – только звенящее напряжение.
И когда, наконец, он увидел Стеллу в очередном потоке приехавших, – скорее угадав, чем разглядев ее маленькую фигурку в мелькании чужих людей, – асфальт платформы неожиданно вздыбился под ногами, а солнечный мир на мгновение потемнел и накренился. Должно быть, кроме возбуждения, сказалась почти бессонная ночь.
Он не испугался. Он только переждал секунду, пока головокружение пройдет, и двинулся навстречу, никого, кроме Стеллы, перед собой не замечая и странным образом ни с кем не сталкиваясь.
Она улыбнулась ему – снисходительно, как всегда, – но сверхчутьем он уловил в ее выпуклых темно-зеленых глазах тревожные искорки, подобие испуга. В самой улыбке, от которой растягивались ее слишком большие для маленького личика губы и сильней выступала нижняя, раздвоенная, было сейчас нечто беззащитное. И вся она, невысокая, в свободном легком платьице, скрадывавшем фигурку, с открытыми, незагорелыми, молочно-белыми нежными плечами, казалась трогательно некрасивой и остро, как никогда, желанной.
Вместо приветствия она сняла с плеча и протянула ему свою модную «аэрофлотовскую» сумку на длинном ремешке:
– На, понеси!
Он молча взял.
– Вот, – сказала она, – все-таки приехала. Бросила всё – и на вокзал. – Она засмеялась и вдруг произнесла странную фразу, на которую он почему-то не обратил тогда внимания: – Думаю, надо повидаться, а то и не увидимся потом…
Они пошли рядом. Пошли молча. В том состоянии, в каком он находился, он не смог бы поддерживать не только остроумный, но вообще какой бы то ни было разговор. Да это оказалось и ненужным: сейчас молчание не разъединяло, а соединяло их. При ходьбе он то и дело нечаянно прикасался своим горячим локтем к ее руке, ощущая удивительную, нежную прохладу ее кожи.
Когда остановились возле его корпуса и он сказал: «Пойдем ко мне!», она немного удивилась:
– Мы разве не на пляж?
– Пойдем, – говорил он, – посмотришь мой номер.
Не отвечая, она смотрела куда-то в сторону. А он повторял, повторял, уже ничего не соображая:
– Пойдем, пойдем, посмотришь, как я живу.
В конце концов, словно от толчка, он повернулся и сам направился к дверям корпуса. И тогда – всем слухом и осязанием – уловил за спиной ее замедленные, шаркающие, как будто обреченные шажки…
Она не сказала ни слова, пока поднималась вслед за ним по лестнице. И только в номере, когда, пропустив ее, он поспешно закрыл за собою дверь и стал возиться с ключом, запирая непослушный замок, раздался ее странно изменившийся голос:
– Что ты делаешь? Зачем ты это делаешь? – монотонно говорила она.
Потом он пытался ее поцеловать, упрашивая «Стелла, Стелла, пожалуйста!», а она уклонялась, уклонялась. Это походило на странную, изнурительную борьбу, в которой оба противника боятся по-настоящему задеть друг друга: попытки сближения, легкие отстранения, вялое отталкивание. И одновременное сонное бормотанье: «Стелла, Стелла, пожалуйста!» – «Ну зачем ты это делаешь?»
Он умоляюще вцепился в край ее платья, стал тащить вверх. – «Что ты делаешь?..» – но голос ее уже дрожал. И вдруг, она протяжно вздохнула и вскинула руки. Он даже замер на миг, не сразу догадавшись, что она помогает ему. Под платьем на ней оказался пестрый тугой купальник. Она сказала, словно извиняясь:
– Я думала, мы прямо на пляж пойдем…
Он не помнил, как они оба разделись, как он расстелил кровать. Всё совершилось само собой, стремительно, как удар молнии: его ослепила белизна ее тела (резко, страшно выделялись темные волосы внизу), а в следующее мгновение они уже легли. Стелла привлекла его к себе, он ощутил ее быстрые щекочущие пальцы и вдруг с изумлением («Неужели правда?!») почувствовал себя в ней. А она больно впилась ему в губы и, сковав своими неожиданно сильными ногами, стала двигаться, двигаться сама, в каком-то отчаянном нетерпении, ему оставалось только подчиняться. Она вдавливала, вталкивала его в себя, в темное, горячее, влажное, тайное, при каждом броске тела слегка обжигая наслаждением. Но только – слегка, он не терял рассудка, всё сознавал. Он даже слышал, как раздражающе скрипит металлическая сетка кровати, как неприятно сильно колотится собственное сердце. Неужели это и есть то самое? Это – и всё?! Только это?!
Его изумляло поведение Стеллы: ее лицо, искаженное словно в муках, зажмуренные глаза, то, как она отрывала от его занемевших губ свой яростный рот, чтобы застонать. Значит, она чувствует всё неизмеримо сильнее? Чувствует нечто необыкновенное, чего он не может с ней разделить?..
Его пронзила жаркая, долгая, освобождающая судорога. Расслабленный, он уткнулся лицом во влажную подмышку Стеллы, остро пахнувшую потом. Благодарность и нежность оказались сильней испытанного разочарования, принесли умиротворение, даже ощущение счастья. Но тут же он испугался: что, если будет ребенок?!
А она тоже опамятовалась и оттолкнула его:
– Пусти-ка! Пусти!
Слезла с кровати, прошлепала босыми пяточками к умывальнику, открыла воду. Вдруг испуганно прикрикнула:
– Не смотри!
Он и не пытался смотреть. Он лежал лицом к стене, слушая, как льется вода из крана, звонко плещет то в раковину, то на пол.
– Весь пол залила, – раздосадованно сообщила Стелла. – Ну ничего, линолеум, высохнет.
Пробежала назад. Сказала:
– Подвинься!
И снова привалилась к нему в тесноте скрипучей кровати. Он ощутил ее грудь, мокрый живот, мокрые волосы внизу, всё еще пугающие своим прикосновением, и мокрые до самых пальчиков, до царапающих ноготков, такие маленькие и такие сильные ноги.
Поцеловал ее. Заговорил было о том, что влюбился в нее сразу, как только увидел впервые осенью шестьдесят третьего. Но быстро сбился и замолчал под ее взглядом. Сдвинув уголком маленькие бровки, остроносенькая, похожая на сердитую птичку, она странно всматривалась ему в лицо своими выпуклыми, темно-блестящими глазами.
– Женя, – сказала она. – Женя. Надо же, имя тебе дали девчоночье!.. – Неожиданно ткнула его пальцем куда-то под ключицу: – Вон какой след тебе оставила, сама не заметила. На пляж теперь не выйдешь. Хотя, вы, мальчишки, такими пятнами любите хвастаться.
И вдруг, закинув лицо к потолку, громко сказала с восторженным ужасом:
– Какая же я дрянь! Господи, какая дрянь!
– Почему?!
– Да разве можно было мне с тобой? Совсем я с ума сошла!
– Давай поженимся.
– Ой, не смеши меня! Дурачок. Да я на семь лет тебя старше!
– На шесть с половиной!
– Мало, что ли?
– Шекспир тоже женился в восемнадцать лет, и жена была на шесть лет старше.
Стелла расхохоталась:
– Ты что – Шекспир?
– И у Наполеона жена была на шесть лет старше.
– Ой, не могу! Ты что – Наполеон?
Она заливалась смехом.
– А если будет ребенок? – спросил он.
Должно быть, слишком явно в голосе его прозвучал испуг. Стелла перестала смеяться. Сказала раздраженно:
– Успокойся ты, не будет никакого ребенка! Что же я – дурочка, не знаю, когда мне надо беречься, когда нет?
И вдруг посерьезнела:
– Вот что, мы с тобой больше не увидимся. Ты за мной не ходи и не звони мне, слышишь!
– Почему?!
– Потому! Игра есть такая детская: «Первый раз прощается, второй раз – запрещается!» Играл в нее маленький?
– Я тебя люблю.
– Перестань! – строго сказала она и зажала ему рот ладошкой. – Молчи, ничего не говори сейчас!
Несколько секунд они в упор смотрели друг другу в глаза. Неожиданно Стелла взяла его за плечи и сдавила так, что ногти больно вонзились ему в тело.
– Ты что?! – вскрикнул он.
А у нее странно искривился рот, затуманился взгляд, опустились веки. Она опять трудно застонала, медлительно и сильно охватывая его и вбирая в себя…
Вечером, когда он провожал ее на вокзал, Стелла вновь повторяла:
– Не ходи за мной больше! Не ходи и не звони, понял?!
Он ничего не понимал, но боялся возражать ей, чтобы не рассердить. Он еще не мог свыкнуться с мыслью, что всё уже произошло и завершается так нелепо обыденно. А Стелла вдруг начала расспрашивать его о какой-то ерунде, вроде того, хорошо ли кормят в доме отдыха. И в голосе ее звучали прежние, взрослые, покровительственные нотки. Он что-то отвечал. Его опустошенное тело было неприятно невесомым, ватным. Болела голова. Стыдно было признаться самому себе, но больше всего хотелось, чтобы Стелла поскорей уехала.
Электричка на Ленинград отходила почти пустая. Стелла уселась в вагоне у окна и, когда поезд тронулся, помахала рукой и улыбнулась ему сквозь стекло своей обычной, снисходительной улыбкой.
Он наконец-то остался один на безлюдной платформе. Но облегчение не наступило. Его даже подташнивало слегка от усталости, разочарования и стыда.
Думал, что в эту ночь опять не сможет заснуть, а заснул, как убитый. Проснулся утром, один в номере, со странным чувством: свершилось, я – мужчина. Кажется, с этого дня солнце должно было по-другому светить.
Лежал на пляже, читал, с достоинством покуривал, ни на кого не глядя. Словно играл сам перед собой. Пока не начал понимать: ничего не изменилось! Смятение не исчезло с его обращением в мужчину. Значит, то, что ему казалось телесным томлением, было на самом деле чем-то иным?
Он вспоминал слова Стеллы о том, что не увидит ее больше. И теперь хотелось увидеть ее немедленно. Не затем, чтобы повторилось вчерашнее, а словно потому, что с ее помощью он мог добиться какой-то ясности в себе самом.
Ритуальный поход за газетами не принес облегчения. Даже новости из Вьетнама сейчас не волновали. С охапкой нераскрытых газет пошел было на пляж. На полдороге остановился. Потом решительно направился назад, на почту.
Снова выстоял очередь к телефонной кабинке. Бросил монету, с колотящимся сердцем набрал номер. Когда ответили, спросил Стеллу. Подошла, как видно, Александра Петровна:
– А кто ее спрашивает?
Он с трудом назвался.
– А зачем она тебе?
Григорьев промямлил что-то насчет посылки для Димки, посоветоваться.
– Уехала она. К подружке, на дачу.
– А когда вернется?
– Кто ее знает! – вдруг зло сказала мать. – Через три дня, через неделю.
Вышел из домика почты, заметался, не зная, чем себя занять. Хотелось курить. Вспомнил, что оставил сигареты в номере на тумбочке… Стелла приедет через неделю, и ему в этом доме отдыха маяться еще целую неделю. Как прожить эти дни, когда он не знает, что с собой делать? Состояние такое, словно хочется вырваться – из этого залитого солнцем и заплывшего самодовольством мира отдыхающих, из самого себя… Вырваться? Куда?
6
Опять сквозь шум аэропорта донесся голос дикторши. Какой-то рейс откладывается на два часа. Другой рейс. Слава богу – другой! Даже представить было тяжело, что может случиться, если его рейс сейчас отложат и прощанье с Алей затянется – до утомления, до повторения одних и тех же слов. Аля в конце концов уехала бы из «Пулково», а он остался бы, привязанный, слоняться из угла в угол и уже нестерпимо, как освобождения, ждать вылета. Господи, только бы не сорвалось! Только бы всё кончилось по-человечески: чтобы ОН сейчас улетел, а ОНА – осталась.
Аля ждала его ответа. Хочет уйти. И для этого ей понадобилось приехать проводить его. Затеять на прощанье разговор, сыграть мучительную нервную мелодию и разойтись с последним аккордом, с медленно затихающим басовым гулом душевной боли. И ведь не из любви к мучительству или самоистязанию это ей необходимо, а чтобы ощутить завершенность. Пусть будет так, как ей хочется.
Ты еще наивна, Аля! Ты думаешь, мне больно? Конечно, больно. Ну и что? Я в другом возрасте. Это не преимущество, я просто в другом времени. Так у Брэдбери встречаются и беседуют марсиане из разных эпох, бесплотные друг для друга.
Конечно, опыт не приходит с возрастом, а тот, что приходит, ничего не стоит. Ум – подавно не приходит. Но что-то накапливается, подобное иммунитету. Или просто мертвеет. Ты думаешь, что наносишь мне рану? Теперь мои раны заживают всё скорей. Раскрылся кровоточащий разрез – и тут же стянулся, покрылся бугристой коричневой коркой. Вот и она растрескалась и слетела, а под ней – не розово-нежная обновленная плоть, но всё та же темная, грубая, старая кожа…
Он пожал плечами. Сказал:
– Почему? Я не думаю, что ты виновата.
Внизу подкатил очередной ярко-желтый «Икарус-городской». Хорошая машина, только двигатель уж слишком приемистый. С места берет таким рывком, что стоящие пассажиры валятся. «Всё, перешедшее за меру, превращается в собственную противоположность!» Так отец любил повторять, раньше, когда бывал весел, выпивал и шутил. Уверял, что это – самый главный закон диалектики. Где он его услышал, на каких политзанятиях?
Хотелось еще закурить, но нужно было перетерпеть. Нельзя курить следующую сигарету раньше, чем через два часа: забивает бронхи. Вздохнешь – и сразу неприятно чувствуешь в груди, вверху эту шершавую копоть.
Аля осеклась, смотрела на него сбоку. Не могла понять, больно ему или нет. Да больно, больно же! Оттого, что ты уходишь. И оттого, что еще двадцать минут надо провести с тобой, говорить о чем-то. И голова болит, никак не удается выспаться. И впереди бессонная ночь, а за ней, с ходу – первый, суматошный завтрашний день на заводе. И послезавтра…
Впрочем, послезавтра тебя уже не будет со мной, Аля. Хоть одна боль уйдет.
В том августе 1965-го, вернувшись из дома отдыха, он еще дважды звонил Стелле. Первый раз подошла она сама. Сразу узнала его голос, испугалась, и даже не заговорила, а забормотала – быстро-быстро и тихо, видно, боясь, чтобы там, рядом с ней, не услышали:
– Я не могу сейчас говорить, ты не звони, больше не звони, я тебе сама потом позвоню, честное слово! – и бросила трубку.
Но она не могла ему позвонить, в новой квартире у него не было телефона. (Отец носил на телефонную станцию ходатайство с завода: мол, старшему мастеру по работе необходима постоянная связь, просим ускорить подключение. На станции над его бумагой только посмеялись, очередь там была лет на пять.)
Григорьев мучался с неделю и в конце концов уверил себя: Стелла чем-то была взволнована, позабыла, что теперь у него телефона нет, а когда успокоится и вспомнит, сама же расстроится. Значит, ничего страшного не случится, если он позвонит ей еще раз. Это даже необходимо!
Позвонил вечером из уличного телефона-автомата. Сердце колотилось под самым горлом, еще сильней, чем на почте в Зеленогорске.
Трубку взяла Александра Петровна, и, едва он выдавил «Стеллу позовите, пожалуйста…», вдруг закричала, – конечно, не узнав его, – закричала с неожиданной яростью, непонятно к кому обращенной, но значит, и к нему тоже, словно охлестывая его по лицу:
– Всё звоните?! Успокоиться не можете?! Нету Стеллы! Уехала! Через три года звоните!! – и бухнула трубку.
Он долго стоял в телефонной будке с горящим лицом…
Через месяц отозвалось в димкином письме: «А ты, наверно, и не знаешь, Стелка дуреха завербовалась к своему хахалю на север. Не было меня, я бы ей мозги куриные прочистил».
Но это была уже лишняя, даже ненужная ясность. Главное он понял тогда, в конце августа, когда темным вечером ходил по своей пустынной улице новостроек: Стеллы больше не будет. Стелла не поможет ему.
И всё же, оказалось, в чем-то она ему помогла, сделав его мужчиной. Она защитила его от других девушек. Их тайна, тягучая, темная, раскрылась и предстала такой же простой, как их тела. Она защитила его от всех. Кроме Нины.
Он понял свою обреченность в первый же день занятий после каникул, едва только снова увидел Нину, еще издалека. Увидел, как она осторожно проносит себя сквозь студенческую толпу, чуть изменившаяся от летнего загара и оттого нестерпимо красивая (неужели остальные этого не видят?!). Ее точно приближало к нему болезненной оптикой. Он видел, что ее глаза на посмуглевшем лице стали еще больше и светлей. Как раз тогда у девушек было модным по-восточному удлинять очи, проводить черные, синие, даже зеленые стрелочки от уголков глаз к вискам. А Нина только подкрашивала ресницы черной тушью, так что они – длинные, гордые, каждая ресничка отдельно от остальных, – трогательно подчеркивали влажную голубизну взгляда.
И накатившую эпоху мини-юбок она тоже не замечала. На ней всегда были длинные, строгие платья, простые, но казавшиеся ему царственными. Взрослая богиня шла среди суетливых девчонок с голыми коленками.
Однажды в самом начале сентября, в летнюю еще духоту, в маленькой нагретой солнцем аудитории, он как всегда примостился позади и чуть сбоку от Нины. Она была в легком платье без рукавов и сидела за столом, раздвинув локти, как обычно сидят девушки, когда им жарко. Он быстрыми, воровскими взглядами ласкал ее профиль, ее гладкое смуглое плечо. И вдруг, – он даже вздрогнул от увиденного и опустил глаза, – он заметил волосы, выбивающиеся у нее из-под мышки…
То было потрясение. Конечно, он сознавал, что, при всей своей божественности, Нина – обыкновенная земная девушка. Но эти тайные темно-русые завитки, чуть блестевшие от пота, делали ее уж слишком земной, уравнивали с той же Стеллой… От таких мыслей голова шла кругом.
Пугаясь, он пытался представить Нину на месте Стеллы в «Морском прибое» – обнаженную, раскрытую, в судорожных движениях, с безумным лицом. Но ничего не получалось, его воображение оказывалось бессильно. Он понимал: это оттого, что Нина – в чем-то главном – совсем иная, не такая как Стелла. И чувство, которое он испытывает к Нине, – другое. Но ведь он тоже – земной. Стало быть, конечная цель его чувств, пусть он даже боится думать об этом, всё равно та же: он хочет, чтобы Нина физически принадлежала ему. Или с Ниной этого будет мало?
Так что же это было, похожее на удушье? Наверное, действительно любовь. Та самая, «настоящая», по измерениям Али. И значит, если бы Стелла не уехала, он предал бы ее тогда? Значит, и от предательства она его оберегла?
Ах, этот возраст, восемнадцать-девятнадцать лет, когда, кажется, ты мал и беззащитно открыт, а внешний мир фокусируется и течет сквозь тебя мощнейшими пульсирующими токами! Бежали, перекрещиваясь, институтские «эскалаторы» – второй курс, теормех, сопромат, веселая толкучка студенческих потоков в дверях амфитеатров-аудиторий, резкий запах аммиака и уксусной кислоты в химических лабораториях, строевая подготовка в асфальтовых внутренних двориках на глазах смеющихся девушек.
И – Нина, Нина… С расстояния почти в двадцать лет так жаль того мальчика, что брел после занятий по улицам, оглушенный и раздавленный любовью. Быть может, любовь вообще неестественное состояние для человека? Естественно то, что дает свободу. А любовь не просто стесняет, она – обезличивает. Как одно и то же заболевание вызывает у самых разных людей одинаковое повышение температуры, одинаковый кашель, одинаковую ломоту в суставах, так и любовь вызывает одни и те же болезненные симптомы, одни и те же бессмысленные действия.
Он тоже исполнил тогда весь набор глупостей очумевшего от любви мальчишки. Началось, конечно, с писем, горячечных и рабских (адрес ее он подсмотрел в журнале группы). Он писал письма по ночам. Бросал в почтовый ящик утром, по дороге в институт, невыспавшийся и разбитый. Через несколько дней – по смятению Нины при его появлении в аудитории, по тому, как испуганно прятала она глаза, – догадывался с ужасом, что она получила письмо, что это, конечно, ничего не изменит, лишь оттолкнет ее окончательно, что теперь уже всё погибло! А через несколько дней писал следующее…
Болезнь, которой он сдался, неумолимо управляла им по своим законам. И на смену отчаянию от унижения следующей стадией явилась решимость отчаяния. Готовность унижаться взахлеб, не стыдясь. Если раньше в аудиториях он старался сесть неподалеку от Нины как бы случайно, то теперь занимал место рядом с ней, почти не скрываясь, а во время занятий почти в открытую на нее смотрел.
Однокурсники сперва посмеивались над ним, потом притихли. Сверхчутьем, особенно обострившимся в эту пору, он улавливал даже сочувствие парней и еще нечто странное, что-то вроде их недоумения: как можно любить именно Нину? Такое сочувствие не вызывало благодарности, скорей бесило: неужели они не видят, какая она?!
Всё, что он проделывал месяц за месяцем, было абсолютно лишено расчета. Не надеялся же он, что она полюбит его за все эти выходки! Но оказалось, в бессмысленной, бредовой ненормальности, распаляемой жаром любви-болезни, была своя логика, которую он и не сознавал. Нескончаемым безрассудством он расшатывал ее величественное спокойствие. Она должна была бы резко отогнать его прочь, но, коль скоро у нее, деликатной, нежной, не хватило на это решимости, ей не оставалось ничего другого, как терпеть его.
Вначале – только терпеть, беспокойно и пугливо. А затем – всё более к нему привыкая. Он становился для нее ПРИВЫЧНЫМ и, значит, мог понемногу приближаться к ней.
О, какое то было счастье! Неповторимое девятнадцатилетнее счастье, когда грудь раздувается от восторга, как воздушный шар, – вот-вот взлетишь, – и движения невесомы! Она не любила его, она лишь относилась к нему снисходительно, как к чему-то неизбежному, – пусть! Он переживал время потрясающих открытий.
Какое это было чудо – сидеть на лекциях уже не в стороне, а рядом с ней, за одним столом, в такой головокружительной близости, что можно было наслаждаться, тайком втягивая в себя с дыханием овевавший ее теплый, чуть горьковатый аромат, а скосив глаза, замечать на носу и на щеках ее трогательные до восторга золотисто-белые пылинки пудры!
Каким чудом было провожать ее каждый день после занятий, а после того, как она дружески и чуть насмешливо прощалась с ним у своего дома, плыть дальше по улицам, взлетая и опускаясь на волнах счастья.
У них само собой (вслух об этом не было произнесено ни слова) установилось нечто вроде негласных правил, которые он обязан был соблюдать. Его писем к ней, тех, ночных, как бы не существовало никогда, и больше писать ей он не имел права. Тем более, он не мог сказать ей в лицо о своей любви и не смел дотронуться даже до ее руки. Ему позволялось идти рядом, говорить о чем-то, что не касалось их двоих, – и только.
Он был на всё согласен и за всё благодарен. Шагая рядом с ним, она почти всегда молчала. Пусть! Он говорил сам, говорил, кажется, обо всем на свете, боясь замолкнуть, боясь, что ей станет скучно с ним. Наверное, то было самое лучшее время его любви…
Годы имеют свой цвет и контур. Тот период – конец 1965-го, начало 1966 года – остался в памяти чистым, серо-стальным, прямолинейным, словно из новеньких металлических конструкций. Вo главе страны – три скромнейших и как бы равноправных между собой руководителя: Косыгин, Брежнев и Подгорный. Общий настрой – спокойствие и деловитость. На долгожданном сентябрьском пленуме раздались призывные слова: «Реформа», «Хозяйственная реформа», «Экономическая реформа»! Они зазвучали по радио и с телевизионных экранов, замелькали в газетах, расплескались во множестве книг и брошюр, стремительно докатились до институтских аудиторий. Аккордами в мелодии выделялись: «Хозрасчет», «Инициатива», «Фонды предприятий». Положения реформы, понятные, убедительные, они заучивали к экзамену, как математические правила.
Одно смущало: если всё так очевидно, если реформа, как говорят, переход к нормальной хозяйственной жизни, то какого дьявола почти пятьдесят лет жили ненормально и мучались?!.. Хотя, это было лишнее свидетельство того, как повезло им самим. Время по-прежнему работало на их поколение, первое поколение будущего. Реформа должна была завершиться к концу шестидесятых – началу семидесятых. Как раз тогда, когда они закончат учебу и придут на обновленные заводы, в перестроившиеся НИИ, чтобы с самого начала работать без нелепых стеснений, в полную силу.
Еще выходили, появлялись на прилавках и в библиотеках новые книги о культе личности, о поражениях начала войны, репрессиях, лагерях, но всё реже, реже, словно иссякая. Нигде не сказанное вслух, как бы носилось в воздухе и негромко звучало: «Хватит откровений об ужасах сталинизма! Прошлое не сплошь черно, да и думать сейчас нужно – о будущем. Не копаться в старых, засохших ранах, а трудиться, трудиться!» Звучало – и не вызывало внутреннего протеста.
Кольнул какой-то нелепый, крикливый судебный процесс над двумя никому не известными писателями – Даниэлем и Синявским. Конечно, натворили дел: придумывали черт знает какие гадости, вроде того, что в Советском Союзе объявляются дни разрешенных убийств, издевались над нашей жизнью, тайком переправляли всё это на Запад и там печатали. Ну глупо, ну подло. Но всё же – зачем поднимать такой шум? Зачем сажать их, как уголовников? Выгнали бы на этот самый Запад, раз они туда так тянутся, и забыли про них!
Читать статьи о процессе было тяжело. Причины газетной злобы, ее глубинный смысл, до конца были непонятны. Вспоминалось из детства: нечто подобное они ощущали, когда читали книжки о «русском первенстве», о том как братья Райт украли идею самолета у Можайского.
Но вот же, в те самые дни, когда судили и проклинали хулиганов-писателей, советская автоматическая станция впервые в истории совершила мягкую посадку на Луну. Значит, в остальном, в главном, всё идет нормально, раз мы по-прежнему впереди?
И тут же – горе: умер Королев. Только теперь узнали его фамилию, а прежде, сколько ни писали про него, называли по должности: «Главный Конструктор космической техники». Ни имени, ни одной черточки внешности, безымянный человек-невидимка. И вот его фотографии – на первых полосах, в черной рамке.
А настоящие тревоги приходили извне. Там, за крепкими рубежами страны, буйствовал безумный мир. Газеты и радио захлебывались от событий. Бои в джунглях Южного Вьетнама и непрерывные налеты на Северный. Ежедневный, всё растущий итог общего числа сбитых самолетов: пятьсот, семьсот, девятьсот… Хоть понемногу это становилось привычным, не так бурно воспринималось, как в первые месяцы, всё же в воздухе, которым дышали, непрерывно ощущался жар и слышались громовые раскаты недальней этой войны.
Ошеломили события, грянувшие в Индонезии. Кажется, только вчера одной из самых популярных мелодий была песенка о ней: «Тебя лучи ласкают жаркие, тебя цветы одели яркие, и пальмы стройные раскинулись по берегам твоим! Ты красот полна. В сердце – ты одна…» Под эту песенку в недавние годы плыли на экранчике телевизора и пальмы, и прибой у цветущих берегов, и смеющиеся, счастливые темные лица наших друзей индонезийцев. И вдруг – чудовищный взрыв! Писали о резне коммунистов, о СОТНЯХ ТЫСЯЧ изрубленных трупов, плывущих по тропическим рекам, покрасневшим от крови. Как же так?!..