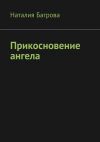Текст книги "Дагестанская сага. Книга II"

Автор книги: Жанна Абуева
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Воскресенье – день веселья,
Песни слышатся кругом,
С добрым утром, с добрым утром
И с хорошим днём!
Воскресное радио, с самого утра настраивая людей на весёлое, приподнятое настроение, как бы заявляло в неофициальной форме: «Отдыхайте и радуйтесь, дорогие товарищи! Всё в нашей стране спокойно!»
Одна бодрая песня сменялась другой, и люди, сами того не замечая, настраивались на благодушную волну, хотя само по себе благодушие это было для них столь же привычным, что и небо над головой.
Как-то так получилось, что песни в Советском Союзе играли в жизни людей воистину колоссальную роль. Под них люди трудились, влюблялись и женились, под них рождались и старились, под них же воевали и побеждали – либо умирали.
Песни имелись на все случаи жизни, и не было в стране такой профессии, которую не воспели бы соответствующей песней. Лётчики и журналисты, монтажники и геологи, таксисты и милиционеры, врачи и учителя, танкисты и артиллеристы, ткачихи и рыбачки, школьники и студенты, ну и, конечно, пионеры и комсомольцы – никто не был обойдён вниманием! Были песни о ребятах и девчатах, ровесниках и ровесницах, даже о воде и водовозе, без которых, как выяснилось, «и ни туды, и ни сюды». А уж песни о Родине могли соревноваться по количеству лишь с песнями о любви – и тех, и других было в достатке. Именно на них воспитывался советский народ, который, наравне с остальными нациями, представляли и дагестанцы, также в свою очередь слагавшие песни о горянках и горных дорогах, о Тарки-Тау и Буйнакске и, конечно же, о любви.
Слагались песни и в честь советских столиц. Тбилиси и Ташкент, Баку и Кишинёв, Киев и Ереван, не говоря уже о Москве и Ленинграде, всячески прославлялись в песнях именитых и не очень композиторов, распевались и профессиональными певцами, и народом.
* * *
Имран взял несколько аккордов и остановился, весь уйдя в мелодию, ещё с ночи звучавшую в его голове. Но при всём своём желании он не мог облечь ее в нотные знаки по причине полного их незнания, а потому прислушивался напряжённо к этой мелодии, возникшей нежданно где-то внутри него и властно звучавшей в нём, выплескиваясь наружу и требуя, чтобы он, Имран, воспроизвёл её тут же на пианино.
Клавиши поддавались его пальцам легко и охотно, и музыка заполнила весь дом и вырвалась, наконец, из раскрытых окон на тихую буйнакскую улицу, доносясь до соседей и случайных прохожих.
Имран был счастлив. Мелодия, звучавшая внутри него, была нежной и искрящейся, словно разлетающиеся брызги молодых ручейков, и, когда она зазвучала под его руками, ему сразу же сделалось легко и радостно на душе, как будто он сумел выполнить то, что должен был. Такое уже не раз с ним бывало, когда, наполненный музыкой, он испытывал потребность в переложении ее на клавиши. Потом она звучала для всех окружавших его людей, и они тоже радовались вместе с Имраном, наслаждаясь его игрой и восхищаясь его голосом, дарованным ему какими-то высшими силами.
Так он и жил – в перерывах между работой – со своей музыкой и со своими песнями, в окружении семьи и многочисленных друзей, приятелей и женщин, среди которых неизменно была какая-нибудь одна, кому он на тот момент посвящал всего себя.
Он даже не задумывался ни о какой другой жизни, довольствуясь этой и живя в своё удовольствие. Зачем мечтать о несбыточном, думал Имран, когда вот оно всё, здесь рядом. Жизнь у человека одна, и надо её проживать в своё удовольствие. Конечно, нужно работать, но и от души наслаждаться жизнью, в которой есть любовь, музыка, друзья, женщины и деньги!
О том, чтобы как-то официально заявить о своих песнях, он не думал. Потом, когда-нибудь, успеется ещё, а пока он щедро дарил их своему Буйнакску – городу его души и сердца.
Жизнь была бы совсем хороша, если бы не вечно укоряющий взгляд жены. Взгляд этот смотрел на него так, будто хотел запечатлеться в его сердце, а в другой раз и вовсе пронзал кинжальной остротой, отчего ему становилось не по себе. Чаще, однако, Фарида смотрела на него с обидой, и взгляд её был так глубок и выразителен, что внутри у него всё сжималось, и он скорее удалялся в свою фотомастерскую, чтобы там, среди чёрно-белых изображений знакомых и незнакомых людей, отвлечься от этого грустного и щемяще-укоряющего взгляда женщины, которую он по-своему любил и к которой всегда возвращался.
Практически у всех его друзей были, помимо жён, и другие женщины. Не далее как вчера близкий его друг Борис Темирханов со смехом, в котором сквозил, правда, и лёгкий оттенок смущения, описывал приятелям сцену, которую ему закатила супруга Ляля, каким-то образом прознавшая о его бурном романе с молоденькой паспортисткой Зарипат.
– Но зато Кусум, моя тёща, – вот где настоящий друг! Всё ходит вокруг и бормочет себе под нос: «Отказ, Борис, совсем отказ!» Ну, то есть чтобы я ни в коем случае не признавался!
Выждав, пока утихнет смех, Борис продолжал:
– Я своей внушаю: «Лялечка, это всё болтовня, ты не верь всяким глупым хабарам…», а она всё равно верит!
– Интересно, с чего бы это ей вдруг верить? – насмешливо произнёс Нариман, хозяин дома, видный молодой мужчина, единственный в их компании, кто не поторопился с женитьбой.
– Вот и я говорю! – сказал ему в тон Борис. – Эти женщины что угодно готовы себе вообразить!
– Хорошо тебе, Нариман! – сказал Абакар. – Свободен, как птица, ни перед кем не отчитываешься и не оправдываешься, а только живёшь в своё удовольствие! Эх, и чего я так быстро женился, дурак!
– Так ты же не сам женился, а родители тебя женили! – ответил Нариман. – У нас ведь как в Дагестане: после двадцати пяти холостым оставаться ни – ни! Что люди скажут?
– Это точно! – поддержали его вразнобой остальные. – У нас всё делается с оглядкой на людей! Не кури, не пей, не гуляй, а то люди будут осуждать… А какие люди! Те же, что и мы, не больше и не меньше!
– Самое интересное, – сказал Имран, – что люди обычно у других всё замечают, а своё всё скрывают.
– Наверное, нигде больше такого нет, как у нас в Буйнакске, где всем до всего есть дело! – поддержал его Абакар.
– Это потому, что город у нас маленький и все друг друга знают… так же, как и друг про друга! С одной стороны, это, конечно, хорошо, но с другой – очень даже плохо!
– Точно! – с чувством произнёс Нариман, наливая водку в стоявшие на столе рюмки. – По этому поводу назрел очередной тост. Предлагаю выпить за то, чтобы все люди занимались своими делами и не совали нос в дела чужие!
Мужчины, чокнувшись, выпили и принялись за лежавшую на столе закуску – хлеб, сыр, помидоры, зелень и жареное мясо.
– А теперь предлагаю персональный тост за тёщу Бориса, мудрейшую Кусум! – провозгласил Абакар. – Ну-ка, Борис, повтори ещё раз, как она там говорила?
– «Отказ, Борис, совсем отказ!» – скопировал свою тёщу Борис, и мужчины снова расхохотались дружно и весело.
Глава 15Осторожно держа в руках запеленутый свёрток, из которого едва выглядывало маленькое личико, Разия-ханум испытала неизъяснимое волнение, внутри её что-то задрожало и перевернулось.
Этот ребёнок принадлежал ей, и он был одной с нею крови. Бог послал ей девочку, которая должна была быть её племянницей, а стала дочерью. После трёх месяцев грудного вскармливания Саният отдала ей свою дочку Зарему, и Разияханум, с горячностью возблагодарив её за это, обещала создать чудесную жизнь для девочки, равно как не оставить без внимания и остальных племянников.
Она и в самом деле намеревалась сделать для этой девочки всё, что было в её силах. Разумеется, с помощью мужа, без которого это было немыслимо, поскольку сама она денег не зарабатывала, зато умело их тратила, при этом успевая ещё и откладывать на «чёрный день». Ювелирное дело приносило Саидбеку солидный доход, заказы поступали не только из Дагестана, но и из других кавказских республик, и всё, что зарабатывал, он отдавал жене.
И сейчас, вглядываясь взволнованно в крохотное личико и судорожно прижимая к себе малютку, Разия-ханум прошептала с трепетным и прежде не свойственным ей вдохновением: «Ты будешь моей принцессой!»
* * *
– С чего это вдруг твои родители решили взять себе ребёнка?
Вопрос мужа застал Фариду врасплох, и она, растерявшись, молчала несколько мгновений, прежде чем сумела ответить:
– Не знаю… Заскучали, должно быть!
– А что, наши дети уже не считаются? Разве они не внуки твоему отцу?
Оставив без ответа риторический вопрос Имрана, Фарида опустила глаза, чтобы муж не заметил, как они наполнились слезами, ведь ей и самой поступок Саидбека был непонятен и обиден.
Они сидели на веранде, увитой виноградом, посаженным ещё Ансаром, и говорили совсем о другом, и вот Имран вдруг задал этот вопрос, и Фарида, и без того чрезвычайно взволнованная новостью, не знала, что ему ответить. Она действительно не знала.
Айша, понимая смятение своей любимой «жалин», как она ласково называла невестку, сделала сыну знак не касаться больше данной темы. Она была очень привязана к Фариде и, жалея её, не знавшую с ранних лет материнской ласки, старалась как можно больше проявлять по отношению к ней заботы и понимания.
С другой стороны, как женщина, она понимала Разию, судьбою обделённую материнством, понимала её страстное желание иметь ребёнка. «Лишь бы это ничего не испортило», – думала про себя Айша.
Глава 16Кинотеатр «Ударник» находился прямо в центре города, на главной площади, носившей имя вождя пролетариата, и, будучи средоточием всех явок и договоренностей, неофициально являл собою главную точку Буйнакска, где горожане встречались, общались и влюблялись.
На самом верху один советский вождь сменялся другим, и генсеки, в соответствии с традициями жанра, интриговали, предавали, устраняли друг друга, и дагестанская власть в лице Даниялова уже сменилась на Умаханова, а «Ударник» по-прежнему стоял безмятежно в самом центре Буйнакска, собирая в своей прохладной полутьме мирных обывателей, спешащих после работы на премьеру очередного шедевра советского или мирового кинематографа, не говоря уже о молодёжи, для которой «Ударник» в качестве места встречи составлял немаловажную часть существования.
Позади кинотеатра, который до того, как стать кинотеатром, был главным городским храмом – Андреевским военным собором, раскинулся один из многочисленных городских скверов, вокруг располагались различные городские учреждения, а сама площадь Ленина, хотя небольшая, но вполне уютная, спокойно вмещала в себя парады и демонстрации, неизменно проходившие в городе 7 ноября, 1 Мая и в День Победы.
«Из всех искусств для нас важнейшим является кино»… Плакат с ленинскими словами, размещавшийся по правую сторону от большого экрана, неустанно напоминал зрителям о том, что кино – не просто зрелище, а самое что ни на есть искусство, которое должно принадлежать людям, нести им знания и, конечно же, воспитывать. Оно и воспитывало, демонстрируя лучшие образцы отечественного и мирового кинематографа. Неумолимые, неподкупные тётки у входа в кинозал ни под каким видом не пропускали тех несчастливцев, кому ещё не исполнилось шестнадцати – возраста, когда, по мнению советской цензуры, уже было можно смотреть на целующихся героев. Непристойные сцены нещадно вырезались из фильмов, а поцелуи, насколько это было возможно, носили целомудренный характер, и все знали, что поцелуи на самом-то деле актёрами просто имитируются.
Итак, «Ударник» с его историей и носимой в народные массы культурой был всё же признан непригодным, а посему городские власти, не особо вдаваясь в разъяснения, приняли решение его снести, напомнив жителям о том, что в городе имеются ещё два других кинотеатра.
Но старинное здание никак не желало разрушаться. Его толстые стены, возведённые ещё в прошлом веке, содрогаясь под мощными ударами техники, долго сопротивлялись, прежде чем рухнуть окончательно, подмяв под собою целую эпоху и превратившись в огромную кучу строительного мусора.
Известие о сносе «Ударника» шокировало всех жителей бывшей дагестанской столицы. Люди, столпившиеся перед обломками бывшего их любимца, искренне о нём горевали, хотя городская площадь стала отныне гораздо шире и просторней.
Вместе с «Ударником» ушло из жизни что-то родное и привычное, хотя буйнакцы и продолжали смотреть фильмы в двух других кинотеатрах города, не обладавших, увы, тем домашним уютом, который был свойствен «Ударнику».
Жизнь в городе продолжалась, и бывшая Сталинская, а ныне Ленинская улица, как и прежде, была вечерами полна горожан, степенно прохаживавшихся вверх и вниз и дружелюбно приветствовавших друг друга.
В середине улицы, утопая в зелени тополей, располагалось здание главной школы города, естественно, носившей имя вождя пролетариата и славившейся в том числе тем, что когда-то, на заре нового столетия, в её стенах – бывшей женской гимназии – училась Тату Булач, вошедшая в историю Дагестана как невеста пламенного революционера Уллубия Буйнакского, в честь которого и был назван город. Переписка Буйнакского и Тату Булач, опубликованная в советской печати, была для большинства дагестанцев эталоном подлинного большевистского чувства, способного одержать моральную победу над любой контрреволюцей.
Здание, в котором была позднее размещена школа имени Ленина, старинное и весьма солидное, являло собою образец дореволюционного зодчества, присущего большинству провинциальных российских городов. Подобные здания, облицованные красным кирпичом, с парадным крыльцом и, естественно, с «чёрным» ходом имелись во всех городах российской глубинки, ну, разве что не на всех из них могло красоваться написанное белой краской и огромными печатными буквами слово «Света». Десятилетия сменялись одно за другим, а «Света» всё продолжала гордо сиять на левой стороне школьного фасада, напоминая прохожим о том, что в среднем учебном заведении дети не только учатся, но и влюбляются.
Глава 17– Ахмедов, может, хватит паясничать?!
Татьяна Николаевна громыхнула по столу длинной указкой, и тридцать четыре пары глаз уставились на это грозное орудие. Татьяна Николаевна активно использовала его в процессе обучения и воспитания подрастающего поколения, а сейчас оно угрожающе нависло над головой непоседы.
Татьяна Николаевна Ломакина, приехав молоденькой девушкой в середине 30-х годов в Дагестан на похороны своего деда Андрея Савельича Ломакина, биолога по профессии и по призванию, настолько поглощённого селекционными процессами кавказской флоры, что не сразу заметившего происходившие в стране исторические преобразования, совершенно неожиданно для себя так и осталась жить в маленьком зелёном городке, где жизнь ухитрялась одновременно бить ключом и быть настолько провинциальной, что дальше, казалось, уже было некуда.
Единственное, что умела делать Татьяна Николаевна, – это учить детей. Она все силы и время отдавала этому, как она говорила, тяжёлому ремеслу, из-за чего и осталась в конце концов старой девой. Жизнь шла мимо неё под сводки фронтовых известий, под звуки «Рио-риты» и аргентинского танго, песни Утёсова и Шульженко, под бодрые речи о строительстве коммунизма, а Татьяна Николаевна видела перед собою лишь классную доску да горы ученических тетрадок. В них, разлинованных и в клеточку, она толстым красным карандашом исправляла грамматические и арифметические погрешности своих подопечных и выставляла посреди тетрадного листа большую жирную двойку, а чаще – единицу. Чем выше была отметка, тем она в исполнении Татьяны Николаевны была меньше размером, а уж пятёрки и вовсе выходили у неё крохотными, словно жаль было ей тратить на них свой красный карандаш.
Детей она не любила. То есть любила, конечно, но лишь примерных да покладистых, тех, что сидели смирно и не шевелились, а только смотрели на неё преданным взглядом, ловя каждое слово и в точности затем его повторяя.
А всякие там озорники, сорванцы и непоседы, которых, увы, было гораздо больше, бесили её так, что она с наслаждением выводила в их дневниках огромные единицы, а то и пускала в ход свою знаменитую длиннющую указку, которая легко дотягивалась до четырёх передних парт, позволяя её хозяйке не покидать учительского стула.
Ахмедов был самым несносным из учеников вверенного ей класса. Подвижный, худощавый, с неправильными чертами лица и глазами цвета предгрозового неба, он и минуты не мог усидеть спокойно за партой, то и дело вертясь вправо и влево, вперёд да назад. Его присутствие, где бы он ни находился, неизменно сопровождалось визгом и хихиканьем, возгласами и воплями, розыгрышами и потасовками. На любой другой взгляд, это составляло большую часть его мальчишеского обаяния, но Татьяну Николаевну такое обаяние только коробило, и все озорные выходки мальчишки приводили её в состояние, близкое к бешенству в том его понимании, когда оно, это бешенство, потихоньку расползается внутри человека, будто наполняя его расплавленным свинцом, который бурлящей лавой вот-вот изрыгнется наружу. И тогда кипящая лава несётся, сметая всё на своём пути.
Именно так и бывало с яростью Татьяны Николаевны. И сколько бы добрейшая Ольга Михайловна Жданова, неизменный завуч их школы, ни пыталась размягчить эту непримиримую ярость своей коллеги добрыми советами и увещеваниями, эти попытки неизменно разбивались о твёрдую непреклонность упрямо сдвинутых бровей Ломакиной, свято верившей, что таких хулиганов, как Ахмедов и ему подобные, следует изолировать от других учеников, содержа их если не в каменном колодце, то хотя бы в чём-то похожем на карцер.
Вот и сейчас, заметив, что этот негодник то и дело ёрзает, не в силах усидеть спокойно несчастные сорок пять минут, отводимые государством на школьный урок, Татьяна Николаевна, грозно сдвинув реденькие, неопределённого цвета брови, вскричала:
– Ахмедов!!! До чего ж ты надоел своим бесконечным ёрзаньем!
Мальчишка вскинул на учительницу глаза и спросил с деланным удивлением, которое у него выработалось в процессе общения с Ломакиной:
– А что я сделал?
– Ничего не сделал! В том-то и дело, что ничего… А только вертишься всё да кривляешься, как клоун в цирке!
– Я не клоун! – с недетским достоинством произнёс мальчуган.
– Да клоун и есть! – злобно воскликнула Татьяна Николаевна.
– А вы не обзывайтесь! – В голосе мальчика прозвучала обида, разбавленная нотками угрозы.
– А то что?
– А ничего! Не обзывайтесь, и всё!
– Ишь, гордый какой нашёлся! Будет он мне ещё указывать!
Здесь Татьяна Николаевна, спохватившись, что дело идёт к концу урока, а новый материал ещё до конца не объяснён, хлопнула по столу указкой и сказала:
– Продолжаем!
* * *
Арсен поддел ногой лянгу и ловко стал подбрасывать её в воздух. Пацаны, сгрудившиеся на школьном дворе, неотрывно смотрели, как маленький клочок овечьей шерсти с приклеенным к нему свинцовым брусочком, подбрасываемый ногой их друга, прыгает вверх и вниз, никак не желая падать на землю, и хором подсчитывали число подбрасываний, пока, наконец, не устали прежде самого Арсена. На счёте «пятьдесят один» зрители издали единый усталый вздох и прекратили счёт.
Когда лянга подскочила вверх и опустилась на ногу Арсена в шестидесятый раз, пацаны воскликнули хором:
– Ну, ладно, всё! Давайте в футбол, а то перемена уже кончается!
Трудно было найти более несхожих между собой братьев, чем Шамиль и Арсен. Добродушный и благоразумный Шамиль, унаследовавший от своей матери Фариды выдержку и дипломатичность, был любимцем всех школьных учителей, они с удовольствием ставили его в пример другим, менее воспитанным ученикам. Он хорошо и ровно учился, был всегда готов к уроку, обещая в будущем стать тем самым активистом, какими так славился советский строй, растивший достойных членов общества в лице сначала пионера, потом комсомольца, а затем и коммуниста.
Арсен был другим. Он был как сгусток энергии, не знавшей, куда себя направить, и готовой направить себя куда угодно, только не в школу. Здесь ему не нравилось, да и не везло. В школе его лишь ругали, не было учителя, который сумел бы разглядеть в мальчике личность неординарную, не вписывавшуюся в условные рамки, отведённые среднестатистическому советскому школьнику. И Арсен, не понятый и не признанный своими воспитателями, платил им той же монетой, с нетерпением подстёгивая тот вожделенный день, когда он сможет покинуть эту ненавистную школу.
* * *
Из коридора в учительскую, заполненную педагогами, большей частью пожилыми, доносился приглушённый гомон ребячьих голосов.
Привычно прижимая к груди кипу ученических тетрадок, Татьяна Николаевна выговаривала что-то внимательно слушавшей её Ольге Михайловне, и раздражение, сквозившее в её голосе, перекрывало приглушенные дверью децибелы школьной перемены.
– Надо что-то делать с этим Ахмедовым! – говорила Татьяна Николаевна. – Так дальше продолжаться не может. Если он сейчас себя так ведёт, то что будет потом, в старших классах?!
– Милая, уважаемая Татьяна Николаевна! – Мягкий голос Ольги Михайловны безотказно и успокаивающе воздействовал на любого её собеседника, начиная с отъявленного хулигана и кончая недовольным чем-то родителем. – Ну что он делает такого, этот Ахмедов, что вызывает у вас столь бурную реакцию? Ну, шалунишка, ну, озорник, но не хулиган ведь! Его семья…
– Вот именно, Ольга Михайловна, его семья! Достаточно уважаемая и известная в городе, весьма приличные родители, а сын их просто маленький невоспитанный грубиян! У меня такое впечатление, что они им вообще не занимаются!
– Ну-ну, Татьяна Николаевна, не говорите так! Фарида Саидбековна – очень уважаемый человек, трудится на общей с нами стезе, в педагогическом училище, а уж Имран Ансарович так и вообще душа нашего города! И вы это и сами знаете не хуже меня!
– Да уж знаю, знаю! Просто никак не могу сладить с этим… с этим мальчишкой!
– А вы попробуйте к нему с душой! Я уверена, что всё выправится, если с душой… Постарайтесь, прошу вас!
Ольга Михайловна подняла взгляд на большие часы, висевшие над дверью учительской, и, пригладив без всякой надобности свои аккуратно собранные в пучок ярко-рыжие волосы, устремилась к расписанию. Проходя мимо стола, за которым расположилась со своими картами и атласами преподаватель географии Тереза Мансуровна, завуч обратилась к ней озабоченно:
– Сейчас ведь ваш урок у моего Сашки?
– Да, Ольга Михайловна.
– Пожалуйста, опросите его, да построже!
– Ладно, Ольга Михайловна, я его хорошенько погоняю! – улыбнулась Тереза Мансуровна.
– Вот-вот, милая, именно погоняйте!
Сказав так, Жданова повернулась к физику Костикову:
– Не возражаете, Николай Сергеевич, если посещу ваше занятие?
– Что вы, что вы, уважаемая Ольга Михайловна, буду только рад! Милости прошу!
Костиков пропустил завуча вперёд, и они вышли из учительской одновременно с пронзительно-весёлым школьным звонком.
Родители Ольги Михайловны Ждановой происходили из небольшого села на Рязанщине. В конце 30-х годов отец её решительно перебрался в Москву, прихватив с собой жену и детей и справедливо полагая, что лучше ухватиться за любую работу в Москве, чем умереть с голоду у себя на родине. «Любая» работа подвернулась не сразу, и Михаилу пришлось долго мыкаться, прежде чем он устроился в одну из бригад «Метростроя». Работа была тяжёлой, однако Михаил Муравьёв не роптал, а, напротив, был доволен, что может не только добывать хлеб для своей Пелагеюшки и сына с дочкой, но и способствовать своим трудом, как им сказал начальник, будущим удобствам в смысле передвижения граждан по городу.
Дочь Ольга по окончании учительских курсов, в свою очередь, принялась обучать грамоте работниц, в том числе и возраста своей матери Пелагеи. Но вскоре, собрав свой нехитрый гардероб, отправилась на далёкий и загадочный Кавказ, влекомая романтическими рассказами классиков и лингвистическими выкладками Павла Сергеевича Жданова, преподававшего ей на курсах русскую словесность. Очарованный её свежим крестьянским личиком в обрамлении ярко-золотых волос, он после недолгих раздумий предложил ей стать его женой и разделить с ним приятные тяготы его временного пребывания на Кавказе.
Ольга Михайловна, также недолго думая, согласилась, увлечённая лучистым взглядом синих глаз Павла Сергеевича, сияние которых не приглушали даже толстые линзы очков, а главное – движимая благородной идеей нести разумное, доброе и вечное неграмотным, полудиким горцам, которые в её воображении жили в лошадиных сёдлах, размахивали кинжалами и говорили что-то на своём гортанном татарском наречии.
Временное, как полагал Павел Сергеевич, путешествие обернулось постоянным проживанием, а дикие, необузданные горцы оказались весьма воспитанными, пусть не на западный, а на восточный манер, и, кроме того, чрезвычайно любознательными людьми, имеющими своё понятие о чести, свои традиции и свою древнюю культуру, в том числе и языковую. И получилось так, что приезжие русские учили местных жителей, а дагестанцы учили приезжих русских, в результате чего и те, и другие прониклись друг к другу взаимной симпатией, уважением и пониманием.
И единственный сын Ждановых, Сашка, родившийся уже в Буйнакске, вполне естественно относил себя к дагестанцам, не чувствуя никакого различия между собой и двумя десятками своих друзей, живших в этом живописном краю.
Он даже успел несколько раз влюбиться: сначала в детском саду в кумычку Барият, потом, в третьем классе, в лачку Атикат и, наконец, в седьмом, когда ему запала в душу Хадижка, соседская девочка-аварка, неожиданно превратившаяся из маленького бесёнка в белолицую красавицу с аккуратно заплетённой длинной, чёрной косой. Данное обстоятельство, впрочем, никак не мешало ему то и дело посматривать в сторону Наташи Золотарёвой, хорошенькой русоголовой дочки их школьной докторши.
Любя сына до самозабвения, Ольга Михайловна старалась всё же держать его под строгим родительским надзором и полагала, что Буйнакск Буйнакском, а знания, которых она от него требовала, всё же должны ему помочь не затеряться на широких просторах Союза Советских Социалистических Республик.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!