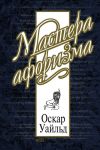Текст книги "Наоборот"

Автор книги: Жорис Гюисманс
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
V
В это же время, когда особенно обострилось желание дез Эссента забыть эту ненавистную эпоху мерзких рож, более властно заговорила и потребность не видеть больше картин, которые изображают человеческие лица, копошащиеся в Париже в четырех стенах или бродящие по улицам в поисках заработка.
Потеряв интерес к современной жизни, он решился не впускать в свою келью масок отвращения и жалости; он хотел тонкой и изящной картины, поэтичной в античной извращенности, далекой от наших нравов, далекой от наших дней.
Он хотел для услаждения своего ума и для утехи глаз несколько возбуждающих произведений, которые переносили бы его в неведомый мир, наводили бы его на след новых догадок, расшатывали бы его нервную систему многообразными истериками и кошмарами, беспечными и ужасными видениями.
Был один художник, талант которого приводил дез Эссента в восхищение, Гюстав Моро. Дез Эссент приобрел два его шедевра, и перед одним из них по ночам он отдавался грезам. Это было изображение Саломеи следующего содержания.
Во дворце, похожем на базилику мусульманско-византийской архитектуры, возвышался трон, подобный главному престолу собора, под бесчисленными сводами, из которых коренастые колонны струились, как романские столбы, украшенные разноцветными камнями, выложенные мозаикой, инкрустированные ляпис-лазурью и сардониксом.
В центре скинии, возвышаясь на престоле, к которому вели полукруглые ступени, сидел тетрарх Ирод, опершись руками на колени.
Лицо желтое, пергаментное, испещренное морщинами, истощенное годами; его длинная борода развевалась, как белое облако над звездами из драгоценных камней, которыми сияла надетая на нем златотканая одежда.
Вокруг этого изваяния неподвижного, застывшего в священной позе индусского бога курились благовония, разливающие облака дыма, сквозь которые, как фосфорические глаза животных, просвечивали огни камней, вставленных в стенки трона; дым поднялся и застыл под сводами, где смешался с голубой пылью ярких дневных лучей, падающих из купола.
В развращающем запахе благовоний, в разгоряченной атмосфере этой церкви Саломея с вытянутой левой рукой – жестом повеления, с согнутой правой рукой, держащей против лица большой лотос, медленно на носках подвигается под звуки гитары, струны которой перебирает женщина, сидящая на корточках.
С сосредоточенным, торжественным, почти священным лицом начинает она похотливый танец, который должен пробудить притупленные чувства старого Ирода; ее груди волнуются, и от трения крутящихся ожерелий соски их приподнимаются. На ее влажной коже сверкают алмазы, ее запястья, пояса, кольца сыплют искры; верх ее праздничной одежды, обшитой жемчугом, затканной серебряными разводами, украшенной золотой битью – панцирь из драгоценностей, на котором каждое звено из камня горит, скрещивает огненные змеи, шевелится на матовом теле, на коже, цвета чайной розы, как великолепное насекомое, с ослепительными крылышками, златоцветными точками, голубовато-стальным и зеленым, цветом павлина.
С устремленными в одну точку глазами, подобно сомнамбуле, она не видит ни трепещущего тетрарха, ни следящей за ней матери, жестокой Иродиады, ни гермафродита, быть может, евнуха, стоящего с саблей в руке у подножия трона, страшную фигуру, закутавшую свою грудь скопца, которая висит, как желвак, под туникой с оранжевыми полосами.
Этот образ Саломеи, к которому так часто обращаются художники и поэты, уже несколько лет владел дез Эссентом. Сколько раз читал он в старой Библии, изданной Пьером Варике, в той, переведенной доктором богословия Лувенского университета, Евангелие св. Матфея, рассказывающее в наивных и коротких фразах об усекновении главы Предтечи. Сколько раз он задумывался над этими строками.
«В день пиршества, по случаю дня рождения Ирода, дочь Иродиады танцевала перед собранием и понравилась Ироду.
Который обещал ей, поклявшись, дать ей все, чего бы она ни попросила.
Она же, подученная своею матерью, сказала: дай мне на блюде главу Иоанна Крестителя.
И царь был огорчен, но ради клятвы и возлежавших с ним повелел дать ей.
И послал отсечь Иоанну голову в темнице.
И принесли его голову на блюде и отдали девушке, а она отдала своей матери».
Но ни св. Матфей, ни св. Марк, ни св. Лука, ни другие евангелисты не проникали в исступленные чары, в настоящую порочность танцовщицы. Она оставалась невыясненной, исчезла таинственная и замирающая в далеком тумане веков; неуловимая для положительных и слишком наивных умов, понятная только пошатнувшимся мозгам, утонченным, сделавшимся от невроза как бы духовидцами; непокорная живописцам тела, Рубенсу, преобразившему ее в фландрскую лавочницу, непостижимая для всех писателей, никогда не бывших в состоянии передать беспокойного возбуждения танцовщицы, утонченного величия убийцы.
В произведении Гюстава Моро, написанном на основании всех данных Нового Завета, дез Эссент видел, наконец, воплотившуюся Саломею, сверхчеловеческую и чудесную, о которой он мечтал. Она не была уже только плясуньей, вырывающей у старика развращенными движениями своих боков крик желания и похоти, разбивающей несокрушимую волю царя волнениями груди, сотрясениями живота и содроганием бедер; она стала в некотором роде символическим божеством нетленного Сладострастия, богиней бессмертной Истерии, проклятой Красотой, одержимой каталепсией, напрягающей ее тело и делающей твердыми ее мускулы – чудовищным животным, равнодушным, безответным, бесчувственным, отравляющим, как античная Елена, всех, кто к ней приближается, кто ее видит, до кого она дотрагивается.
Понятая таким образом она принадлежала к мировоззрению Древнего Востока; она не воскрешала больше библейских преданий, даже не могла уже быть уподобленной живому изображению Вавилона, царственной Апокалипсической Блуднице, наряженной, как она, в пурпур и драгоценности и, как она, нарумяненной и набеленной, потому что та не была брошена вещим могуществом, высшей силой в притягательную бездну разврата.
Казалось, впрочем, что живописец хотел закрепить свою волю – остаться вне веков, не обозначать точно происхождения, страны и эпохи; он поставил Саломею среди этого необыкновенного дворца, смешанного, но величественного стиля, одев ее в роскошные и химерические одежды, увенчав ее голову неизвестной диадемой в виде финикийской башни, какую носила Саламбо, дав, наконец, ей в руки скипетр Исиды, священный цветок Египта и Индии – большой лотос.
Дез Эссент искал смысла этой эмблемы. Имел ли лотос фаллическое значение, приписываемое ему первобытными культами Индии; предвещал ли старому Ироду жертвоприношение девственницы, обмен крови, приношение дара, под непременным условием убийства; или изображал аллегорию плодородия, индусский миф о жизни – существование, находящееся в руках женщины, сорванное и смятое трепещущими руками мужчины, которого охватило безумие, которого позывы тела свели с ума.
Может быть также, что, вооружая свою загадочную богиню чтимым лотосом, живописец думал о танцовщице, о смертной женщине, об оскверненном сосуде, причине всех грехов и всех преступлений; может быть, вспомнил он образы Древнего Египта, погребальные церемониалы бальзамирования, когда химики и жрецы укладывают труп умершей на яшмовую скамью, вынимают у нее кривыми иглами мозг через ноздри, внутренности через прорез, сделанный в ее левом боку; затем прежде, чем золотить ей ногти и зубы, прежде, чем намазать ее горькой смолой и эссенцией, вводят ей в половые части, чтобы очистить их, целомудренные лепестки божественного цветка.
Как бы там ни было, неотразимое обаяние исходило от этого полотна. Но акварель под названием «Явление» была, может быть, еще более тревожащей. Там дворец Ирода возвышался, как Альгамбра, на легких радужных колоннах из мавританских плиток, спаянных как бы серебряным бетоном и золотым цементом; арабески уходили косоугольниками из лазури и тянулись вдоль куполов, где на перламутровой мозаике стлались отблески радуги, сияние призмы.
Убийство совершилось; теперь палач стоял безучастный, опершись на рукоятку своего длинного меча, запятнанного кровью. Отрубленная голова святого была приподнята с блюда, поставленного на плиты, и он глядел, синеватый, с побледневшим, открытым ртом, с ярко-малиновой шеей, с которой капали слезы. Мозаика окружала лицо, от которого исходило сияние, сливаясь с лучами света, идущего от портиков, освещая страшную приподнятую голову, зажигая стеклянные зрачки, судорожно впившиеся в танцовщицу.
Жестом испуга Саломея отталкивает ужасающее видение, которое приковывает ее к месту, неподвижно, на носках; ее глаза расширяются, рука судорожно сжимает горло. Она почти голая; в разгаре танца покровы расстегнулись, парча упала; на ней надеты только золотые вещи, яркие минералы; нагрудник, как латы, сжимает ее стан, и как великолепная застежка, чудесная драгоценность сверкает в ложбине между грудей; ниже, на бедрах пояс охватывает ее, скрывает верхнюю часть ее ног, на которые спускается исполинская подвеска с целым водопадом карбункулов и изумрудов; наконец, на месте, оставшемся голым, между нагрудником и поясом, выступает живот, прорытый пупком, отверстие которого кажется печатью, выгравированной из оникса молочных тонов, с оттенком розовых ногтей.
Под пламенными лучами, исходящими от головы Предтечи, загораются все грани драгоценностей; камни оживляются, чертят женское тело огненными штрихами; впиваются ей в шею, в ноги, в руки, пламенными пятнами – алыми, как угли, фиолетовыми, как свет газа, синими, как пламя спирта, и белыми, как лучи звезд. Страшная голова пламенеет, истекая кровью, оставляя темно-пурпуровые сгустки на конце бороды и волос. Видная только одной Саломее, она не угнетает своим мрачным взглядом ни Иродиаду, думающую о своей оконченной, наконец, ненависти, ни тетрарха, который, наклонившись немного вперед, опершись руками на колени, еще задыхается, сведенный с ума этой женской наготой, пропитанной благовониями, умащенной бальзамами, дышащей фимиамом и миррой.
Так же, как старый царь, дез Эссент оставался подавленным, уничтоженным, с головокружением перед этой танцовщицей, менее величественной, менее надменной, но более волнующей, чем Саломея на картине в масляных красках.
В бесчувственном и безжалостном изваянии, в невинном и опасном идоле, являлся эротизм, ужас человеческого бытия; большой лотос исчез, исчезла богиня; безобразный кошмар душил теперь фиглярку, опьяненную вихрем танца, куртизанку, окаменевшую и загипнотизированную ужасом.
Здесь она, действительно, была девой; она повиновалась своему темпераменту пламенной и жестокой женщины; она была более утонченной и дикой, более гнусной и изящной; сильнее будила притупленные чувства мужчины, увереннее околдовывала, покоряла его хотения своими чарами большого венерического цветка, распустившегося на преступном ложе, взрощенного в нечестивой теплице.
Дез Эссент говорил, что никогда, ни в какую эпоху акварель не достигала такого блеска колорита; никогда бедные химические краски не обрызгивали бумагу блеском, подобным камням, отблесками, похожими на залитые солнечными лучами стекла, таким баснословно сказочным, таким ослепительным великолепием тканей и тел.
И углубившись в свое созерцание, он искал корней этого большого художника, этого мистического язычника, этого мечтателя, который мог достаточно отвлечься от мира, чтобы увидеть сияющими среди Парижа жестокие видения, волшебный апофеоз других веков.
Дез Эссент едва улавливал его происхождение: там и здесь неясное напоминание о Мантеньи и де Барбари; кое-где смутное влияние да Винчи, лихорадочные краски Делакруа; но влияние этих мастеров, в конце концов, было незаметно: истинно было то, что Гюстав Моро ни от кого не происходил, без настоящих предшественников, без возможных последователей, в современном искусстве он был единственным. Исходя из этнографических источников, из начал мифологии, кровавые загадки которых он подвергал сравнениям и разгадываниям; соединяя, сливая в одно легенды, вышедшие из крайнего Востока и перевоплощенные верованиями других народов, он оправдывал таким образом свои зодческие соединения, роскошную и неожиданную амальгаму материй, священные и зловещие аллегории, обостренные тревожной ясностью новейшей нервозности; и он навсегда остался мучительным, снедаемым символами разврата и сверхчеловеческой любви и божественных прелюбодеяний, совершенных без забвения и без надежды.
В его безнадежных и ученых произведениях было страшное очарование, волнующее вас до глубины сердца, как известные поэмы Бодлера; и остаешься изумленным, мечтающим, смущенным перед этим искусством, переступающим границы живописи, заимствующим у искусства писать его самые тонкие возможности: у Лимозена – самый восхитительный блеск, у искусства ювелира или гравера – его самые изящные тонкости.
Эти два образа Саломеи, которыми дез Эссент безгранично восхищался, жили перед его глазами, повешенные на стене его рабочего кабинета между книжными полками.
Но этим не ограничивались покупки картин, сделанные дез Эссентом с целью украсить свое одиночество.
Хотя он пожертвовал всем верхним этажом, в котором он сам не жил, но и для одного нижнего этажа нужна была многочисленная серия рам, чтобы украсить стены.
Этот нижний этаж был так расположен: туалетная, сообщающаяся со спальней, занимала один из углов постройки; из спальни – в библиотеку, из библиотеки – в столовую, это образовывало другой угол.
Эти комнаты, составляющие один из фасадов дома, шли по прямой линии, с окнами, выходящими на долину Оне. Другой фасад жилища состоял из четырех комнат, совершенно одинаковых по расположению с первыми. Так, кухня выходила углом и соответствовала столовой; большой вестибюль, служащий передней дома – библиотеке, будуар – спальне, уборная, замыкающая другой угол – туалетной.
Все эти комнаты получали свет со стороны, противоположной долине и смотрели на башню Круа и Шатийон.
Что касается лестницы, она была приделана к одному боку дома, с внешней стороны; шаги слуг, шатая ступеньки, доходили таким образом до дез Эссента менее внятными и более глухими.
Он велел обить будуар ярко-красным и на всех стенах комнаты повесил в рамках из черного дерева гравюры Лёйкена, старинного голландского гравера, почти неизвестного во Франции. Из произведений этого причудливо-грустного и пылко-дикого художника дез Эссент обладал серией его «Религиозных гонений» – ужасающих картин, содержащих все муки, изобретенные безумием религий, гравюр, с которых вопило зрелище человеческих страданий, тел, поджариваемых на горящих угольях, черепов, обдираемых саблями, трепанируемых гвоздями и распиливаемых, внутренностей, вынутых из живота и намотанных на катушки, ногтей, медленно выдираемых клещами, выкалываемых зрачков, век, выворачиваемых шилами, вывернутых членов тела, заботливо переломленных, обожженных костей, медленно соскабливаемых ножами. От этих произведений, полных гнусных изобретений, смердящих гарью, сочащихся кровью, залитых воплями ужаса и анафем – в красном кабинете дез Эссента мороз подирал по коже и захватывало дыхание. Но помимо дрожи, в которую они бросали, помимо ужасного таланта этого человека, необычайной жизни, одушевлявшей его фигуры, у этой удивительной кишащей толпы, в этих народных волнах, поднимаемых ловкостью кисти, напоминающей ловкость Калло, но с могуществом, какого никогда не было у него, – открывалось замечательное воссоздание среды и эпохи; архитектура, одежды, нравы времен Маккавеев, в Риме – во времена гонений на христиан, в Испании – во времена господства инквизиции, во Франции в Средние века и во время Варфоломеевской ночи и драгонад, – все было воспроизведено с робким старанием и отмечено поразительным знанием.
Эти эстампы были источниками знаний; на них можно было смотреть без утомления, по нескольку часов. Глубоко возбуждающие к размышлениям, они часто помогали дез Эссенту убивать те дни, когда ему надоедали книги. Жизнь Лёйкена еще больше привлекала его; притом же она объясняла галлюцинацию его творчества. Ревностный кальвинист, закоснелый сектант, увлеченный гимнами и молитвами, он сочинял религиозные стихотворения, которые сам же иллюстрировал, перефразировал стихами псалмы, углублялся в чтение Библии, откуда выходил исступленным, свирепым, с головой, наполненной кровавыми сюжетами, со ртом, искривленным проклятиями Реформации, и песнями ужаса и гнева.
Он презирал мир, раздал свое имущество бедным, довольствуясь куском хлеба; он кончил тем, что сел со старой, фанатизированной им служанкой на судно, всюду проповедуя Евангелие, пытаясь совсем не есть, сделавшись совершенно сумасшедшим и диким.
В соседней, большой комнате, в вестибюле, обитом кедровым деревом, цвета сигарного ящика, громоздились друг над другом другие страшные рисунки.
«Комедия Смерти» Бредена – невероятный пейзаж, состоящий из деревьев, кустарников, принимающих формы демонов и привидений, покрытых птицами с крысиными головами, с хвостами в виде овощей, ползущих по земле, усеянной позвонками, ребрами, черепами; над ними поднимаются узловатые ивы с дуплами, над которыми возвышаются качающиеся скелеты с распростертыми руками, поющие победную песнь в то время, как Христос улетает в облачное небо. В глубине пещеры сидит в размышлении отшельник, закрыв лицо руками, а у лужи, распростершись на спине и растянувшись к ней ногами, умирает бедняк, истощенный голодом и изнуренный лишениями.
«Добрый самаритянин» того же художника – громадный рисунок пером: нелепая смесь пальм, рябин, дубов, растущих вместе вопреки времени года и климату – девственный лес, населенный обезьянами, филинами, сычами, совами, покрытый старыми пнями, такими же уродливыми, как корни мандрагоры, высокий, волшебный лес, с просветом посредине, где вдалеке за верблюдом и группой из самаритянина и раненого, неясно видна река, за ней фантастический город, взбирающийся на горизонт, поднимающийся в страшное небо, изрезанное птицами, пенящееся волнами и как бы вздутое тюками туч.
Сказали бы, что это рисунок-примитив какого-нибудь несформированного Альберта Дюрера, созданный в мозгу, опьяненном опиумом; но, хотя дез Эссент любил тонкость деталей и величественную манеру этой гравюры, он больше уделял внимания и более подробно останавливался перед другими рамами, украшавшими комнату. Эти рамы были подписаны – Одилон Редон. Они заключали в своих багетах из старого грушевого дерева, окаймленного золотом, невообразимые явления: голова в стиле Меровингов, положенная на чашу; бородатый мужчина, напоминающий одновременно монаха и оратора публичного собрания, трогающий пальцем ядро громадной пушки; ужасный паук, у которого посреди туловища помещается человеческое лицо; затем рисунки углем шли еще дальше в ужасные сновидения человека, мучимого приливом крови. Здесь была огромная игральная кость, на которой мигало грустное веко; там пейзажи – сухие, безводные, сожженные равнины, движения почвы, вулканические извержения, цепляющиеся за мятежные тучи, стоячее и синеватое небо; иногда же сюжеты казались заимствованными у кошмара науки и восходили к доисторическим временам. На скалах распускалась чудовищная флора, повсюду валуны ледникового происхождения, ледниковые осадки, люди, обезьянообразный тип которых, толстые челюсти, выдавшиеся дугообразные брови, покатый лоб, сплющенная макушка, напоминали голову прародителей, голову человека первого четвертичного периода, еще плодоядного и не знающего слов, человека современного мамонту, носорогу и пещерному медведю. Эти рисунки были вне всего; большей частью они переходили за пределы живописи, вводили что-то новое, совершенно особенное, фантастические страсти и бред.
И действительно, эти лица, съедаемые громадными безумными глазами, эти тела, чрезмерно выросшие или изуродованные, как сквозь графин, вызывали в памяти дез Эссента воспоминания о тифе и все еще сохранившееся воспоминание о жгучих ночах и об ужасных призраках его детства.
Охваченный неизъяснимым беспокойством перед этими рисунками, как перед известными «Притчами» Гойи, которые они напоминали, как после чтения Эдгара По, чьи миражи, галлюцинации и впечатления страха Одилон Редон, казалось, перенес в свое искусство, дез Эссент тер себе глаза и смотрел на лучезарную фигуру, встающую среди этих беспокойных картин, ясную и спокойную фигуру меланхолии, сидящую перед диском солнца на скалах, в подавленной и мрачной позе.
От этого очарования мрак рассеивался. Мысли дез Эссента становились полны прелестной грусти и несколько смягченной печали, и он размышлял перед этим произведением, которое своими пятнами гуаши, рассеянными среди густо наложенного карандаша, было просветом цвета зеленой воды и бледного золота среди непрерывной черноты этих рисунков и гравюр.
Кроме этой серии произведений Редона, занимающей почти все стены вестибюля, он повесил в своей спальне бесформенный набросок Теотокопулоса – Христа, странных цветов, шаржированного рисунка, жестких красок, бесформенной силы, – картину второй манеры этого живописца, того времени, когда он был мучительно озабочен тем, чтобы не походить на Тициана.
Эта зловещая картина, в тонах трупно-зеленых и ваксы соответствовала известному порядку идей дез Эссента относительно меблировки.
По его мнению, было только два способа устроить спальню: или сделать из нее возбуждающий альков, место ночного наслаждения, или же место уединения и отдыха, убежище мысли, нечто вроде часовни.
В первом случае изнеженным людям, особенно истощенным раздражениями мозга, представляется стиль Людовика XV; действительно, один только XVIII век сумел окружить женщин порочной атмосферой, округляя мебель сообразно с формами их прелестей, подражая волнистыми изгибами дерева и меди их сладостному сжиманию, завиткам их спазм, приправляя слащавую томность блондинки резкими и живыми тонами убранства, смягчая острый вкус брюнетки – обивками приторных, водянистых, почти безвкусных тонов.
Раньше в парижской квартире у дез Эссента была такая комната, с большой белой лакированной кроватью, которая, сверх того, была возбуждающим пряным напитком для старого сладострастника, который издевается над притворной непорочностью, перед лицемерной стыдливостью молодых девушек Грёза, перед искусственным целомудрием шаловливой постели, когда в ней ощущается запах ребенка или молодой девушки.
В другом случае – теперь, когда он хотел порвать с раздражающими воспоминаниями своей прошлой жизни, и этот способ был единственно возможным; нужно было отделать комнату, как монастырскую келью; но тут являлись затруднения, так как ему претила суровая некрасивость убежищ покаяния и молитвы.
Рассмотрев вопрос со всех сторон, он решил, что желаемая цель могла быть достигнута следующим образом: отделать веселыми предметами печальную комнату, или, скорее, сохраняя вполне характер некрасивости, сообщить ансамблю комнаты, трактуемой таким образом, изящество и ценность, перевернуть театральную оптику, где дешевая мишура кажется роскошными и дорогими тканями, – и получить совершенно противоположный эффект: пользуясь великолепными материями, дать впечатление тряпья, словом, устроить хижину картезианца, которая имела бы вид настоящей, не будучи, разумеется, таковой на самом деле. Он поступил таким образом: чтобы подражать стенной окраске охрой, административному и клерикальному желтому цвету, он велел обить свои стены шафранным шелком; чтобы передать панель шоколадного цвета, обычного в таких комнатах, он обшил стены деревянными полосами темно-лилового цвета амаранта. Впечатление было пленительно, и он мог вызывать в памяти, особенно издали, скучную суровость модели, которой он следовал, преобразовывая ее; потолок был затянут белым шелком-сырцом, симулирующим штукатурку, только без резкого блеска; что же касается холодной настилки пола кельи, он удачно достиг подражания ей благодаря ковру с рисунком из красных плиток и беловатых мест на шерсти, дающих иллюзию ветхости, мест, протертых туфлями и сапогами.
Он поставил в этой комнате железную кровать, поддельную кровать монаха, сделанную из старинного, кованого и полированного железа, возвышающуюся в изголовье и ногах ветвистыми орнаментами, распускающимися тюльпанами, обвитыми виноградными ветвями, переходящими в перила великолепной лестницы старинного замка. Вместо ночного столика стоял старинный аналой, на котором лежал молитвенник. Напротив у стены стояла скамья с ажурным балдахином, украшенным рыцарскими кинжалами, вырезанными из цельного дерева; в церковных светильниках были вставлены настоящие восковые свечи; он покупал их в специальном магазине, предназначенном для потребностей богослужения, так как чувствовал искреннее отвращение к керосину, сланцу, газу, стеариновым свечам, ко всему новейшему освещению, такому яркому и такому грубому.
Утром, лежа еще в постели, прежде чем заснуть, дез Эссент смотрел на своего Эль Греко, ужасные краски которого слегка отталкивали улыбку желтой материи и вызывали в ней более суровый тон, и тогда он легко представлял себе, что живет в ста милях от Парижа, вдали от света, в глубине монастыря.
Словом, иллюзия была нетрудна, потому что он и вел жизнь, почти аналогичную жизни монаха. Но у него были преимущества в заключении, и он избегнул всех неудобств, как, например, солдатской дисциплины, отсутствия забот, грязи, сообщества с людьми и монотонной праздности.
Он устроил из своей кельи уютную и теплую комнату и сделал свою жизнь нормальной, спокойной, окруженной благосостоянием, занятой и свободной.
Как отшельник, он уже созрел для одиночества, утомленный жизнью, ничего уже не ожидающий от нее; и, как монах, он был подавлен безграничной усталостью, нуждался в сосредоточенности, не желал иметь ничего общего со светскими людьми, бывшими для него утилитаристами и глупцами. Короче, хотя он и не испытывал никакой склонности к состоянию благодати, но чувствовал действительную симпатию к этим людям, заточенным в монастырях, преследуемым ненавистным обществом, которое не прощает им ни их справедливого презрения к нему, ни их желания искупить долгим молчанием все возрастающее бесстыдство его нелепых и пустых разговоров.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?