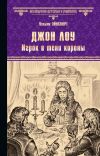Текст книги "Хроники «Бычьего глаза» Том I. Часть 1"
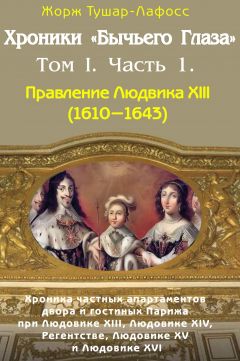
Автор книги: Жорж Тушар-Лафосс
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
На другом конце кабинета, молча, стоял монах среднего роста, – это отец Жозеф. На нем грубая францисканская ряса; он подпоясан веревкою; забрызганные грязью ноги полуприкрыты сандалиями из невыделанной кожи. Черты этого человека сурово обрисованы, цвет лица оливковый, глаза впалые, борода густая, черная. Фиваидский отшельник показался бы менее его удаленным от удовольствий мирской жизни. Однако под этою суровою внешностью скрывается более честолюбие, нежели под королевскою мантиею. Советник Ришельё с живостью улыбается при мыслие о римском пурпуре, который ему обещан: он думает о завладении более широким могуществом. Ночью, во время желчной бессонницы, воображение этого монаха, устраняя сырые стены смиренной кельи, овладевает половиною мира: ему нужно владычество над христианством.
Уже новый Петр пустынник, Жозеф, сумел задумать и почти осуществил другой крестовый поход. В Италии, Испании благочестивые государи взволновались при звуках его голоса, который считали вдохновенным. Вооруженные народы готовы следовать в центр Оттоманской империи. Герцог Неверский и Мантуанский, генералиссимус крестоносцев, собрал пятьдесят тысяч человек, которым должны были помогать валахи, молдаване и другие народности, задавленные полумесяцем. Наконец по плану отца Трамблай германцы и поляки должны были атаковать султана с сухого пути, в то время как испанцы, итальянцы и французы сделали бы высадку в Море. Людовик XIII, государь, которого легко было уверить, видел уже султана торжественно ведомым на Королевскую площадь. Но Ришельё весьма основательно, думал, что время священных нашествий прошло; он знал, что политические цепи составлялись из других звеньев, нежели религиозные верование, и что в необходимости, уже им сознанной, образовать европейские семейства «крещенье или смерть» было весьма плохим дипломатическим аргументом. Министр льстил мечтанием отца Жозефа, когда имел надобность в услугах этого фанатика, влиянием которого ловко пользовался в путешествиях, предпринимаемых последним для усиления крестового похода. Но как только этот агент перестал быть полезен для кардинала, – Ришельё отказал в своей помощи крестоносцам; впоследствии они разделились, соскучившись ожидать бесполезных субсидий, обещанных кардиналом, но который однако же твердо решился не высылать их.
Его эминенция тогда тесно привязался к отцу Жозефу, познание и опытность которого могли быть очень полезны его извилистой политике. Мрачный, непоколебимый, бесчувственный, как все ханжи, этот капуцин шел к цели, не обращая внимания на соображения, которые обыкновенно взвешивают: умные люди: он все ломал на пути, чтобы достигнуть своего скорее и вернее. Поэтому кардинал пользовался им в особенности в самых крайних обстоятельствах: жалок был этот дворянин, который между собой и министром видел вмешательство серой эминенции[13]13
Название, данное при дворе отцу Жозефу, с тех нор, как начали говорить о его посвящении в кардиналы.
[Закрыть]: это служило доказательством, что он имел несчастье впасть в немилость, а этот страшный советник редко верил невинности.
Между тем, выказывая всю преданность первому министру, Жозеф его ненавидел. Постоянно веря в некоторые откровение – пламенные мечты фанатизма, этот монах не мог простить Ришельё за то, что он парализовал крестовый поход. Под этим морщинистым челом вырабатывалась мысль – опрокинуть этого государственного человека: он считал себя достаточно великим и достаточно сильным, чтобы заменить его. Но одаренный неутомимою настойчивостью, он решился ожидать, пока этот колосс будет поколеблен длинным рядом годов и лихоимством. «Тогда, говорил он в уединении своей кельи в бессонные ночи: – власть натурально перейдет ко мне в руки; тогда, господствуя над самой храброй нацией в мире, я вооружу сына гугенота Генриха IV крестом, который в руке его превратится в скипетр вселенной. Мимоходом я опрокину этот мнимый св. престол, где верховный левит дремлет в роскоши и бездействии, и с тиарою на голове, с мечем крестоносца в руке; я докончу истребление еретичества. Религия, или скорее глава ее восцарствует, как он должен царствовать без земного соперничества, без препятствий, без раздела.
Таков был человек; которого мы оставили стоящим в кабинете кардинала-министра и который явился с покорностью по приказанию его эминенции, в ожидании обладания вселенной. Но Ришельё не ошибался на счет этого коварства, ежеминутно обнаруживавшегося и свирепым взглядом, и восстанием его свирепых инстинктов Тонкий политик угадывал усилие Жозефа, какие употреблял последний, склоняясь в ярмо; он его боялся и наблюдал за ним каждую минуту.
Ришельё едва заметил этого советника – так живо и глубоко было его волнение; он просидел задумчиво около четверти часа, склонив голову на руки, когда капуцин, соскучившись ожиданием, решился заговорить первый.
– Я здесь, – сказал он глухим и протяжными голосом… – Я исполнил приказание.
– А, это вы, отец Жозеф! Подойдите. Появились новые враги и опасность очевидна.
– Я это вижу очень хорошо, ибо вы меня потребовали… Ваша эминенция пользуетесь мною, как моряки якорем во время бури… Я слушаю, монсеньер… Но поторопитесь – что вы мне хотели сказать: эта безумная музыка, доходящая до моих ушей, эти светские духи, которыми даже напитана, ваша симарра, душат меня. В чем дело?
– Вы слышали о приезде Бэкингема?
– Да, и я видел в Лондоне эту блестящую бабочку, которая в политической карьере кружится на поверхности дел и думает, что оставляет на них следы. Человек не гениальный и совершенно для вас неопасный.
– Вы ошибаетесь, Жозеф; мое спокойствие нарушено герцогом со времени его приезда в Париж. Необходимо, чтобы вы помогли мне поскорее выгнать его отсюда.
– Я готов употребить все старание для одоления вашего противника; но надобно знать, как и на каком пункте он на вас нападает.
– Какое вам дело до характера неприятностей – достаточно знать, что с его удалением все это окончится. Поэтому необходимо действовать в Англии таким образом, чтобы оказалась крайность Бэкингему ускорить свой отъезд. Это должно вас немного затруднить, отец Жозеф, я даю хорошенькую игрушку вашей дипломатической ловкости.
– Право, монсеньер, я могу утомиться, помогая вашим проектам, ибо я не так прост, чтобы не знать, что вы не доверяете моим намерениям. Но слава Богу я поставлен выше этих жалких приманок суетности, называемых отношениями. Во всяком случае преданность моя устает ходить в тени, и если бы моя проницательность чаще не угадывала, что вы от меня скрываете, я давно против воли уступил бы желанию…
– Отец Жозеф, этот тон…
– Ваша эминенция, я не корчу царедворца. Возвратимся к вашим проектам, которых повод я впрочем предвижу……..
– Вы предвидите? сказал кардинал с удивлением.
– Небу и угодно, чтобы светская жизнь отражалась на стенах наших монастырей, чтобы вызвать наше сострадание и наши молитвы. Бэкингем преступил границы уважения, должного королеве, до такой степени, что дерзнул поднять на нее нечистые взоры… и…
– И честь короля запрещает, чтобы этот дерзновенный достиг своих намерений.
– Без сомнения. – подхватил Жозеф с странною улыбкой: – честь короля, которую ваша эминенция страстно желаете сохранить незапятнанной…
Здесь ястребиный взгляд кардинала впился в монаха, как бы для того, чтобы проникнуть до его настоящей мысли, скрываемой под очевидной иронией.
– Что вы воображаете, отец Жозеф? – спросил министр, удаляясь немного от предмета разговора.
– Отозвать герцога в Англию мне кажется легко. Употребив значительные усилия, чтобы найти в Лондоне соумышленников, раздав кстати несколько тысяч пистолей, я думаю можно найти средство встревожить защитников Парламента насчет мнимой, опасности их милой реформации, и крики общин наведут такой ужас на неопытного Карла, что он не замедлит отозвать своего министра для успокоение такой горячей тревоги. Но как бы деятельно ни работать, резултат не может быть именно скорый, а Люцифер быстро идет к своей цели… Вот что, монсеньер, надо вам сказать, что дело это не по мне; оно скорее подходит к Лафейма. Переговоры медленно развязывают интригу, – разрешить ее удобнее кинжалом, а ваша эминенция знаете, что у Лофейма кинжал очень острый.
– Ах, что вы мне предлагаете, Жозеф?
– То, что мне внушает Господь, отвечал монах, скрестив на груди руки: – все средства законны, если они стремятся к его славе, и с еретиком надобно вести войну.
– Политика требует больше осторожности. Отправляйтесь сегодня же ночью в Лондон; в этом городе вам будет открыт безграничный кредит, не скупитесь, не щадите золота, и сделайте так, чтобы Бэкингем был отозван своим государем через две недели.
– Он будет отозван, монсеньер, сказал холодно капуцин, поклонился и вышел.
Когда Ришельё возвратился в залу, великолепный англичанин вызвал новые взрывы восхищение. Бесчисленные жемчужины, унизывавшие его платье, плохо прикрепленные по небрежности, или с намерением, большею частью отрывались и усыпали пол кардинальских салонов… Находившие эти жемчужины спешили возвратить их Бэкингему, но он, не обращая внимания на ценность зерен, упрашивал с улыбкой того или ту, кто приносил, оставить у себя, прибавляя, что он в восторге, что небрежность его портного, дала ему случай оставить эти безделки при дворе, осыпавшем его любезностями. Фаворит Карла рассыпал таким образом сто тысяч экю на паркетах кардинала. Эта безумная щедрость победила все, что оставалось осторожности и благоразумие в королеве; она хвалила герцога в таких выражениях, которые не оставляли
ему сомнение в успехе, и он рассудил, что мог отважиться на все.
Глава V
Пароксизм. – Призвание. – Лафейма. – Утонченные. – Засада. – Английские повесы. – Подземелье. – Ложный отец Ансельм. – Дуэль возле исповедницы. – Бедные монахини. – Труп в святом месте. – Герцогиня садовником. – Королева и кардинал.
Уезжая с грустью с кардинальского бала, Анна Австрийская возвращалась в Лувр в своей карете, в которой восходящее солнце освещало изнуренный черты ее величества. Ранний горожанин узнавал экипаж королевы не по великолепному убору четырех андалузских лошадей – подарок Филиппа IV, но по золотым рельефным украшениям, окружавших дверцы из венецианских стекол. Госпожа Шеврёз с трудом вырвала государыню из последних групп танцующих, где Бэкингем удерживал ее, как магнит удерживает железо.
Давно уже Людовик XIII и Мария Медичи оставили бал; но этикет не занимал Анну, любовь, даже увенчанная, забывает часто собственное достоинство, она охотно вмешивается в толпу, чтобы упиваться ропотом вздоха, сладостно трепетать от пожатия руки. Пока полусонные музыканты извлекали бы звуки из своих инструментов, пока хоть одна свеча горела бы в люстре, споря с рассветом, королева участвовала бы в кадрилях, продолжавших удовольствия ночи. Ришельё также бодрствовал; он постоянно следил за всеми движениями королевы и старался: по движению ее губ угадать интимный смысл слов, с которыми она обращалась к английскому министру. Фаворитка, не смотря на свое влияние на кардинала, не могла отвлечь его от этого внимательного наблюдения. Она читала на его лице выражение страшной ревности, которую дурно прикрывала коварная улыбка его эминенции. Действительно трудно было не разделять подозрений ревнивого наблюдателя. Беспорядок в дамской прическе и наряде, являющейся на многолюдном бале, не был достаточен для объяснения того положения, в каком находилась королева: по колебанию ее груди, по задумчивым взорам влажных глаз, по небрежной позе всей ее особы, можно было заметить следы того могущественного волнения, с которым перестали уже бороться и над которым хотят восторжествовать. Герцогиня, пораженная этими признаками страсти, которую все могли заметить, подошла к супруге Людовика XIII и затронула самую чувствительную струну – кокетства, объявив, что королеве невозможно долее оставаться на бале, так как туалет ее измят и черты лица утомлены, что при дневном свете произведет неприятное впечатление. Только этого и требовалось: через пять минут Анна Австрийская в сопровождении фаворитки быстро на андалузских лошадях проехала пространство, перерезанное еще кустарниками, лугами и возделанными землями, которое отделяло тогда Люксанбург от королевского дворца.
– Не оставляйте меня Мари, сказала королева герцогине, когда они возвратились в Лувр: – самое большее удовольствие, которое вы мне можете доставить, это не покидать меня в настоящую минуту. Я чувствую потребность иметь возле себя какое-нибудь любимое существо. Я не усну, о я не в состоянии уснуть… эта движущаяся толпа… эти тысячи огней… звуки музыки, проникающие в сердце – все это кипятить кровь. Я чувствую, что горю.
– Ах, ваше величество, отвечала госпожа Шеврёз, как бы недовольным тоном: – чем же я заслуживаю такую немилость? за чем же вы лишаете меня драгоценного доверия, которым я гордилась? Неужели ваше величество будете столько жестоки, чтобы скрываться от вашей Мари? О, я умру от этого.
И из глаз герцогини покатилось несколько слезинок.
– Ты плачешь, милый друг!… Как же мне жаль, что я тебя огорчила! Перестань! К тебе менее всех я могу иметь подозрения, относительно занимающего меня предмета. Я раскрою перед тобой сердце, которое совратилось с пути добродетели: дружба твоя мне посоветует, как снова взойти на прямую дорогу… ибо я сбиваюсь с нее, Мари, о, как сбиваюсь.
Потом, увлекаемая неодолимым желанием излияния, поддаваясь крайней необходимости ласкать любимое существо, Анна, прижав крепко к сердцу фаворитку, стала горячо целовать ей грудь, руки, плечи, орошая слезами.
– Лягте в постель, ваше величество, сказала герцогиня, при виде страданий, искавших облегчения: – вам необходимо успокоиться. Я проведу несколько часов возле вас на этом кресле.
– Нет, нет, Мари, это далеко…
Я не посмею на этом расстоянии открыться в том, что ты желаешь знать… потому что тогда трудно громко выговорить слово… И при том коронованные особы никогда не бывают одни. Король, этот человек, думающий только о ревности, находящий удовольствие лишь в том, чтобы заставить меня проливать слезы… – разве у него нет ушей во всех стенах этого дворца? Ты ляжешь со мной, я этого требую, приказываю… Закрой окна, опусти над моею постелью эти густые занавеси: я хочу быть защищена от малейшего луча света, я не должна краснеть даже перед тобою.
– Я позову какую-нибудь камеристку вашего величества.
– Зачем, герцогиня? Мне было бы крайне неприятно видеть в эту минуту здесь одно из лиц, веющих холодом этикета. Я утомилась от способа, которым эти люди выказывают мне уважение. Разве вы откажетесь сегодня раздеть меня?
– Это для меня было бы неописанное удовольствие, но я тоже не умею снять собственное платье.
– Ну, что же, я тебе помогу, Мари.
– О, никогда!
– Ребенок! Ведь я, скорее твой друг, нежели государыня. Полно. Начинай, а потом и я буду делать так же, как и ты.
Госпожа Шеврёз, действительно неловкая горничная, долго исполняла непривычную обязанность, возложенную на ее дружбу королевою. Наконец ей удалось раздеть последнюю. Анна Австрийская, понятно, оказалась еще более неловкой и исполнила свою обязанность не без разрыва нескольких кружев и тесемок.
Госпожа Шеврёз, как могла утешала королеву, но не помогла ей вступить на путь истины, стараясь скорее усыпать цветами запрещенную тропинку, на которую думала увлечь ее. Мало заботясь о принципах благоразумия, страстная до крайности и любящая молву о своих слабостях, герцогиня окончательно упоила королеву картиною счастливой разделенной любви. Наконец после продолжительного разговора Анна уснула на руках у фаворитки. И сонные грезы, бесполезно волновавшие королеву, извлекли у герцогини слезы сожаления, и из негодующей души ее исторглось восклицание: «О, Людовик, призрак человека! неужели для этих мучений она соединилась с тобой!»
В то время, когда за густыми занавесками своей кровати Анна Австрийская открывала свое сердце опасной сопернице, отец Жозеф, переодетый кавалером, скакал на почтовых по дороге в Лондон, чтобы предупредить последствия грешной наклонности королевы. С той же самой целью и в видах действовать непосредственно, кардинал приказал позвать Лафейма – это поочередно тонкое и жестокое орудие своей воли.
– Вы знаете герцога Бэкингема? – сказал он.
– Кого? этого павлина с красивыми перьями, явившегося из Англии ухаживать за нашими придворными дамами?
– Да. У меня есть для вас приказания относительно его.
– Благодарю, монсеньер! Я рад буду посмотреть, так ли скоро мой кинжал проникнет в сердце этого любезника, как его любовные стрелы в сердца наших красавиц.
– Прошу вас оставить этот разбойничий тон.
– Я создал язык, свойственный моим обязанностям, когда занимаюсь делами вашей эминенции. Я читал историю и знаю, что сеньор Тристан начальник дворца Людовика XI не говорил женским голосом.
– Господин Лафейма, я допускаю только половину сравнения.
– Как угодно. Что же я должен сделать при этой встрече относительно фаворита Карла I?
– Еще ничего решительного; но я поручаю следить за всеми его движениями, за каждым шагом, в особенности вблизи Лувра и Валь-де-Граса.
– Понимаю… Значит есть основание в молве, что этот англичанин подъезжает к королеве.
– Чтобы не скрывать от вас ничего, я полагаю, что он задумал это… Пока этот любезник будет видеть Анну только в обществе, мы станем держать его любовь на уздечке, но если он постарается найти какие-нибудь лазейки, необходимо, чтобы вы везде предупреждали его – вы как никто во Франции, умеете расставлять ловушки; если же в случае Бэкингем будет близок к исполнению намерения… вы меня понимаете, господин Лафейма? Но понимаете, что это в самом лишь крайнем случае. Бог дозволяет принести в жертву свое создание лишь для исполнения его святых законов, прибавил кардинал, подымая глаза к небу.
– Да будете так. И я могу надееться на управление Шампанью, которое эминенция обещали мне за первое значительное дело.
– Оно будет ваше, если дело, которое я вверяю вашей ловкости и опытности, принесет желанные плоды.
У Лафейма был отряд достойный его и состоявший из людей, описание которых будет не бесполезно. В Лувре бродили дворяне сомнительного происхождения, в бархатных вышитых плащах, гордо накинутых на тафтяные или атласные кафтаны, украшенные кружевами и позументами. Они носили широкие черные или серые шляпы с белыми или красными перьями. Они были вооружены тяжелыми шпагами, которые служили единственным истолкованием того, что они называли честью, которая не мешала им однако же плутовать в игре и грабить парижан, оставшихся вне дома в позднее время. Всегда готовые биться, они вызывали первого кавалера, которого им назначали в интересах как доброго так и дурного дела: кровь их по одинаковой цене готова была к услугам преступлению и добродетели. Таким образом, почти можно определить утонченных, хвастунов, которые ежеминутно рискуя жизнью в неверной игре поединков, делали лишь себе короткую перспективу существования и торасть мотать деньги, если они у них были. Из тех, у кого ничего не имелось, иные жили шулерством, другие подъезжали к богатым старухам и разоряли их. Некоторые увлекали девушек богатых семейств, соблазняли с спекулятивною целью, осуждая себя на женитьбу и занимали за большие проценты деньги у еврее Дибальи или у итальянца Дникомени, в ожидании приданого, которое таким образом проматывали прежде получения.
Некоторые, из самых дерзких, были такие, которые находили, что гораздо лучше похищать богатых наследниц добровольно или силой, и повенчаться у попа, не спрашивая согласия родителей. Наконец все эти кутилы, ухаживая за доверчивыми женщинами, увлекали их в трактиры или в бани – обыкновенные места проституции – в то время, когда легковерные мужья считали что их набожные половины были у обедни, в исповедальне или на проповеди. Правда что и в церквах даже во время, службы назначались свидания: попы нанимали исповедниц богатым любезникам и передавали некоторые талисманы суеверным вздыхателям, а потом искупали свой грех несколькими молитвами, несколькими поклонами.
Такова была милиция, в которой кардинальский Тритон набирал своих приспешников. Выйдя от Ришелье, он собрал их человек пятьдесят в одной таверне в улице Прувэр, сообщил им поручение и просил помочь ему.
– Клянусь святым Кристофом, сказал один из разбойников, это как нельзя более кстати для вас, мессир Ложейма, так как вы гоняетесь за управлением областями; но мы, ваши обыкновенные гончие, шатаясь по городу, получаем только шпорные удары, и было бы неблагопристойно, если бы мы не получили перевязку из пистолей чтобы наложить на свои раны.
– Собрать говорить правду, прибавил гасконский дворянин со свирепым взором, наматывая кончик уса на палец: – и клянусь эфесом своей шпаги, господин кардинал слишком хороший хирург, чтоб не наложить перевязки заранее.
– Да, да, воскликнули собеседники: – пистоли, много пистолей, мы не знаем ничего другого.
– Мой старый фонарь совсем разбит, сказал один молодой нормандец.
– В ландскнехте больше делать нечего, – заметил кавалер Бальбедор: – вельможи плутуют ловчее нашего брата.
– Я похитил уже трех девиц и был так несчастлив, что меня не принудили жениться ни на одной из них сказал небольшого роста раздушенный блондин. – Парламентские выказывают чрезмерное снисхождение по части волокитства. Я полагаю, прости Господи, что они разделяют мнения своих жен.
– Пистолей! пистолей! повторили хором пятьдесят разбойников.
– Вы их получите, господа, но клянусь святым Денисом, моим патроном, дайте мне время повидаться с господином кардиналом. Вы знаете, его эминенция платит скоро и щедро. В ожидании не забудьте занять условленные притоны. Если вы заставите меня не сдержать данное слово, я потеряю доверие министра, а с ним, черт возьми, закроется безвозвратно и мешок с пистолями.
– Мы займем свои места, мессир Лафейма, сказал нормандец: – но только после выпивки. Я, которому назначено наблюдать мост Вздохов, не намерен, Логребле глотать туман Сены, не заложив хорошего фундамента бургонским.
– Отлично сказано! воскликнули разбойники: – а золотые портреты до завтра.
Вскоре из закоптелой комнаты, где заседали эти молодцы, раздались веселые песни и звон стаканов.
Они ушли наконец но настоянию Лафейма, но не без нескольких ссор между собой. Шесть или пять утонченных, которых позвали тихим голосом, получили приказание стать за Сен-Жерменским аббатством, другие, нахлобучив шляпы и закрыв лицо плащами, отправились на разные притоны стеречь любезника с берегов Темзы.
Кардиналу служили хорошо, но у госпожи Шеврёз были агенты даже между слугами его эминенции, и если ревность короля имела уши в стенах Лувра, то преданность герцогини имела их в стенах кардинальского кабинета. Она была уведомлена о приказе, данном Лафейма еще до начала его исполнения. Тогда-то открылась борьба ловкости между министром и фавориткой. В то время, как государственный человек усиливался предупредить секретные свидания королевы с Бэкингемом, сострадательная дама употребляла все усилия, чтобы соединить любовников под покровом тайны. Искусные противники превосходили друг друга в этом случае. Правда, каждая сторона представляла достаточные поводы к беспощадной борьбе: с одной стороны любовь, кастильянки, гордые замыслы англичанина и интрига светской женщины; с другой, оскорбленное самолюбие, ядовитая ревность человека хитрого, двоедушного коварного и который мог решиться на все. Победа должна быть блистательная, и кардинал надеелся одержать ее. Анна Австрийская и английский министр не виделись ни минуты наедине: пространство, отделявшее Лувр от отеля Шеврёз, было тщательно наблюдаемо, а также и все подъезды дворца. У двери в апартаменты королевы стояли агенты кардинала в числи стражей и допускали к ее величеству лишь особ, которых нельзя было заподозрить в дружбе с фаворитом Карла I. Валь-де-Грас, который королева велела выстроить в 1621 г. для своих благочестивых уединений, был окружен другим отрядом Лафейма, как только эта государыня являлась туда: в то время никто не смел приблизиться, не подвергаясь осмотру, доведенному до самой нахальной дерзости, с целью увериться, что никакое переодеванье не благоприятствовало пробраться скрытно Бэкингему. Светские женщины или монахини, белицы или пансионерки должны были покоряться этому требованию, Если их сопровождал мужчина и хотел воспротивиться осмотру, его немедленно обезоруживали два или три противника и удаляли от места действия: и счастлив он, если удавалось ему отделаться, не получив тумаков, слишком жестоких для боков дворянина.
Отправлялась ли королева к герцогине Шеврёз, увлекаемая приманкой, тотчас же статс-дамы, камер-фрау и другие придворные дамы толпились около нее, заключали ее в оковы несносного этикета, с такою упорной готовностью, что ей невозможно было вырваться, не возбудив подозрения насчет своих тайных намерений. Для большей верности и гарантии, как только агенты Ришельё видели, что королева входила к госпоже Шеврёз, когда Бэкингем был в отеле, из отряда отделялся дворянин велел доложить о себе английскому министру и предупреждал его о посещении кардинала, по чрезвычайно спешному делу. Его эминенция, извещенный другим нарочным, являлись почти ту же минуту… В политике так легко придавать важности самым ничтожным делам, что французский министр никогда не стеснялся в поводах оправдать свой визит или продлить его по желанию.
Супруга Людовика XIII, которую фаворитка с трудом успевала освободить на несколько минут от аргусов, обманутая в надеждах, которые может быть завели бы ее за пределы обязанностей, удалялась, подавляя тяжелые вздохи, и, возвратившись в свое блестящее уединение, от фантастических грез сна ожидала образа невозможного счастья.
Таким-то образом королева Анна заставляла предполагать, по словам госпожи Моттвиль, что «признания Бэкингема были принимаемы, как вымышляют относительно богов, которые терпели жертвы людей, т. е. не дав угадать чрез оракулов, благоприятна или неблагоприятна была судьба обожателей.» Эта снисходительная истолковательница прибавляет впрочем, что «королева, не смотря на чистоту ее души, не могла избегнуть, чтобы не находить удовольствия в этой страсти, которой легкие наслаждения находила она в самой себе, которая льстила более ее славе, нежели оскорбляла добродетель.» Вот признанье, отлично прикрытое осторожностью; но не нужно обладать способностями оракула, чтоб узнать, что если бы случай поблагоприятствовал жертвам Бэкингема, то они не были бы ни менее полны, ни менее вполне приняты, как и жертвы Адонисса или Эндимиона.
Победа мало бы имела прелести, если бы ее не сопровождала пышность торжества; Ришельё, до сих пор побеждавший не смотря на присутствие интриги, любовь, захотел насладиться досадой своей хорошенькой противницы. Однажды утром госпожа Шеврёз увидела его у себя в кабинете. Черты кардинала, дышавшие злобной радостью, отражали внутреннее удовольствие; герцогиня почувствовала себя оскорбленной при виде этой торжествующей физиономии и дала себе слово; во что бы то ни стало унизить его эминенцию.
– Я пришел порадоваться с вами, герцогиня. Вот, господин Шеврёз, кавалер ордена Подвязки; дружба, которую оказывает ему герцог Бэкингем, приносит плоды. «Да будет стыдно тому, кто дурно об этом подумает»[14]14
Honny goit, qui mal’y pense – девиз ордена Подвязки.
[Закрыть]; знаете ли вы, что этот орденский девиз великолепен?
– Сознаюсь, монсеньер; но без всякого сомнения, полагаю, ваше эминенция, вы уже заслужили, чтобы вам было стыдно.
– Ах, вы думаете, любезная герцогиня, мне было бы не к лицу презирать приятный грех.
– Которого сами желали бы быть сообщником.
– Обязан бы сказать – нет; но небо иногда отказывает нам в добродетелях нашего звания.
– Итак, господин кардинал, вы делаете мне честь, полагая, что фаворит английского короля, из признательности, вышил подвязку моему мужу; и держу пари, что ваша эминенция находите оригинальное удовольствие думать, что эта подвязка заключает приятный обмен между домами Шеврёз и Бэкингемом.
– Я слишком дружен с вами, чтобы питать подобные мысли, я поддался им настолько, насколько прикажет ваше самолюбие. Но вот чего я никак не могу устранить из моих подозрений – это любви английского министра к королеве и, осмелюсь сказать, того старания, которое вы прилагаете, чтобы помочь успеху этого дерзновенного чувства.
– Этот советник еще дерзновеннее ревности.
– По крайней мере моя не может быть обвинена ни в каком недоброжелательстве: имея верные сведения, я мог бы оказать королеве весьма плохую услугу.
– Предупредив короля… Господин кардинал! Из любви к собственной фортуне вы не должны питать подобного намерения.
– Почему, герцогиня?
– Потому что объяснение поставит вас в зависимость от королевы, отвечала с жаром фаворитка.
– Вы думаете, герцогиня, сказал кардинал засмеявшись. Увы, продолжал он, более серьезным тоном и как бы с сокрушением: – да сохранит Бог Анну австрийскую от бедствий, которых могут ей приключиться, если по нескромности языка, от чего она, конечно, из благоразумия удержится, – она принудит меня вызвать против нее строгость Людовика XIII.
– И что же вы представите в доказательство своего обвинения: глупость, которую она позволила себе слушать ваши вздохи, получать ваши объяснения в любви.
– Слабые создания, сказал министр тоном, в котором слышались насмешка и веселость: – так этот-то оплот вы намерены поднять против такого как я неприятеля? Хорошо, я хочу, чтобы вы знали, герцогиня, что мне достаточно дунуть и он будет уничтожен.
– Если бы это было так, вы уже дунули бы.
– Нет, ибо если бы я сказал королеве, чего требует моя обязанность, королева была бы мгновенно поставлена в самое печальное положение, а заставить ее проливать горькие слезы не согласно с моими видами.
– Еще менее с вашими интересами, кардинал.
– Сознаюсь, если вы подразумеваете желание мое сохранить доброе расположение королевы, и сожаление, если мне придется не исполнять ее приказаний.
– А неужели вы окружите ее шпионами для того, чтоб ей нравиться?
– По крайней мере, для того, чтобы служить ей, и я убежден, что было бы благородно поблагодарить меня за это.
– Эта претензия…
– Вы приписываете ее тщеславию, и тут-то погрешаете. Без моих мер предосторожности Анна была бы уже скомпрометирована: разве вы не видели ее неблагоразумия у меня на бале?
– Допуская, что ваши меры предосторожности, как вы их называете, необходимы, я сомневаюсь, чтобы ее величество была довольна вашим поведением, столь оскорбительным для ее добродетели.
– Мало нужды, герцогиня: в качестве верного Слуги моему государю, я не перестану бодрствовать настойчиво: честь короля дороже всего министру, у которого есть сердце.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?