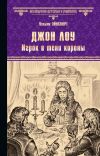Текст книги "Хроники «Бычьего глаза» Том I. Часть 1"
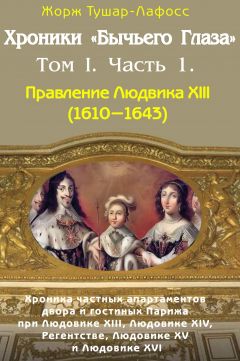
Автор книги: Жорж Тушар-Лафосс
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Глава VI. 1625
Красавица Кларик. – Капуцины. – Английская таверна. – Оливье Кромвель. – Возрастание реформации. – Лондон в 1625 году. – Барон Леклерк. – Пир реформистов. – Письмо Оливье Кромвеля. – Мятеж в Лондоне. – Сорванная маска.
Ошибочно предполагать, чтобы англичанки с их томным взором, томным видом, с их медленными движениями, не обладали такою же пылкою душою и могучими страстями, как и женщины других стран. Это вихрь, скрытый над поверхностью тихой воды. Графиня Кларик была женщина большого роста, стройного сложения, голубоглазая, со светлыми волосами и необыкновенно белой и прозрачной кожей, сквозь которую просвечивались голубые жилки. Альбани мог бы взять за образец эту красавицу с берегов Темзы, если бы хотел изобразить сладострастье. В тишине обыкновенной жизни, госпожа Кларик по-видимому лишена была энергии и живости; ее движения носили отпечаток беззаботной апатии. Но ничто не могло быть обманчивее этого спокойствия, которое можно приписать презрению графини к обычным светским отношениям. Едва только до ее сердца доходило впечатление, мгновенно вылетали из него тысячи искр, чтобы охватить ее воспламеняющееся существо; пробуждение в этой онемелой натуре вызывало бурю. Глаза, до тех пор полузакрытые длинными ресницами, сверкали мыслью и любовью. Эта англичанка, войдя в сферу страстей, находила свою стихию; она не признавала там препятствия: приличия, даже стыдливость удерживали ее весьма слабо; она делалась совершенно равнодушною к общественному мнению.
Таковой представляется красавица Кларик, в момент, когда будучи прелестнее, нежнее и может быть слабее всех своих соперниц, она вступила в короткую связь с Бэкингемом. Но эта страсть, по крайней мере со стороны министра, не замедлила подвергнуться участи всякого блаженства, для которого уже закрыта перспектива надежд и которое должно ограничиваться лишь поприщем испытанных уже наслаждений. Нежность фаворита сделалась многоречива, обильна уверениями и так сказать мало доказательна, когда он отправился чрезвычайным посланником, и мы знаем, с какой быстротой он при французском дворе надел новые цепи.
Молва, несущая на своих крыльях горе и отчаяние, летит гораздо быстрее, чем в то время, когда она несет какие-нибудь утешительные вести; госпожа Кларик скоро узнала о неверности ветряного Бэкингема. Потеря столь блистательной победы причинила этой даме жгучую боль, которую мгновенно усилило еще множество планов мщения.
Ришельё не было чуждо пи что, занимавшее общественное мнение, даже за границей, а поэтому он с удовольствием узнал о ревнивой досаде покинутой красавицы и дал себе слово извлечь из этого пользу. Отец Жозеф, превращенный в светского агента, повез письма к графине, с которою госпожа Комбалле и другие дамы сторонницы кардинала познакомились во время недавнего ее пребывания в Париже. Этого достаточно было для введения: ловкость монаха, хотя и неопытного на поприще волокитства, должна была по обстоятельствам опираться на гнев или на возрождающиеся надежды благородной англичанки.
Госпожа Кларик не рассчитывала иметь дело со вторым Петром Пустынником; она приняла Жозефа, как светского джентльмена, которого хорошенькая кокетка никогда не прочь подчинить влиянию своих прелестей. Ее неглиже, которого беспорядок она ни мало не позаботилась уменьшить, очаровало бы всякого другого человека; но в силу его природного бесчувствия, или по расчету, капуцин не дал прочесть на своем лице ни малейшего признака волнения. Неприученная к такого рода стоицизму, графиня была почти раздосадована этим, и кто знает, до какой степени, в этой нелегкой борьбе кокетства с невозмутимым спокойствием иностранца, она пустила бы в ход все маневры для одержания победы, если бы Жозеф не поспешил остановить ее тактики.
– Кардинал, герцог Ришельё, сказал он на чистом английском языке: – знает глубокое ваше блогочестие, графиня, и участье, принимаемое вами в герцоге Бэкингеме, как относительно его славы в этом мире, так и спасения в другом…
– Я ведь реформатка, перебила смеясь госпожа Кларик.
– Его эминенции это известно, но почитатели всех исповеданий – дети нашего Господа, и все поминаются в молитвах кардинала.
– Если память меня не обманывает, то я вам скажу, что это целит против папизма, ибо всеобщая любовь к ближнему не составляешь члена веры в той церкви, вне которой нет спасения.
– Я приехал к вам, графиня, не для напрасных споров; мое поручение очевидно проистекает из любви к ближнему.
– Я готова слушать вас, отвечала госпожа Кларик, которая, может быть подумала, что ее прелести мало влияли на посланного.
– Верите вы в ад, графиня?
– Иногда.
– А в рай?
– Гораздо чаще.
– Ах, графиня, какие речи!
– Я это сама думала относительно ваших, потому что мы здесь не у обедни и не на проповеди, а в будуаре, и ваша одежда не обличает ни протестантского пастора, ни католического исповедника. Я отвечаю вам не так, как у подножия алтаря, пли у кафедры, но как светская женщина перед своим туалетом, перед зеркалом и флаконом.
– Милосердие неба неисповедимо, сказал Жозеф, вздохнув глубоко.
– Кардинал-министр думал не раз об этом.
– Он поручил мне иметь честь говорить вам не о нем, но о герцоге Бэкингеме, и я уверен был, что встречу ваше благочестие, сказав вам, что первый министр милостивейшего Карла I погибнет душой и телом, если осмелится продолжать свои безумные намерения относительно сердца французской королевы.
– Конечно, погибнет; поведение его не извинительно, я нахожу, что оно гнусно, отвратительно.
– Я не ошибся сказал Жозеф с горькой улыбкой: – вот ваша религиозность возбуждена до высшей степени, и мы не можем не понимать друг друга. И так я заявляю вам крайнюю необходимость чтобы герцог был отозван немедленно.
– Кем отозван?
– Я полагаю достаточно приказами двора.
– Я на это рассчитывала всего менее.
– Однако твердой воли короля достаточно, чтобы герцог…
– Она рискует не подействовать также как и воля Людовика XIII на вашего Ришельё в Лондоне, как и в Париже скипетр монарха – перо первого министра.
– Я удивляюсь, что король, его повелитель…
– Он повелитель только по имени.
– Наконец Карл I, соединенный священный узами с августейшей Генриеттой Французской, покажет, что, по крайней мере, он может требовать…
– Чтобы Бэкингем скорее привез ему супругу? Заблуждение! Карл добр от природы: он вкусит наслаждения Гименея, в то время когда это будет угодно его первому министру, если впрочем Бэкингем не найдет этого несообразным со своими видами.
– Разве в Англии государь не господин, по крайней мере, в своем семействе?
– А разве он господин во Франции? Нет. В настоящее время самое ложе государей открывается лить по решению их советов. Поэтому необходимо придумать другие приемы в виду настоятельной необходимости переправить герцога через пролив; ибо не смотря на легкомыслие, с которым я говорил с вами при начале, я страстно желаю работать для его спасения. Поэтому постараемся, без замедления приискать средства, чтобы снова завладеть его сердцем.
– Его душой, вы хотели сказать, графиня. Если власть короны мало влияет на герцога Бэкингема, то должно влиять мнение общества. Я далеко не разделяю мысли, что человек, наделенный политическою прозорливостью, должен презирать предостережения этого царя над царями. У вас в Англии есть множество партий, которые из-за ничего готовы восстать против правительства, – куча горючего материала, для воспламенения которого достаточно искры. Не считая парламентаристов пламенных апостолов свободы, тенью которой только пользуется Англия, здесь действует шотландская партия, там волнуются еретические мысли пресвитерианцев, киввелистов, пуритан. В другом месте для истинной славы господней действуют римские католики, которых вы называете полуподданными короля по причине их преданности папе. Пусть только хоть небольшое движение, возбужденное искусной рукой, проявится с одной стороны, и герцог, мгновенно переправившись чрез Ла-Манш, вступит в лоно благочестия.
– Ваше благочестие действует немножко горячо. Я уверена, что для спасения одной души вы не задумались бы пожертвовать несколькими сотнями голов. Как хорошо вдохновение прямого паписта! Впрочем, это средство, при разумном употреблении, нам кажется, следует испытать, тем более, что Бэкингем, как только возвратится, немедленно затушить это пламя тревоги, зажженное для призыва его из-за границы.
– Конечно, отвечал с живостью капуцин, который думал совершенно другое: – и можно достигнуть цеди без значительных движений, если пустить в дело ловкого, энергического человека, готового броситься на рискованное поприще революции. Укажите мне такого трибуна, и если судьба не воспротивится нашим надеждам, то незначительный мятеж доставит возможность герцогу Бэкингему еще более увеличить свою власть и свою славу.
– Это надо предоставить воле провидения. Но вы являетесь от имени кардинала Ришельё, вы ему преданы: кто же мне поручится, что под вашими словами не скрыта какая-нибудь внука, вредная для чести моей страны?
– Я не буду сердиться на подозрение, которое могу уничтожить несколькими словами: слава Бога и спасение его создания – вот единственные поводы его эминенции.
– Я считаю вас человеком ловким, ибо кардинал и не послал бы другого. Поэтому вы уже поняли, что я присоединилась к вашей благочестивой дипломатии.
– Да, графиня, религия вступила в наши души путем обычных привязанностей.
– Прежде однако же, чем вступить с вами в союз на путь опасностей, я хотела бы знать положительно, что в этой встрече вы понимаете под религией?
– Я не замедлю ответить, графиня, и уверен, что насмешки, стыд и бесчестье, висящие над головой короля, моего государя – убедят вас в настоятельной необходимости усилий кардинала-герцога.
– Я и подозреваю, что такова настоящая причина вашего путешествия…Увы! будем ли мы в состоянии действовать благовременно и поспешно в интересах Французского короля. Пока вы переезжали сто миль, отделяющие Лондон от Парижа, любовь могла далеко уйти под руководством такого проводника как герцог, а если мы допустим предположение, что магнит, удерживающий его в Лувре, сохраняет всю свою силу, то придется выдержать сильную борьбу прежде, нежели восторжествуем.
– Зачем нам бояться за успех, выведите меня только на дорогу! воскликнул монах с живостью, обличавшею в нескольких словах его склонность к интриге.
– Послушайте. В конце квартала, где стоит Уайтголльский дворец, вблизи Уастминстера есть таверна, которую реформатские парламентаристы избрали для совещания о своих делах. Вы, узнаете этот дом с первого раза по его стеклянной галерее с полузанавесками из зеленой шелковой материи. В низкой зале табачный дым образует постоянное облако, среди которого, не смотря на этот удушливый воздух, совершают сделки купцы, ругаются моряки, спорят ученые, декламируют поэты, рассуждают политики, и все почти упиваются. Пройдя эту дымную залу, в которой также в значительной мере слышен запах различных спиртных напитков, вы очутитесь у невысокой лестницы с двойными перилами из полированного железа: она ведет в верхнюю комнату, где курят мало. Там-то собираются крупные игроки и отважные сторонники реформации: первые с растрепанными волосами, с измятыми чертами лица, со взором сверкающим от жадности или мрачным от отчаяния, смотрят на увеличивающиеся или уменьшающиеся кучи золота, покрывающие стол; между тем как другие, подперев руками голову, рассуждают, чаще всего вполголоса о том, что они называют правами народа. Из числа самых страстных между последними, вы сейчас заметите молодого офицера, лет двадцати пяти, шести, у которого в лице нет ничего благородного, манеры не грациозны, голос резкий, разговор почти гнусный, но физиономия выразительная, движения быстры, тон решительный. Если он в вашем присутствии вступит в спор, вы скоро будете поражены его энергией и жаром, обладающими способностью убеждения. Речь эта простая, неправильная, запутанная, которая сначала утомляла вас, возымеет над вашими мыслями и мнениями власть безотносительную, неодолимую. Человек этот называется Оливер Кромвель; бедное состояние до сих пор удерживает его в низших рядах армии, но он выйдет из этого положения как только решится выйти, он обладает могуществом, которое старые барды приписывали богам Севера в рунических песнях: он умеет вызывать бурю… С этим-то молодым человеком приятно устроить небольшой шум на перекрестках, простую демонстрацию мятежа, который, раздавшись по ту сторону моря, вызвал бы герцога Бэкингема в Англию.
– Я воспользуюсь вашим советом и надеюсь достигнуть цели, которую мы задумали для блага религии.
Последние слова монаха сопровождались лукавой улыбкой, смысл которой леди Кларик легко угадала.
– А так как в религиозных делах отвечала она тем же тоном: – наши чувства и веровании расходятся существенно, я озабочусь, когда вы приедете в другой раз, принять вас таким образом, чтобы ни ваш слух, ни ваши взоры не могли оскорбиться тем, что вы встретите у меня в доме.
Стыдливая застенчивость в челевеке уже пожилом, не носящем рясы, имеет в себе нечто такое странное, скажем более, такое неловкое, что отец Жозеф, несмотря на свое ханжество, не мог не покраснеть при ироническом обязательстве, принятом на себя госпожой Кларик. Он удалился не много смущенный, получив дурно скрытый упрек от одной из красивейших женщин Великобритании, с которым она, может быть первый раз в жизни, обращалась к кавалеру и что еще более – к кавалеру французскому.
Недолго, однако же, продолжался слегка светский стыд монаха; дикая суровость овладела им прежде чем он вышел из отеля графини. Тогда его фанатизированное воображение, где тайно напечатлелось воспоминание прелестей, представлявшихся ему, разгневалось на нечистый образ, осквернивший его. Мучимый благочестивым укором, в то время как, может быть, самое грешное желание тревожило в нем ту человеческую натуру, которая пробуждается тем стремительнее, чем долее она спала, Жозеф волновался самыми бессвязными ощущениями… По дороге попалась ему католическая часовня, он бросился в нее и пав ниц у подножия алтаря, старался успокоиться. Он не думал во время продолжительной молитвы выпрашивать милосердия Божьего для задуманного им дела; вызвать мятеж, открыть путь потокам крови, зажечь может быть все государство, с единственною целью польстить ревности монаха – казалось дипломату – капуцину обыкновенным политическим средством. Предлог, честь французского короля, прикрывал этот заговор своим обманчивым газом, а этого было довольно для гибкой совести клеврета Ришельё. «И если ад, думал он: – имеет мстительное пламя для государственных людей, то оно предназначено кардиналу; он душа искушения, я только его орудие… Отирают кровь, обагрившую убийственный меч, и сталь принимает прежний блеск: таким образом пассивный агент преступления очищается молитвой».
Отец Трамблай, по выходе из часовни, поспешил в уайтголльскую таверну. Ему не трудно было узнать Оливера Кромвеля: графиня Кларик очень верно начертала портрет этого офицера. Сидя одиноко у стола за кружкой портеру, пламенный парламентарист, казалось, ожидал собеседника, который мог доставить ему единственное удовольствие – горячий спор о современных делах. Рассчитывая, что невозможно было найти более благоприятный случай завязать знакомство с Оливером, Жозеф вежливо попросил у него позволения сесть за один стол, и тотчас же потребовал кружку пива.
– Гостеприимство таверны мало достойно замечания, сказал Кромвель довольно чисто по-французски – язык, на котором он из любезности заговорил с иностранцем, узнав в нем француза по физиономии.
Оливер тотчас же подвинул кружку к новому соседу. Монах выпил.
– Вот приемы, которыми вызывается странная откровенность честного британца, отвечал Жозеф, поставив на стол кружку. – Я заблуждаюсь, или это была бы грубая ошибка – видеть подобную искренность у царедворца… Готов держать какое угодно пари, что я имею честь говорить с одним из тех отважных реформистов, которые, конечно весьма резонно, возбуждают движение в каждом благомыслящем человеке.
– Вашу руку, сударь, сказал молодой человек, протягивая свою сообщительному иностранцу: – мне приятно видеть в вас одного из тех верующих, которые иногда дают чувствовать голову овна пастуху, который запирает их.
– К черту папу! сказал коварный монах, наклоняясь к уху Кромвеля: – и да здравствует свобода!
– Клянусь библией я рад познакомиться с вами: мы с удовольствием побеседуем об одной главе, которая мне очень нравится и которая вам не будет неприятна. Будем-те продолжать вести речь по-французски: эти живые машины, жующие близ нас свой тяжелый обед и толкующие о своих тяжелых делах, недостойны слышать нашего разговора. Я их очень хорошо знаю: они составляют часть глупого скота, который пасется с возмутительной беззаботностью всюду, где привяжет их рука хозяина. Рассуждать при них значит метать бисер…
– Скот, попадающийся во всех государствах, жующий траву у своих ног, потому что не смеет поднять головы… Но во всех государствах также встречаются люди с сердцем, способные освободить стадо. Искра, воспламенявшая Брутов, Риензи, может блеснуть снова.
– Будь я проклят, если не считаю вещь возможной, особенно в Англии, сказал Кромвель, понижая немного голос.
– А я смотрю на это дело как на близкое, если явится один из тех парламентаристов, которые имеют столь возвышенные понятия о свободе, один из этих нивелистов, которые смотрят с негодованием, что люди, созданные по одному образу, волнуемые одними страстями, подверженные одним болезням, идущие в могилу одним и тем же путем, не имеют равной доли на жизненном пире.
– Без сомнения, честный француз, но многие найдут препятствия в отсутствии условий, необходимых для верного успеха…
– Истинное величие чаще заключается в том, чтобы парить над препятствиями, а не нападать па них.
– И кто ж дерзнет ввериться своим крыльям, чтобы отважиться на такой смелый полет?
– Во Франции, может быть, я, а в Англии вы!
Молодой офицер вздрогнул; могущественное воспоминание словно ожило в его памяти и покрыло его щеки ярким румянцем.
– Не знаю, сказал Кромвель с увлечением: – но ваш разговор запечатлел редким превосходством, и высказываемый чувства редко выходят из сердца изменника. Я должен вам рассказать один странный случай в моей жизни. Два года назад я был дежурным в Уинд-зоре. Ночь еще не наступала, но, будучи утомлен многими обычными обходами вокруг замка, я прилег в большой зале совета, предшествующей королевской комнате. Я не чувствовал ни малейшего желания заснуть, а задумчиво смотрел то на потолок, на котором короли велели нарисовать льстивые аллегории того, что они называют славой их царствования, то на стекла окон, которые тщеславие покрыло пышными гербами. Вдруг человеческая женская фигура[15]15
Это видение Кромвеля исторический факт, засвидетельствованный многими писателями: он сам подтверждал его словесно и письменно. Привидение, говорят, ограничилось объявлением, что он будет первым человеком в королевстве.
[Закрыть] явилась мне в полусвете раскрашенных стекол; на длинном белом ее платье показались в живом отблеске различные цвета этих прозрачных изображена. Я приподнялся, но видение не исчезало. Я поочередно щупал все свои члены, чтобы убедиться, не сплю ли я, а женская фигура все стояла передо мной… Как она была прекрасна! Чужестранец, я никогда не полюблю, или моя возлюбленная будет похожа на нее. «Оливер Кромвель, сказало мне прелестное видение, голосом, нежные звуки которого быстро проникли мне в сердце: – ты теперь служишь, но придет время, ты будешь повелевать. Кромвель, судьба назначила тебе место очень высоко. Несколько лет еще упадут в бездну вечности, и ты будешь первым в Англии». Потом, указав на стол, вокруг которого обыкновенно заседал совет, таинственное существо прибавило: «Ты будешь сидеть там выше всех министров королевства… Оливер, ты будешь правителем». С этими словами видение рассеялось словно пар; я остался один с моими мыслями, которые волновались часа три как вихрь, над этим бездонным, беспредельным океаном, называемым «Непостижимостью», в котором утопает всякое воображение.
– Vir fortissimus! – воскликнул отец Жозеф, под влиянием восторга, который легко было возбудить в нем: – вы получили откровение вашей будущей судьбы посредством пророческих слов этого призрака… Я тоже имел странные видения, и, сколько их помню, мог бы и себя считать предназначенным к великим подвигам. Кто знает, может быть в то время, когда вы заставите развеваться на всех морях торжествующий флаг Великобритании, я может быть понесу до самой Азии знамя Франков…
Потом как бы сожалея, что был слишком откровенен с человеком, который, конечно, не одобрил бы ни его крестового похода, ни всемирной империи католицизма, монах продолжал более спокойным тоном:
– Но возраст убелил мою голову прежде, нежели слава увенчала мое чело лаврами, и может только в небе суждена эта награда. Но вы, благородный англичанин, вы в полном цвете молодости, способные воспламеняться этими лестными мечтами, спешите, не теряя времени, на встречу обещанной вам славы.
– Не в одном случае я пламенно всеми силами старался найти к ней дорогу, отвечал Кромвель, глаза которого сверкали выразительно: – и может быть нашел бы ее… Но, увы, продолжал, вздохнув, парламентарист: – в наш алчный век сторонники помогают лишь тому, кто может купить их: кто владеет золотом, тот достигнет и власти, а меня фортуна обделила в этом случае.
– Выйдем отсюда; то, что мне остается вам сказать, может быть подвергнется риску в присутствии этих свидетелей, ибо язык моей страны некоторым знакам, а ложные братья изобилуют при всяком случае.
– Хорошо, уйдем из этой таверны… Здесь тесно мыслям и не достает душе простора. Недалеко течет Темза, отправимся на берег. Наступает ночь, и нам может мешать только ветер, пробегающий но волнам.
Через несколько минут оба собеседника вышли на берег; тогда еще там не было великолепного Уэстминстерского моста – лучшего произведения новейшего искусства. Река в этом месте протекала свободно, но саженях в ста ниже на ней стояли тысячи купеческих кораблей, мачты которых стройно вырисовывались на небе, озаренном лунным светом. Возле заговорщиков возвышалось почерневшее от времени готическое аббатство, где покоятся короли и рядом с ними увенчанные гениальные люди.
– Молодой человек, сказал Жозеф, протягивая руку к этому старинному памятнику: – знаменитости Англии дожидаются вас на этом последнем месте свидания… Вам сказал об этом уиндзорский призрак.
– Незнакомец, ваши слова заставляют дрожать малейшую фибру в моем сердце. Ваше красноречие может немедленно возбудить вдохновение, дремлющее у меня в душе. Но, увы, никакое обольщение не в состоянии изойти из моих рук…
– Если вам нужно золото, я вам доставлю его.
– Вы?
– Мое состояние ограниченно, однако же, не расстраивая его, я могу уделить десять тысяч экю: они ваши, если вы мне дадите слово, что послезавтра возникнет в Лондоне движение.
– Срок очень короток.
– Знаю, но я уже вступил в обязательство с кальвинистами Ла-Рошели я Монтобана, людьми, которых преследования двора довели до крайности. Благоразумие заставляет и меня спешить, и лондонское восстание должно быть сигналом для этих реформистов.
– По-моему, это великолепная комбинация.
– Провидение, может быть, поручило нам с вами изменить поверхность этих двух могущественных держав мира. Если предложенная сумма не может доставить того, что называется партией, говорите…
– Вы хотите смеяться: с сотней гиней я успею упоить половину нижней палаты, бурные движения которых распространят жаркую тревогу в Унидзоре, а остальными двумя подкуплю тучу низших парламентаристов, которые побегут по городу с громкими криками. Перчатка будет брошена. Если этого пороху недостаточно будет, чтобы зажечь революцию, надобно тогда отказаться от цели, которая значит, еще очень далеко; мне будет очевидно, что мы хотели сорвать плод еще незрелый. Свободные британцы принуждены будут еще таить злобу в сердце, но, по крайней мере, они будут знать, где искать точки опоры при более благоприятной встрече.
– Это может на некоторое время обеспечить исполнение моих намерений, а впоследствии мою помощь вам в успехе.
– Я и буду на нее рассчитывать, так как и вы должны полагаться на меня во всех случайностях.
– Может быть недалек день, когда я вам напомню это обещание, сказал капуцин с заметным жаром.
Посланец кардинала в этот момент находился под влиянием человека, который в своем восторге бредил царством христианства, и, не снимая своей маски лицемерия даже пред лицом неба, Жозеф думал опереться на кельвиниста, чтобы помочь успеху католического священника, который внезапно в нем проснулся. Потом, оценив более основательно затруднения, которые могли встретиться его исполинским видам, он прибавил:
– Но, капитан Кромвель, у нас ведь во Франции есть Ришельё!
– Всегда Ришельё!.. Но, да осудит меня Бог, если этому аббату во сто раз не преувеличивают чести, считая его страшным.
– Вы его плохо знаете.
– Напротив, знаю очень хорошо. Послушайте: кардинал – это колосс на глиняных ногах. Его превосходство, как и у лисицы, основывается единственно на хитростях и обмане. И посмотрите, что делаемся с лисицею, если ее настойчиво преследуют смелые охотники: И я нигде не видел, чтобы фортуна, как бы возвышена ни была, могла существовать без силы; а ваш поп – похититель власти – слаб. Кто его поддержит, если какая-нибудь могущественная партия, как например, кальвинизм, нападет на него с энергией, помимо этого фанатизма, который один не ведет ни к, чему. Вельможи? Но он их унижает. Нация? Она его ненавидит. Чужестранцы? Но Ришельё заставил их ненавидеть лукавую политику. Чтобы тирану быть сильным, необходимо казаться популярным, а иначе три мальчика, которые осмелятся поднять решительно знамя над головой, свалят этого властелина, с высоты его могущества. О, я хотел бы, чтобы наша высокомерная держава представляла так же мало прочности, и как ваш деспотизм в красной рясе! Я, простой офицер, темный гражданин, затерянный в толпе, только бы дунул и она повалилась бы. Но министры наши, не столь утонченные как ваши, не менее однако же проницательны: они умеют опирать королевскую власть на лелеемую, разбогатевшую аристократию, которая в свою очередь лелеет и обогащает все, что есть нечистого в народе, и таким образом посредством передачи подкупа угнетение в Англии продержится до тех пор, пока благородная, сильная рука не раскроет глаз честной нации, которая против желания подчиняется такой печальной судьбе.
– В Великобритании возможна революция: у вас есть народ. Людовик XIII, или скорее его министр, считает только подданных.
– Может быть.
– Но разве же нельзя создать во Франции любви к народу?
– Может быть… Но будет основательно предполагать, что явится человек, который сумеет обуздать ее, воспользовавшись ею.
– Души наши сошлись вполне, сказал Оливер, крепко пожимая руку монаху.
– Возвратимся к нашему восстанию. Я доверился вам касательно бунта, готового вспыхнуть во Франции: искра, которой я требую у вас, может зажечь его. Я живу в Странде. Проводите меня туда и получите условленную сумму.
– Я за вами следую.
И заговорщики пошли на квартиру отца Жозефа, по улицам, где еще не было, как теперь, тротуаров, явившихся столетием позже, мимо кирпичных домов, закоптелых от угольного дыма. Они часто спотыкались на неровной мостовой, ибо Лондон освещался тогда лишь фонарями сторожей – блуждающими огнями, мелькавшими там и сям во мраке.
Входя в комнату, отец Трамблай дал знать удалиться слуге, отдыхавшему у камина.
– Слушаю, отче, отвечал слуга легкомысленно, если, не лукаво, за что на него посмотрели свирепым взором.
Титул не ускользнул от Кромвеля. По свойственной ему проницательности, он возымел подозрение, которое в течение нескольких секунд заставило его задуматься. Но совершенное спокойствие быстро появилось на его лице и опытный глаз монаха мог видеть, что если английский реформатор и побоялся на мгновение быть скомпрометированным, но ум его быстро в себе самом нашел средство против всякого страха.
– Капитан, – сказал Жозеф с прежней уверенностью, словно он ничего не заметил в игре физиономии Оливера Кромвеля: – в этом мешке десять тысяч экю золотом… возьмите их. Я имею ваше слово, и я больше ничего не требую.
– Я никогда не изменял ему. Но, – прибавил Кромвель, как бы по вдохновению: – теперь кажется пора мне узнать кто вы.
– Я барон Леклерк[16]16
Отец Жозеф действительно назывался Леклерком, но мало известен под этим именем, а когда: жил в свете, его называли барон Трамблай
[Закрыть]; но между нами имя не много поможет делу.
– Вы правы, и если я спросил ваше, то для того, чтобы знать, как осведомиться о вас, придя в дом. Впрочем я хочу объяснить вам, что никогда в жизни я не боялся измены, потому что никогда ничего не предпринимал, не устроив против нее гарантии
– Теперь это было бы излишним, – сказал Жозеф с довольно откровенной улыбкой.
– В этом я бесспорно убежден. Кстати! Облегчим немного это бремя золота; я уже представил довольно ясно счет издержкам для моего предприятия; прибавим несколько десятков пистолей на непредвиденные расходы, и это приведет нас к трем тысячам экю. Вот все, что я беру. Я полагаю, вы, барон Леклерк думаете, чтобы Оливер Кромвель продавал свое усердие. Меня одолевает непомерная страсть работать для освобождения моего отечества; небольшое движение в Лондоне удобное чтобы вызвать на свет друзей, которых я ищу, согласуется случайно с вашими замыслами; я получаю за него щедрое вознаграждение; но позвольте заметить, что собственное удобство, прежде всего, побуждает меня к этому делу. Я вкладываю решимость, вы вкладываете деньги; мы совместно обсудим средства или, если вам нравится лучше выражение, – союз. Следовательно, не нужно взаимных разведок, ибо каждый из нас действует в смысле собственного интереса. Если это соглашение для вас удобно, мы можем не раз к нему возвратиться. Прощайте! бесполезно было бы видеться нам завтра: я уверен, что вы узнаете что-нибудь обо мне до вечера.
Здесь папист и кальвинист, которые так хорошо сошлись под влиянием их взаимного честолюбия – в последнее время Жозеф всегда почти следовал порывам своего – папист и кальвинист чрезвычайно довольные друг другом, обещали встретиться послезавтра рано в уайтгольской таверне.
Кромвель был слишком опытен, чтобы приглашать влиятельных реформистов нижней палаты на пир, какого он, простой офицер, не имел уважительной причины предлагать им. Оливер поручил одному из их товарищей, с которым был дружен, пригласить их от имени последнего. Ни один парламентарист не преминул принять приглашения В XVII столетии, особенно у англичан, были в большой чести роскошные пиры, переходившие в оргии. Почти постоянные войны довели тогда людей до стесненного положения, так что мысль о завтрашнем дне казалась еще сомнительной. Поэтому рождалось жадное желание насладиться благами, которые могли каждую минуту ускользнуть, и неумеренность льстила, тем более, что заставляла забывать неверное будущее. Собрание реформистов нижней палаты увеличилось известным количеством нивелиров, чуждых почестям представительства, посреди которых не находился осторожный Кромвель. Оно было шумно от звона стаканов и горячности патриотических тостов; потом оно окончилось бурным движением, которое, вследствие опьянения, сделалось враждебно власти. Знамена британских цветов, но без королевского герба, по обычаю, выставлены снаружи открытых окон пиршественной залы; по обычаю также пировавшие, с салфетками на шее, со стаканом в руке, с раскрасневшимися лицами выходили на балкон проповедовать народу, собравшемуся у дверей таверны. Энтузиазм, произведенный этими пьяными речами, вскоре обнаружился среди масс, впрочем, оживленных и подогретых обильными возлияниями портера. Щедро заплаченные коноводы разделили плату; многочисленные толпы начали шумно бегать по городу; со всех сторон слышались крики: «Да здравствует свобода! Да здравствуют наши храбрые парламентские реформисты! Долой роялистов! Смерть папистам»! По временам звенели стекла магазинов, принадлежавших противникам реформы, а на некоторых перекрестках жгли изображения знатных сторонников двора, и главным образом первого министра.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?