Текст книги "Трон и любовь. На закате любви"
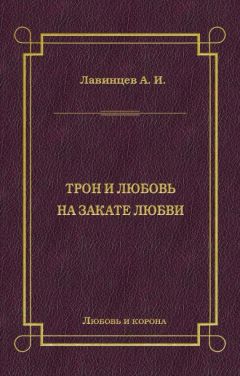
Автор книги: А. Лавинцев
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
XVII. На все готовый
Он остановился, как бы ожидая, что скажут в ответ на его речи Софья и Голицын. Правительница сидела понурившись, князь Василий Васильевич усмехнулся, насмешливо поглядел на Шакловитого и спросил:
– А ты сам-то, Федя, веришь этому? Веришь ли, что человек может с сухими костями другого человека беседу вести и от этих костей целому городу что-нибудь худое приключиться может?
– Прости меня, князь Василий Васильевич, – неприязненно взглядывая, ответил Шакловитый, – о том, что в царевых войсках происходит, я государыне нашей доклад делаю и ни одного слова о том не лгу, а верю я тому или нет про то я сам знаю…
– Ты меня прости, Федя! – остановил его князь. – Ведь это я все к тому сказал, что человеческий костяк ты и у меня в палатах видел. В той же самой Немецкой слободе он мною куплен, и оба мы с тобой по нему разбирали, где у человека какая кость находится…
– Опять-таки, – перебил его стрелецкий вождь, – про то я тебе ничего не говорю. Я лишь про то рассказываю, что в стрелецких приказах, караулах да слободах говорят. А что об этом говорят, так, ежели хочешь, сам послушай. Вот пойдем, проведу я тебя в любую слободу, ты и услышишь сам. А что царь Петр Алексеевич на Москву смерть насылал, так об этом все стрельцы во весь голос кричат и на Преображенское идти собираются. Как бы беды какой не вышло… Вот сегодняшнею ночью около самых царских палат дважды избы загорались. А кто поджигал?.. Судом спрашивать будете – ничего не скажу, а ежели так побеседовать, по душам поговорить, так и это мне ведомо… А еще вам скажу: по всей дороге от Преображенского до Москвы нарышкинского царя караулят… Должен же я вам рассказать обо всем этом… Если беда случится, с кого спросится? Все с меня же! А я в ответе быть не хочу; как вы мне укажете, так и будет. Только одно мое последнее слово: не сдержать мне стрельцов. Ну, там день-другой как-нибудь уговорю, а дальше мое слово бессильно будет, не послушают. Приказывай, матушка-царевна, как быть? Поставь вместо меня другого; может быть, он лучше со стрельцами управится, а мне невмоготу.
Шакловитый замолчал. Софья, хоть она и ненавидела брата, все-таки не осмеливалась сказать решающее слово и боязливо взглядывала на своего фаворита. Но лицо того по-прежнему было совершенно спокойно и бесстрастно.
– Вот что, Федор, – сказала царевна, – больно ты великое дело нам доложил, как и быть – не знаю. Нужно бояр созвать и с ними порешить, а без них что я?
– То-то, матушка! – восторженно воскликнул Шакловитый. – Да ты на народ свой напраслину взводишь. Все мы – твои рабы и дети, за тебя животы наши положим. Хотим мы, чтобы ты над нами была царицей, а Нарышкиных не желаем. Решись, слово скажи – и все по-твоему будет.
– А Москва? – тихо и робко спросила царевна.
– Что Москва? – выкрикнул Шакловитый. – Москву и в счет ставить нечего: Москва туда пойдет, на чьей стороне одоление будет. А Нарышкины? Что они сделать могут?
– Слышишь, сердечный друг, что говорит Федя? – обратилась к Голицыну Софья. – Не то ли самое и я тебе говорила?.. Нет более сил терпеть мне такую муку… Да и зачем терпеть ее? По отцу Петр – брат мне… Но что же это за родство? Ведь я ему ненавистна так же, как и он мне… Но пусть я и он… что мы? Мы – только смертные люди… Но за нами стоит Русь… Если сдам я царство Петру, что из этого будет? Все он по-своему перевернет и переломает всю землю нашу так, что кусочка на кусочке целого в ней не останется… И ослабеет Москва, всякая смута разведется… А соседи кругом так и сторожат нас… И будет то, что уже раз было: новое лихолетье настанет. Все на нас кинутся и будут наследие нашего брата, отца и деда растаскивать… Вот что будет, если Петр на царстве останется… Того ли ты хочешь? Или не жалко тебе ни земли нашей, ни народа родимого?
Все это Софья проговорила с яростной пылкостью. Голос у нее был грубый, почти мужской, соответствовавший ее высокой, мужественной фигуре. Произнося слова, Софья то и дело повышала тон. Ее грудь от волнения высоко-высоко вздымалась, глаза сверкали, голова слегка тряслась.
Князь Василий Васильевич, к которому она обратила свой вопрос, ничего не ответил ей; он только как-то особенно смотрел на любимую женщину. Видимо, нравилась ему эта пылкость и он любовался тем оживлением, которое делало красивым лицо Софьи.
Восторженными глазами следил за правительницей и Федор Шакловитый. Он, сам по своей природе страстный и впечатлительный человек, тоже был охвачен волнением.
– Матушка-царевна! – пылко воскликнул он. – Великую правду ты сказать изволила! Сам Господь глаголет твоими устами. Дедовщиной только и держится наша Русь. Всякие новшества – гибель для нее, и погибнет она, если твой брат на царстве будет… Чует это твое стрелецкое войско и не хочет, чтобы твой брат от Нарышкиной царем был… Повели только – и спасем мы нашу родину от нового смутного времени… Все будет ладно, слово только скажи! – И он снова устремил на Софью свой пылающий ожиданием взор.
Но царевна молчала: страшно было то слово, которого требовал от нее этот человек.
Однако все-таки нужно было дать ответ… Софья взглянула на Голицына; князь по-прежнему был бесстрастно спокоен.
– Ступай, Федор. Иди, – проговорила правительница, потупляя взор, – а мы тут еще об этом подумаем, да я потом позову тебя.
Шакловитый в пояс поклонился Софье, отвесил почтительный поклон князю и вышел из покоя.
XVIII. Надорванная мощь
После ухода Федора Шакловитого и царевна, и князь Василий несколько времени молчали. Видно было, что их обоих охватывали тревожные, мутившие их дух, лишавшие их покоя мысли.
– Ну, что ты скажешь, оберегатель? – подняла наконец опущенную голову неукротимая царевна. – Вот ушел Федя, а неведомо, что он нам назад принесет.
– А то скажу, Софьюшка, – мягко и даже нежно ответил князь Василий Васильевич, – что боюсь я, как бы беды не было.
– Беду ты провидишь, – воскликнула Софья, – или боишься ты?!
– Пожалуй, что и боюсь, Софьюшка, – по-прежнему ласково проговорил князь, – и как не бояться? Ведь против царя с пьяной сволочью идти мы с тобой задумали.
Царевна презрительно засмеялась.
– Не холопья ли кровь в тебе заговорила? – воскликнула она.
– А что же? – совершенно спокойно отнесся к этому явному оскорблению Голицын. – Ведь мы, бояре, все – холопы царей… Пока царей не было, мы ближние люди при великих князьях были, а потом блаженной памяти государь-царь Иван Васильевич воочию показал нам, что мы только – холопы. Так с тех пор и повелось… Служим мы своему господину и от него жалованье свое получаем. И не у одних нас так, – так везде. Зарубежные-то государства я знаю. Там то же самое. Тамошние-то вельможи – холопы еще хуже.
– А я-то как же ничего не боюсь? – перебила его рассуждения Софья Алексеевна. – Мне, кажись, более всех бояться должно.
– Да по тому самому, Софьюшка, что ты Петру – сестра, а не холопка… Вы с ним равные… Одна кровь, одна плоть… Оба вы, как себя помнить начали, нами повелевали, а сами, кроме батюшки да матушки, никого не слушались.
– А вот люблю же я тебя… холопа! – воскликнула пылко Софья. – Вровень пред Богом стоим, хоть и не венчаны…
– Только пред Богом, Софьюшка, – мягко возразил Голицын, – только пред Богом, а не пред людьми… А пред Ним, Многомилостивым, и царь, и смерд одинаковы. Перед людьми же, родимая, никогда вровень нам не стать… невозможно. Не так люди на земле устроились, чтобы все вровень стоять могли. Вот и теперь начнет Федя смуту, а что выйдет? Одни люди за тебя пойдут, другие – за царя Петра Алексеевича, а третьи – ни к нам, ни к царю не примкнут, будут выжидать, кто верх возьмет. И беда будет, Софьюшка, ежели не нам верх останется.
– Не пугай, оберегатель, – холодно произнесла царевна.
– Не пугаю, а размышляю, царевна мудрая, – в тон ей ответил князь, – оба-то мы с тобой не столь уже молодые – вот у меня вся голова седая, – чтобы без размышления на случай один полагаться. Случай слеп, летает быстро, не всякому в руки дается. А посему, надеясь на лучшее, ожидай допреж сего худа: лучшее само придет, а от худа оберегаться надобно.
Царевна на это ничего не сказала. Ее голова опустилась на грудь, пальцы рук судорожно перебирали складки богатой одежды.
– Вон, – произнес Голицын, – приднепровский гетман едет… Поистине гость хуже татарина, а принять его надобно…
– Ах, что мне до Мазепы, – с внезапным порывом воскликнула Софья Алексеевна, – что мне до нарышкинца! О тебе, свет очей моих, Васенька, думаю, за тебя страшусь… что с тобой-то будет, ежели наше дело удачи не найдет.
– Что будет, то и будет! – спокойно проговорил Голицын.
– Тебе хорошо: мудрый ты, – чуть не плакала эта неукротимая женщина, – а мне каково? Как придет на мысль, что прикажет тебя казнить брат мой, ежели верх его будет…
– Что же, – по-прежнему спокойно отозвался князь, – умереть сумею… Мне ли плахи бояться, ежели она мне немало служб справила! Сам под топор лягу.
– И надорвется тогда сердце мое… Ты под топор, из меня дух вон… Столько ведь лет…
Волнение пересилило ее. Куда девались ее неукротимость, непоборимая мощь! Сказалась женщина, и слабая женщина, сжигаемая страхом за того, кто дорог ее сердцу.
Она приникла своей большой черной головой к широкой груди князя Василия Васильевича и зарыдала, громко зарыдала.
Голицын даже вздрогнул от удивления. Он не раз видел Софью Алексеевну в слезах, но то всегда были не жалкие слезы отчаяния, – в прежних слезах неукротимой царевны изливалась досада, находил себе облегчение гнев. Таких слез князь Василий Васильевич еще не видывал.
– Полно, Софьюшка, полно! – гладил он по голове, как ребенка, плачущую царевну. – Перестань тревожить себя раньше времени… Кто там знает, что заутро будет… Может, все по-нашему выйдет, а ты убиваешься.
Царевна продолжала рыдать.
– Софьюшка! – вдруг воскликнул вне себя от удивления Голицын. – Да ты как будто и сама в затеянное не веруешь?
– Ах, – ответила сквозь рыдания царевна, – чует мое сердце недоброе…
Она отстранилась несколько от князя и, как будто успокоившись немного, отерла слезы.
– Вот чего я более всего боялся! – медленно и торжественно проговорил оберегатель. – Мощный дух надорван, веры в удачу нет… Теперь и я завтрашнего утра страшусь.
– А все-таки, – со злобой воскликнула Софья Алексеевна, – что там ни будет, а до конца пойду… Князь Василий Васильевич…
– Что, царевна?
– Поклянись мне на одном тем, что тебе дороже всего, поклянись!
– В чем клясться приказываешь?
– Исполнишь ты, ежели удачи нам не будет, то, о чем я тебя просить буду?
– Царевна! И без клятвы знаешь, что исполню я…
– Нет, ты все-таки поклянись… Что тебе дороже всего? Да не теперь, Васенька, а потом… потом, когда беда настигнет… – Она остановилась и вопросительно поглядела на Голицына. – Ну, чего же ты, Василий, молчишь! Отвечай, что тебе будет и в беде дороже всего?
Князь Василий Васильевич и на этот раз медлил ответом.
– Трудное ты меня спрашиваешь, Софьюшка, что мне дороже всего… Хорошо, отвечу тебе по всей совести: дороже всего была мне любовь твоя… да! Как оглядываюсь я назад, на те годы, что уже прошли, и вижу я в их тумане одну звезду – твою, царевна ненаглядная, любовь… А что впереди? Ой, ты вот сразу сказала то, что я с самого начала на уме держу: плохо я верю в удачу нашу… По всем видимостям так выходит, что за брата твоего больше народа стоит, чем за нас с тобою… Так что же вернее всего ждет меня впереди? Может быть, плаха да топор, может быть, опала лютая, застенок, может быть… Так вот что я тебе скажу: в хомуте ли на дыбе, на плахе ли под топором, в опале ли лютой, куда бы ни послал меня твой брат, нас одолевши, память о твоей… о нашей любви… лучезарным солнцем всегда сиять мне будет… И умру я, счастливые наши дни вспоминая… Вот что мне дороже всего… И этим, ежели приказываешь ты, поклянусь я тебе на том, что исполню все по слову твоему.
Софья так и вздрагивала вся, слушая Голицына. На ее лице сияли и радость, и счастье, и восторг.
– Васенька! – воскликнула она, бросаясь к Голицыну и обнимая его. – Верю тебе! Счастлива я твоим словом…
Она и плакала, и смеялась; по ее лицу опять струились слезы, но это были уже слезы восторга. Голицын тоже был взволнован. Его красивое лицо было грустно.
– Так скажи мне теперь, Софьюшка, – проговорил он, – какое ты дело мне наказываешь, ежели худое выйдет.
– А вот какое, Васенька, – воскликнула Софья Алексеевна, – помни, что поклялся ты мне и что я твою клятву приняла.
– Сказывай, царевна, не томи.
– Ежели худое выйдет, – страстно заговорила Софья, несколько откидываясь назад и зорко впиваясь глазами в лицо любимого человека, – и брат-нарышкинец надо мной верх возьмет, так должен ты, князь Василий Васильевич, поехать к нему с повинной и челом ему о его милости ударить и тем свою жизнь спасти…
– Что! – воскликнул Голицын. – Ты этого от меня требуешь?
– Требую этого, и поклялся ты мне, что исполнишь… Ты, ты мне всего дороже… Хочу, чтобы жив ты был… Я с ним, с братом Петром, пока не преставлюсь, бороться буду и, кто знает, быть может, верх возьму еще… Так на что мне над врагом одоление, ежели тебя на белом свете не будет… Хочу, чтобы жив ты был… У брата есть кому и похлопотать за тебя, князь Борис – двоюродный братец тебе, а он у брата Петра в милости.
– Софьюшка! – только и вымолвил Василий Васильевич.
Он привлек к себе эту могучую женщину, и оба они зарыдали в объятиях друг друга…
XIX. Не разгоревшийся пожар
А Федор Леонтьевич Шакловитый уже начал то дело, в успех которого почти не верили ни неукротимая царевна, ни Голицын.
Он вышел из царевнина покоя страшно взволнованный.
Его лицо быстро изменило свое выражение, губы что-то шептали. Не кланяясь никому, с высоко поднятой головой вышел он из дворца. Там у крыльца его ждала свита – богато разодетые стрелецкие головы и дьяки стрелецкого приказа. Не взглянув на них, Шакловитый вскочил на подведенного коня и нервно рванул его за поводья. Видно было, что он волнуется, и все, бывшие с ним, успели заметить это.
– Эй, Шошин! – крикнул он, подзывая к себе одного из дьяков. – Поезжай рядом, поговорить нам надобно.
Шошин, сопровождаемый завистливыми взглядами, выдвинулся и поехал рядом с окольничим.
– Ну что, как у тебя там? – кинул ему Шакловитый.
– Все готово, милостивец. Повсюду стрельцы так и кипят; разожжены они так, что трудненько будет пожар потушить.
– Ничего, потушим, – небрежно ответил Шакловитый. – Не впервые ведь! Да, вот что: пусть сегодня, по двенадцатому удару с Ивана Великого, соберутся молодцы на Лыков двор… да пусть с пищалями придут, все как следует… А другие пусть соберутся на Лубянке и ждут…
– Ой ли! – воскликнул Шошин. – Стало быть, несдобровать Нарышкиным?
– Выходит, что так! – коротко ответил Шакловитый и сильнее погнал лошадь…
Ровно в полночь на Лыковом дворе в Кремле замелькали среди темноты ночи многочисленные фигуры. Это сходились стрельцы по зову Шошина. Шли без чинов, и скоро их собралось около тысячи. Однако они вели себя тихо; несмотря на такую огромную толпу людей, заведомо буйных, не слыхать было не только криков или песен, но даже и разговора.
Вдруг у ворот Кремля раздался топот копыт мчавшейся во весь опор лошади.
– Ой товарищи, – вполголоса воскликнул сотник Гладкий, – не соглядатаи ли явились?! Пойду посмотрю.
Все снова затихли. У ворот были слышны говор, брань, потом шум драки.
Вскоре появился Гладкий, таща за собой молодого человека в дворцовом кафтане.
Это был спальник царя Петра, Плещеев, прискакавший в Москву из Преображенского.
– По-моему, молодцы, вышло! – выкрикивал Гладкий. – Нарышкинский соглядатай явился. Тащу его к отцу нашему, Федору Леонтьичу, пусть делает с ним, что знает…
Гладкий и Плещеев скрылись в дворцовых сенях; на Лыковом дворе опять все стихло.
Так прошло около часа. Вдруг на одном из крылец распахнулись двери, замелькали багряные огни смоляных факелов, и на крыльце показался Шакловитый, разодетый, как на пир, вооруженный, как для битвы. Сзади него шли несколько бояр. Багровое пламя факелов озаряло их своим зловещим светом. Лица всех этих людей были бледны, бояре шли, словно осужденные на казнь.
– Эй, молодцы! – первым нарушая тишину, громко крикнул Шакловитый. – Знаете ли вы меня? Знаете ли, кто я такой?
– Как не знать, Федор Леонтьевич? – послышались отдельные голоса. – Отец ты наш милостивый, а мы все – послушные дети твои…
– А вот я посмотрю, какие вы послушные дети… Знаете ли вы, зачем сюда собраны?
– Доподлинно, милостивец, не знаем, – выдвинулся Шошин, – а только ежели ты нас зовешь, так, стало быть, служба какая-нибудь есть.
– Вот именно! – ответил стрелецкий вождь. – Даром среди ночи не стал бы я вас звать, знаю, что ночью всем спать нужно, а не колобродить; верно, нужна ваша служба царевне Софье Алексеевне… Милостива она к вам по-прежнему и жаловать вас будет, как детей своих родимых… Отвечайте же: готовы вы послужить ей?
– Еще бы! Умереть за нее, пресветлую, рады!
Шакловитый приостановился, вынул из-за пазухи кармана большой свиток и, не развертывая его, заговорил снова:
– Знаю я, слуги царские верные, что всем вам ведомо, какие такие дела на Москве завелись… Православная вера находится в колебании, дедовские обычаи попираются, немчинские свычаи богомерзкие заводятся. Что тут долго рассказывать-то вам? Сами поди знаете! Вон в Преображенском да в Семеновском растет новое войско… Вы своей грудью государство отстаивали, кровь на полях бранных проливали, а пройдет немного времени – и все ваши заслуги ни во что будут поставлены… Возьмут немцы верх над нашим отечеством, и будете вы хуже, чем скоты какие, прости Господи!.. Так вот и спрашиваю я вас: любы ли вам нарышкинские новшества, или дедовская старина вам по сердцу?
В ответ ему раздался сплошной рев.
– Умрем за дедовскую старину! – кричали отдельные голоса. – Не нужно нам немчинских свычаев!.. Без них жили, без них и впредь жить будем.
– Так, так, деточки, – одобрил подобные ответы Шакловитый. – А знаете ли вы, кто все это заводит?
– Нарышкины! Нарышкины! – послышались исступленные крики.
– Верно! Теперь я у вас вот что спрошу: ежели вам в палец заноза попадет, что вы делаете?
– Вестимо, вытащить нужно! – выкрикнул Шошин. – Не вытащишь, так и вся рука, а нет, так и сам весь от огневины пропадешь.
– Так-так, справедливо слово, – одобрил подьячего Федор Леонтьевич. – Стало быть, занозу всегда надо вытаскивать, чтобы самому в лютых мучениях не пропасть. Так вот Нарышкины – та же заноза… Идите же, молодцы, вытащите эту занозу… Спасайте Москву, государство все спасайте… Сослужите великую службу родимой земле, промедлите – худо будет.
– А как же с царем быть? – послышался из толпы робкий возглас. – Царь-то Петр Алексеевич ведь тоже Нарышкин?
– Какой он царь? Один у нас царь, Богом помазанный, – Иван Алексеевич, а по слабости его здоровья всем государственным делом вершит любимая мать наша родимая, царевна Софья Алексеевна. Вот вам – кто у нас царь! А нарышкинское отродье, по Божьему попущению, доселе тоже царем называется. Всех нарышкинцев надо истребить, все их скверное племя, да так, чтобы на развод не осталось. А если кто сомневается, что я правду говорю, так вот вам указ боярской думы и царевны нашей: глядите сами, вот он! Кто осмелится ослушаться Богом поставленной над нами власти, идти против указа царевны?
– Никто, все, как один, пойдем! – заревели стрельцы.
В это время Шакловитый развернул во всю длину свиток, внизу которого была ясно видна печать царевны-правительницы. Это произвело впечатление. Крики на мгновение смолкли, но потом сейчас же возобновились, и в них уже была слышна прямо-таки стихийная ярость.
– Сейчас же пойдем на Преображенское. Найдем проклятого оборотня… Выведем нечисть с нашей земли… Все пойдем!..
– Идите, родимые, идите! – воскликнул Шакловитый и отодвинулся в сторону.
Сейчас же из-за него показалась фигура в черной мантии, и в этой фигуре многие узнали как будто тогдашнего патриарха Иоакима[14]14
По всей вероятности, это был монах, старец Сильвестр Морозов, правая рука Шакловитого во всех его заговорах.
[Закрыть].
– Господь вас да благословит, – послышался старческий голос, – на великое дело спасения веры православной и страны родимой.
Фигура в черном подняла вверх руки.
Трудно поддается описанию, что началось тут. Всей этой толпой овладел невыразимый восторг. Люди плакали, целовались; некоторые лезли на крыльцо, кланялись в ноги стоявшим, лобызали их руки; другие умиленно крестились, и никто не заметил, как двое из стрельцов отделились из толпы и быстро выскользнули за кремлевские стены.
– Послужим царевне! – ревела толпа. – Покончим с Нарышкиными!.. Пусть их и на племя не останется.
И вдруг все двинулись, предводительствуемые Шошиным, к воротам Кремля.
– Что, бояре, каково? – спросил Шакловитый.
– Да уж что говорить, Федор Леонтьевич, не ускользнет поди теперь нарышкинский вороненок.
Шакловитый усмехнулся и, повернувшись, пошел во дворец.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































