Текст книги "Трон и любовь. На закате любви"
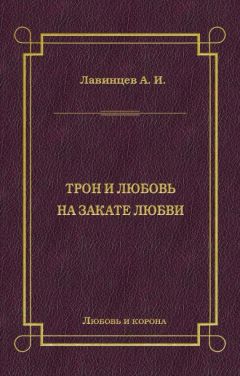
Автор книги: А. Лавинцев
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
XXVIII. Среди сомнений
Когда Павел примчался к ее дому, фрау Фогель только что уложила спать детей и готовилась стать на вечернюю молитву.
– Павлушенька, что с тобой, – воскликнула она, когда Павел, поставив лошадей в конюшне, вошел в ее покой, – посмотрись-ка, на тебе лица нет…
– Мать, мать, – дрожащим голосом произнес Павел, – какого ужаса я только что был свидетелем…
– Ты говоришь, ужаса? Но где же ты был?
– В застенке!
– Ты был в застенке?
– Да, царь Петр приказал мне сопровождать его… видишь, на мне нерусское платье… С нами был господин Брюс, а потом пришел господин Вейде; господа Гордон и Лефорт отказались туда идти… Я же не смел ослушаться…
– О боже!.. Что же ты там видел, дитя?
– О, я до сих пор еще не могу прийти в себя, опомниться. Он был герой, мать… О, как я хотел бы в преданности и любви походить на него…
– Про кого ты говоришь, дитя, – сама вся дрожа, спросила госпожа Фогель, – кого ты называешь героем?
– Окольничего Шакловитого… Его пытали сегодня в застенке, заставляя сказать, что царевна Софья Алексеевна приказала ему убить всех Нарышкиных, а вместе с ними и царя Петра…
– И правда это, дитя?
Павел поднял голову и взглянул на госпожу Фогель совсем не по-юношески серьезным взглядом.
– Кто знает! – сказал он.
– А Шакловитый разве не повинился под пыткой?
– Не застонал даже… А как его пытали… как пытали! В аду грешников не так истязают, как его… Из его истерзанного тела раскаленными клещами вырывали куски, клинья забивали под ногти… на дыбе встряхивали… Ведь старались и заплечные мастера, и боярин Стрешнев… Сам царь тут был и на эти страшные пытки смотрел… Любо ему было смотреть на муки… Глаза то и дело взблескивали… А Шакловитый поносил его и славил царевну, возносил ее превыше небес и лишь тогда замолчал, когда чувств лишился… Должно быть, что и сам грозный царь пожалел его. Боярин-то Стрешнев еще хотел пытать, а царь приказал оставить… Завтра казнят окольничего…
– Завтра? – вскрикнула госпожа Фогель. – Так скоро?
– Царь повелел. Он сам тайно будет на казнь смотреть… С тем и сюда заночевать прибыл…
– Где же он, у кого?
– У Монсовых…
Лицо доброй женщины подернулось грустью, на глазах проступили слезы.
– Вот ты видел ужас, Павел, – слегка дрожащим голосом произнесла она, – ужас, ни с чем не сравнимый… Человек истязал человека, чтобы услышать от него правду, и не услышал того, что хотел. Но Божья воля тут ясна. Если мучили окольничего невинно, то свыше ниспослано ему это тяжелое испытание… Если же запирался он, то его постигла кара Божья за совершенные грехи… Что такое человек? Ничто, трава полевая… Ни единый волос не спадет с его головы, ежели на то не будет воли Господа… Помни это, милое дитя, помни и не ропщи… Не виновать даже в помыслах своего царя… Бог управляет сердцами царей, и часто делают они то, что нам, простым смертным, непонятно. Вот и теперь…
Госпожа Фогель запнулась и покраснела. Воображение быстро нарисовало ей такую картину: чистенькая, с величайшей аккуратностью прибранная горница, в ней полумрак, слышатся страстный, прерывистый лепет, поцелуи, вздохи… Потом, словно из тумана, выплыло чье-то молодое, красивое лицо, и добрая женщина не узнала, а поняла, что это – лицо Анны Монс, первой красавицы Кукуевской слободы.
– Что теперь? – возвратил ее к действительности вопрос Павла.
– Теперь?.. Что теперь? Да кто это знает? Быть может, готовятся беспримерные события, – нашлась ответить Юлия, – теперь на распутье стоит все твое отечество, Павел, и кто знает, какой дорогой и куда пойдет оно… Но, смотри, уже поздно! Ляг и усни; ты должен, как я поняла, встать очень рано… А где твой брат? Отчего я не вижу его?
– Не знаю, – грустно ответил Павел, – Михаил против царя был. Как бы греха из сего не вышло…
– Будем молиться, чтобы Господь отвел все беды от нашего милого Михаила, – проговорила добрая женщина. – Так иди же, отдохни!..
Павел с величайшим почтением поцеловал у нее руку и пошел наверх в светлицу, где для него и его брата всегда были приготовлены постели.
Долго-долго еще не могла заснуть Юлия Фогель. Ей мерещились то истязаемый Шакловитый, то Анна Монс, вся так и сиявшая уже не девичьей, а только что расцветшей женской красотой. Добрая женщина слышала, как, едва забрезжил рассвет, поднялся Павел; потом она слышала топот и фырканье коней и заснула только тогда, когда все затихло.
Павел прибыл к дому Иоганна Монса как раз в то время, когда пробудившийся Петр уже осведомлялся о нем. Едва явился Каренин, царь уже вышел на крыльцо, и Павел видел, что его лицо так и сияет довольством и счастьем.
– На Москву теперь, молодец! – бодро и весело крикнул царь. – Будем гнать вовсю… Поспеть надо, пока там еще народ не проснулся.
Садясь на коня, он оглянулся. Павел следил за его взором и увидал, что в доме Монса было открыто окно, и там была видна Анхен, нежно глядевшая на отъезжавшего царя.
XXIX. На красной площади
В это пасмурное туманное утро, 11 сентября 1689 года, гудела и кипела вся Москва, сходясь и сбегаясь со всех своих концов к Кремлю, где на Лобном месте спешно заканчивались приготовления к позорной торговой казни. Должны были казнить смертью Шакловитого, а вместе с ним двух его наиболее преданных друзей – Петрова и Чермного; стрелецкому же полковнику Рязанцеву, пятисотенному Муромцеву и стрельцу Лаврентьеву, по нещадном битье кнутом, должны были урезать языки, а после того сослать в далекие сибирские города. Колесовать должны были гордую красу и опору всего могущества недавней правительницы; той же смертью должны были умереть и его друзья.
Колесование было совсем новою казнью в Москве; как и все дурное, оно занесено было сюда с соседнего европейского Запада.
Московский народ волновался в ожидании нового, невиданного зрелища, и – странное дело! – лиц, жалевших Шакловитого и его друзей, почти не было, и все боялись, что казнь будет отменена, и осужденные будут помилованы.
Увы! Переменчивы людские настроения: еще недавно низкими поклонами встречали и провожали москвичи Федора Леонтьевича Шакловитого, когда он, гордо озираясь вокруг, проезжал по улицам Москвы, а теперь, теперь отовсюду на его голову сыпались ожесточенные проклятия…
– Слышь, царь-то без пытки хотел казнить вора Федьку! – говорили в толпе.
– Без пытки? Ну, милостив же государь великий! Разве без пытки у таких злодеев правду узнаешь?
– Признав это, московские служилые люди в Троице-Сергиево бить челом ездили, пред светлые очи государя были допущены…
– О чем бить челом-то собирались?
– Да все о том же, чтобы допрошен был вор Федька с великим пристрастием… пусть выдал бы всех соучастников своих.
– И что же великий государь?
– Прогневаться изволил, очами заблистал и челобитчиков гнать велел. Он-де – великий государь и, как ему свое государево дело вершить нужно, знает. Показаниями Федькиными он-де доволен, за усердие служилых людей он благодарит, а только им-де непригоже мешаться в государево дело…
– Ведут, ведут! – раздались крики.
На Красной площади показалась оригинальная и весьма печальная процессия. К Лобному месту вели осужденных. Впереди шли два стрельца с бердышами; они как бы открывали шествие. За ними шла шеренга пеших стрельцов с пищалями, причем фитили были разожжены, и отряд в каждое мгновение мог дать залп по толпе, если бы она вздумала освободить приговоренных. После шеренги стрельцов ехала поломанная, грязная телега; не лошадь, а отвратительный одер волочил ее. На передке сидело омерзительное, пьяное, одетое в жалкие лохмотья существо, во все горло выкрикивавшее что-то вроде песни. Москвичи хорошо знали эту телегу и возницу; в обыкновенное время на ней увозили с улиц всякую падаль. Теперь же за ней, привязанный к ее задку длинною веревкой, конечная петля которой была захлестнута на его шее, шел окольничий Федор Леонтьевич Шакловитый. Он шел босой, но на клочки его изорванной нижней одежды был накинут боярский кафтан, а на голову была надета высокая шапка окольничего. Его вывернутые и потом вправленные назад палачом руки были скручены за спиной.
Шакловитый был мертвенно бледен, но шел на казнь с высоко поднятой головой. Огненным взором окидывал он ревевшую на все лады толпу и, когда до его слуха долетали ее поносные крики, только презрительно улыбался.
За ним, со связанными назад руками, в невозможных лохмотьях, едва прикрывавших их изможденные тела, шли попарно четверо других осужденных. На шее каждого из них была накинута петля, а другим концом ее веревки они были привязаны к рукам своего вождя. Этим как будто хотели показать, что Шакловитый, идя на погибель сам, вел вслед за собой и других…
Эти другие шли уже не так бодро и гордо. Лаврентьев и Рязанцев плакали, сравнительно спокойно держались Петров и Чермный. Еще бы! Ведь для них все очень скоро должно было окончиться, наступал полный отдых и от земного кипения, и от пыточных неистовств, а первым двум впереди предстояла долгая мука – им была дарована жизнь…
Страшная процессия подошла к Лобному месту. Там уже был палач с помощниками. Они возились около ужасных приспособлений новой казни – двух, сколоченных посреди крест-накрест нетолстых бревен и огромного колеса с широким, в толщину человека, ободом. Один из палачей то и дело пускал в ход это колесо, заставляя его вращаться то тише, то быстрее; главный заплечный мастер, пробуя силу размаха, вертел над головой железным ломом порядочной длины. Остальные прилаживали к концам бревен петли-подвязки.
Толпа все это видела, видели это и осужденные…
К самому краю помоста вышел дьяк судейского приказа и ровным, ни разу не дрогнувшим голосом принялся читать вины осужденных. Долго тянулось это чтение. Сердечный друг царевны Софьи, князь Василий Васильевич Голицын, за многие вины и своевольные притеснения подданным великих государей и солдатам Комарицким присяжным осуждался на ссылку в Пустозерск. Шакловитый с товарищами осуждался на смертную казнь. Далее шли уже легкие кары: битье кнутом, вырывание ноздрей, урезывание языка, ссылки и разные государей немилости. О царевне-правительнице не было сказано ни одного слова.
Когда кончилось чтение, дьяк что-то тихо сказал палачу и отошел в сторону. Кат живо кинулся по ступеням вниз и, схватившись за веревку, привязанную петлей к шее Шакловитого, потащил его.
– Милости просим, боярин, – закричал он, – пожалуй к нам на угощенье, не погнушайся, угостим на славу!.. Мы такому именитому гостю рады.
Он выкрикивал это так, чтобы все кругом слышали, и действительно, толпа, стоявшая вокруг, неистово гоготала. Подобные издевательства над осужденными в то время были в большом ходу, и чем знатнее был осужденный, тем ядовитее насмехались над ним палачи.
Шакловитый взглянул на небо, на золотые кресты московских соборов и твердой поступью поднялся по ступенькам.
XXX. Казнь души
А в это время в палатах, выходивших на площадь, где происходила казнь, у одного из окон стояли две женщины, обе заливавшиеся слезами. Одна из них была недавняя правительница, самодержица-царевна Софья Алексеевна, а другая – ее сестра, царевна Марфа Алексеевна. Неукротима была дочь Тишайшего царя, но в эти страшные мгновения женщина сказалась в ней. Ее насильно привезли в эти палаты в это утро и насильно заставили быть в покоях, выходивших окнами на площадь, где должен был в страшных мучениях кончить жизнь преданный ей человек.
Ни Стрешнев, ни князь Борис Голицын, ни другие им подобные бояре, приверженцы Петра, не решались прикоснуться к телу дочери того, чьими рабами и холопами они были всю свою жизнь. Но они придумали более страшную пытку для Софьи: решили не тело, так душу измытарить. И вот, приводя в исполнение свой гнусный замысел, они в надежде, что этим сыщут благоволение молодого царя-победителя, заставляли побежденную смотреть на предсмертные муки ее друзей.
Марфа Алексеевна, пожалуй, была столь же неукротима, как и ее старшая сестра. Известен вспыльчивый и впечатлительный нрав этой царевны. Пожалуй, она больше сочувствовала в силу своей порывистости Петру, но, когда он, пылая гневом, не захотел видеть старшую сестру, то она накинулась на брата с таким остервенением, что тот был смущен этим порывом и, избегая повторения его, поскорее отослал Марфу на Москву. А она там прежде всего явилась с утешениями к опальной Софье, и даже готовые на все бояре не смогли разлучить этих двух женщин. Зато они теперь заставили Марфу вместе с Софьей присутствовать при казни Шакловитого.
– Смотри, смотри, сестрица, – сквозь рыдания воскликнула Марфа, – раздевают его и привязывают.
Софья подняла голову и гневным, полным ярости взглядом вперилась в то, что происходило на площади…
Палач уже сорвал с Шакловитого его боярский кафтан и шапку и начал топтать их ногами, а в это время его помощники схватили несчастного осужденного и распяли на крестообразной перекладине. Шакловитый сразу оказался растянутым всеми своими конечностями. Его руки и ноги, вытянутые вдоль бревен, были привязаны к ним ремнями у кистей и у ступней; ремнем же он был привязан посредине туловища к крестовине.
– Ой-ой! – истерически вскрикнули обе царевны, дрожа от волнения и ужаса.
Но как сильно ни было их волнение, они все-таки не могли оторвать взор от ужасного зрелища. Они видели, как палач взял в свои мускулистые руки лом, высоко взметнул им в воздухе и со всего размаха опустил его на локтевую кость руки Шакловитого. Удар был страшен, все тело истязаемого рванулось вперед, а в это время палач с диким визгом нанес такой же удар по локтевой кости другой руки. Тут он приостановился и стал отдыхать, опершись на лом.
Обе царевны плакали, но уже тихо: они просто не могли удержать слезы, которые сами струились из глаз. Затуманенными глазами смотрели они, как извивалось в ужасных судорогах все тело Шакловитого на крестовине, а отдохнувший палач между тем продолжал свое отвратительное дело. Так же с перерывами, более или менее длинными, он перебил плечевые кости, бедра и голени и тогда отошел в сторону. При каждом ударе он дико взвизгивал, и вокруг него громко гоготала толпа, наслаждавшаяся этими страшными муками человека.
Должно быть, Шакловитый от страшной, нестерпимой боли лишился чувств, так как во все время не издал ни звука.
Невыразимое впечатление производила эта казнь: ни капли крови не было видно, палач наносил свои удары так, что ломал кости, но не разрывал наружных покровов. Когда его жертву отвязали от крестовины, то в руках палачей был уже не человек: перебитые руки и ноги трепались, как плети, а это было еще только начало…
Бесчувственного Шакловитого палачи начали поливать водой; лили ее, не жалея, и наконец добились того, что страдалец открыл глаза и из его истерзанной груди вырвался тяжкий, надрывистый стон. Палачи только этого и ждали. Они быстро схватили этот полутруп и вскинули его на широкий ободок колеса. Тело перегнулось, как будто в нем совершенно не было костей. Палачи привязали его ремнями, и опять раздался дикий, хриплый вопль старшего ката.
– Пускай сверху вниз! – приказал ему дьяк.
– Э-эх, – выкрикнул палач, – вот что значит боярин-то: ему и тут везет… Нашего брата ногами вперед пускали.
Дело в том, что под колесо был вбит широкий ряд гвоздей, и эти гвозди при вращении колеса рвали в клочья тело казнимого. Если пускали колесо так, что голова жертвы первою попадала на эти гвозди, то, за самыми редкими исключениями, в этом случае смерть наступала почти мгновенно, если же колесо пускали в обратную сторону, то казнимый умирал только тогда, когда гвозди прободали ему голову, а до этого мгновения испытывал невыразимые муки. То, что Шакловитого приказано было колесовать «сверху вниз», было особой милостью.
Царевны Софья и Марфа видели, как были кончены последние приготовления к колесованию. Они знали, что в эти страшные мгновения несчастный жив и чувствует все, и теперь вместо недавних отчаяния и ужаса уже страшным гневом кипела далеко еще не побежденная душа могучей царевны Софьи. Она видела, как палачи с всевозрастающей быстротой завертели ужасное колесо; она слышала дикий вопль, раздавшийся с места казни и заглушивший на мгновение неистовое гоготанье толпы. Теперь Софья уже не плакала, ее глаза горели, как горят глаза дикого зверя, когда перед ним уничтожают дорогое ему существо.
– Мученик, за меня мученик, – шептала она. – Но погодите, проклятые, расплачусь я со всеми вами… горшую устрою вам муку… Не впервой с московского престола русским царям в Польшу бегать… я, братец любезный, то тебе устрою, что само лихолетье светлым праздником покажется, нарышкинец проклятый!
А страшное колесо на площади все вертелось и вертелось, пока истомленные палачи не бросили его. Оно сразу остановилось. Труп Шакловитого застрял на гвоздях. Палачи засуетились около колеса, приподняли его; на нем висела уже почти бесформенная, вся окровавленная, изорванная и истерзанная масса, только отдаленно напоминавшая человека. С Шакловитым было все кончено, наступила очередь других. Страшные люди на роковом помосте уже размахивали плетьми, готовились к новым казням[19]19
По некоторым данным, казнь Шакловитого была совершена в поле у Троице-Сергиевой лавры.
[Закрыть].
XXXI. Неукротимые
Царевна Софья закрыла лицо руками и, как бы повинуясь какому-то душевному велению, опустилась на колени. Когда она встала, то у нее был совершенно спокойный вид.
– Ну что ж, сестрица милая, – обратилась она к царевне Марфе, – чего еще-то смотреть? Достаточно нас позабавил братец милый. Князь мой Вася – по дороге в Яренск, боярин Леонтий – с ним по пути, а верный слуга мой Федя – в царстве небесном…
– Ха-ха-ха! – раздался сзади женщин глухой, грубый смех.
Софья и Марфа быстро обернулись. За дверями покоя стоял тот, кого они в эти мгновения ненавидели более всего на свете, их младший брат, царь Петр. Он еще до казни стрелецкого вождя прискакал из Кукуй-слободы в Москву. На нем было немецкое платье, и благодаря этому никто из московских людей не угадал в нем царя. Во время казни Шакловитого Петр был в соседнем покое и теперь не мог отказать себе в удовольствии доконать вконец побежденную сестру.
– Вот, сестрица любезная, – проговорил он, делая шаг вперед, – добивалась ты меня видеть, вот мы и свиделись. Только коротки будут наши разговоры, хоть и давно мы с тобой не видались. А наговорились-то мы друг о друге и в разлуке досыта… Что же, хочешь, я скажу тебе последнее мое слово?
– Говори, ворог, нарышкинское отродье! – звучным голосом, полным ненависти, произнесла царевна. – Ну, что же? Я слушаю, что ты мне скажешь?
– Да то, сестрица любезная, – сдерживая себя, довольно спокойно ответил брат. – Видела ты это? – указал он на окно, выходившее на площадь: – Так это только для твоего любования устроено. Знаешь что? Ведь я Федьки Шакловитого не казнил бы, а так разве малость постегал бы его да послал бы ненадолго туда, где твой Васька Голицын соболей ловить собрался. Да, верно это, умен Федька был!.. Ведь ведомо мне, как он турецкое посольство справил… И верным рабом он был своему господину, а такие-то мне и нужны. Так не казнить их я должен был, а жаловать… Только вот его беда в чем: ты, сестрица любезная, свой дух неукротимый вдохнула в него, злобу не против меня, а против всего нашего царства посеяла. Ты – баба, про тебя и законы не писаны, а он, неукротимый, тобою в мужском образе был. Ха-ха-ха! Оборотень!.. Баба мужиком перекинулась! Так не Федьку Шакловитого я казнил, а тебя, самодержица. Ты там на площади издохла…
– Ну, нет! – рассмеялась Софья. – Жива еще я.
– Ты-то, – презрительно ответил ей брат, – жива? Не смеши, царевна! Ты думаешь, я тебе дам в Краков убежать и новое лихолетье устроить? Нет, перестань!.. Недаром Бог меня вместе с братом Иваном царем поставил. Что, Софьюшка, побледнела?.. Ты думала, что мне неведомы твои замыслы? Ан, я все знаю. Не все такие слуги у тебя, как Шакловитый. Он без стона пытку выдержал, а есть и такие, у которых дыба языки развязывает. Знаю я, все знаю… Царской дочери я на Лобное место не пошлю, ведь одна в нас кровь, ну а в монастырь ты у меня отправишься, а ведь это – то же, что могила.
– Изверг, ворог, – закричала молчавшая дотоле царевна Марфа, – плюну я сейчас тебе в бесстыжие бельмы твои! Сестру мучаешь, так и меня не щади: одна у нас кровь и отцова, и материна, царская, а ты – нарышкинец.
– Что, Марфуша, – окинул ее огненным взором брат, – или и ты в монастырь захотела?
– Ну что ж, сади, коли так! – прямо-таки завизжала неукротимая царевна. – По крайней мере я тебя, антихрист, пред престолом Господним проклинать буду.
Петр только засмеялся в ответ на эти окрики, но этот его смех не был уверен: он не ожидал, что сестра Марфа так ретиво примет сторону побежденной Софьи.
– У, змея! – крикнул он и быстро вышел, сильно хлопнув дверью.
Марфа, рыдая, бросилась на шею сестре.
– В монастырь нас запрячут, – заголосила она, – вот каков конец уготовил нам Господь!
Софья была спокойна, и даже ее лицо как будто просветлело.
– Не конец это еще, Марфуша, – произнесла она, – ой не конец, а разве начало мести моей. Жизнь нам оставлена, жизнь. Но, братец любезный, не знаешь ты меня. Выдал тебе подлый Иуда, что мною задумано; не удастся мне к польскому королю уйти, так я тебе и здесь, в монастыре, то же самое устрою… А ты, Марфуша, не плачь: и в монастыре люди живут.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































