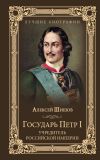Текст книги "Долгое эхо. Шереметевы на фоне русской истории"
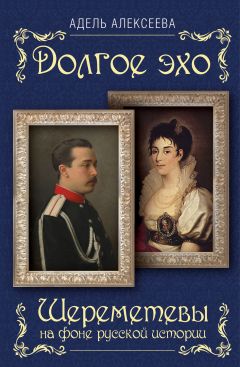
Автор книги: Адель Алексеева
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Стало ясно, что царь не удовольствуется отречением царевича, он ищет заговор, хочет найти всех виновников, учинить розыски… Неужто найдет и вправду заговорщиков и отречется от сына единородного?
Промаявшись ночь без сна, старый граф поднимался ни свет ни заря, когда еще спали слуги, и в халате или кафтане бродил по дому. В библиотеке перебирал немецкие, французские книги, читал Псалтырь или шел на конюшню. Там были лошади – отрада жизни его, он гладил их сытые бока, хлопал, кормил хлебом с солью – и каждая его узнавала, каждая нервно и трепетно косила в его сторону глазами. Заодно смотрел, какой конь «спотыкчив», какой «увальчив», а какого надобно продать. «Ах, цуги, цуги, верные други!» – прижимаясь щекой к лошадиной морде, шептал Шереметев.
Жена его Анна Петровна и теща Марья Ивановна замечали, что с хозяином творится что-то неладное.
– Каково чувствуешь себя, Борис Петрович? Отчего кручинуешься? – спрашивала жена.
– Кто близ трона, того всегда заботы гложут, – отвечал он.
– На душе-то тягость? – жена заглядывала в глаза.
– Будто камни лежат за пазухой…
– И-и-их… Батюшка! – вступала теща. – К чему печаловаться? Гляди-ко на небушко – солнце как на Масленую играет. – Одетая по старинной моде, в душегрейку и широкую юбку, она отыскала в юбке карман и вытащила табакерку: – На-ко, понюхай! Чихнешь от души – и все мысли дурные выскочат.
Тещу свою граф любил, однако пускаться в разговоры о том, что его угнетало, не собирался. Даже Аннушке – пусть она и ладна, и стройна, и умна, а он – старый медведь, – велел отправляться с детками к невестке погостить.
Граф любил одиночество, особенно ежели на душе лихо, и считал: породным, именитым не к лицу жаловаться. Хотелось ему знать, что в Кремле, в Лефортове творится, мог пойти туда в любой час – был в числе двух-трех человек, которым разрешалось без докладов входить к государю, – однако что-то удерживало его. Неужто Петр мог усомниться в приверженности его к Европе? Он еще за двадцать лет до Петра, живя в Киеве, имел склонность к иноземным нравам. Однако и народные обычаи ревностно хранил, знал и пел русские песни, завел свой хор из малороссиян. Что касается немцев в Москве, то без надобности не бывал в Немецкой слободе, но и московской грязи и бескультурья не терпел. Многих тогда удивляло его чисто выбритое лицо, иноземное платье. Вместе с тем вызывало уважение простое обращение, приветливость, манеры. Встретит офицера, с которым служил где-нибудь под Лесной, остановит карету, выйдет, немалое время проговорит, вспоминая минувшие дни, а то и зазовет к себе.
Москва была его родным домом, местом отдохновения. В Санкт-Петербурге от сплетен придворных да церемоний уставал, как от немецких туфель, а в душу заползала тоска, или, как говорили тогда, «милаколия». В те смутные дни, когда завертелось-закружилось царевичево дело, тоже владела им меланхолия. Грызли мысли о бренности жизни, о старых товарищах, которых уж нет, и о тех, кто есть, но не кажет носа.
Скончался Федор Алексеевич Головин, а какой умный, рассудительный был человек, к тому же сват родной! Он бы поддержал нынче добрым советом, мог и царю слово замолвить. А чувствовал Борис Петрович, что не держит более государь его в своем сердце, затаил подозрение. Бедный Федор Алексеевич! На царском пиршестве принудили его съесть что-то не по своей воле, и скончался…
Апраксин Федор Матвеевич – тоже доброго нрава человек, адмирал. Неторопливая речь его, разумные доводы, спокойные беседы действовали на Бориса Петровича лучше всяких лекарств. Не особо породный дворянин, но как желал бы свидания с ним Шереметев!
Брюс Яков Вилимович – человек умнейший, особенный. Гору книг перечитал, чудесные явления объяснять может, беседовать с ним – полное удовольствие, сочинил «Юности честное зерцало» – руководство для отроков. Лицо у Брюса круглое, добродушное, но воля твердая. На войне командовал артиллерией, руководствовал Михаила Шереметева, а Борис Петровича не раз называл «украшением Европы».
Еще Шафиров есть, Петр Павлович… Когда-то Борис Петрович взял его себе в переводчики, был доволен его умом и энергией, но царь Петр, умевший ценить толковых людей, переманил того к себе (также забрал и Алексея Курбатого). Ныне Шафиров возле царя – вице-канцлер, помощник Головкина Гаврилы Ивановича. Шафирова вместе с сыном Шереметева – Михаилом постигла одна участь: в 1711 году они стали заложниками, чуть не два года просидели в турецкой Семибашенной крепости. Шафиров вернулся и ныне возле царского трона, а Михаила нет… Ранее Шафиров благоволил к Борису Петровичу, не раз предлагал важные дела «отдать на рассудок» ему, писал о нем и в книге про «Свейскую войну», а ныне?.. Да, переменчива судьба!
«Прискорбное и несносное дело есть ожидание», – думал Шереметев, лежа на кровати под синим балдахином. Колпак его с меховой опушкой лежал рядом, а голова, чистая, лысая, темнела, будто пушечное ядро. Каждое утро он спрашивал денщика: про что там, на улице, говорят? Афоня охотно и весело отвечал:
– Про что бают? Цирульник сказывал: мол, царь должон без всякого пардону чинить экзекуции супротивникам… А в церквах царевича жалеют, царя ругательными словами поминают, мол, не наш он, жидовин, и быть ему пусту!.. Во как, охальники! Язык-то без костей, вот и мелют, яко на мельнице… Только там зерно от такого меления получается, а тут дурость одна…
– Таратуй! – сердито бормотал барин. – Говоришь невесть что!
…В комнату заглянул дворецкий с докладом:
– Шафиров Петр Павлович!
– Что? – вскочил Борис Петрович. – Быстро! Шлафрок китайский!
Гость, несмотря на низкорослую грузную фигуру, вошел быстрой изящной походкой. Был он в черном сюртуке, в белой рубахе, синих атласных штанах, напомаженный. Церемонно поклонился и возгласил:
– Брату моему Борису Петровичу славнейшему виват! Каково здоровье вашей милости?
В церемонном обращении Шафиров был мастак. Однако одно дело при дворе, другое дело – дома. Что это он, в самом деле? Шереметев ответил просто:
– Худо, уж так худо, что и сказать не можно.
Шафиров продолжал в прежнем тоне:
– Светло и радостно видеть мне мудрого боярина! Знаю ли я еще другого такого славного разумения человека!..
И восточник и западник. И у Европы учились вы, и знамя Москвы из рук не выпускали! Всё своемыслие в себя впитали! Ведаете, что государственная жизнь не терпит застоя, – это ли не мудрость, это ли не веселие государю нашему Петру Алексеевичу!
«Господи, что это он? Будто орден принес. – Шереметев не любил комплиментов царедворцев и невольно отвел глаза. – Не для того же явился, чтобы про сие говорить?»
Хозяин повел гостя в столовую, где во всякий час дня и ночи был накрыт стол, лежали холодные закуски, языки, белорыбица, соления, моченые яблоки, варенья и прочее.
– Угощайся, Петр Павлович, да сказывай, какие новости? – говорил хозяин, глядя поверх очков: года два назад появилась эта «невидаль» – очки, и он надевал их при всяком случае.
– Принес я вашей милости бумагу, в коей просили вы солдату вашему Ивану Толоконову дать звание прапорщика. Вот – подписана! – Гость протянул Борису Петровичу лист бумаги.
– Слава Богу, толковый будет офицер, – обрадовался Шереметев, бережно складывая листок. Указал на серебряный поднос, уставленный штофами с наливками, настойками, водками. – Чем желаешь поклониться Ивашке Хмельницкому?
Себе тоже налил грушовки – лишь бы скорее перестал этот дьявол вести пустые разговоры, сказал что-нибудь путное. Шафиров с удовольствием выпил. Нацепив на вилку шляпку белого гриба, спросил:
– А что это у вас, Борис Петрович, очки косые?..
Очки, и правда, давили на правую щеку. Сняв их, хозяин поглядел на покосившуюся дужку, ответил:
– Помыслил я учить аптекарскому делу одного слугу своего, дал ему дом, пусть аптеку откроет, да не больно ладно у него получается…
– Э-э-э, Борис Петрович! – широко улыбнулся Шафиров. – Разве ж русский мужик может содержать аптеку? Он еще отравит вас каким-нибудь медикаментом… Пришлю я вашей милости настоящего аптекаря из Гданьска!
– А и правда, – согласился Шереметев. – Не испытлив дух у моего Степки. Ежели пришлешь поляка – научи Степку. Желание-то он имеет… – И, не в силах более терпеть, задал прямой вопрос: – А что в Кремле-то делается, Петр Павлович? Видел нынче государя?
– Госуда-а-ря? – протянул Шафиров. Прожевав мясо, он обвел комнату большими круглыми глазами и, понизив голос, быстро проговорил: – Розыски начались. В Санкт-Петербурге арестован Афанасьев. Один розыск – в Суздале, у Евдокии Лопухиной, другой – кикинский… Меншиков в Петербурге ведет дознание…
– А наследник-то что показывает?
Тут Шафиров опять очаровательно улыбнулся и встал, давая понять, что ему пора. Все же возле дверей остановился и заметил походя:
– Петр Алексеевич, должно, вашу милость желает видеть… Кланяюсь тебе, милостивец мой, Борис Петрович! – Ловко повернувшись, гость исчез в дверях.
Оставшись один, Шереметев долго сидел в неподвижности. Так что Афоня шептал дворецкому:
– Барин в лице изменились. Безгласны и в размышлении сидят.
Более часа миновало, прежде чем призван был наконец Афанасий. Он разоблачил графа от тяжелых одежд, надел легкий кафтан польского шитья, но… барин снова сел у стола в задумчивости. Бронзовая чернильница, песочница, тетрадь в сафьяновом переплете – долго смотрел на те предметы…
Стемнело. В доме стихло. Уснул и Афоня.
Старый граф осторожно поднялся, накинул халат. В темноте нашарил подсвечник, зажег свечу и медленно двинулся из комнаты.
Миновал столовую, сени и толкнул дверь в портретную комнату. Со всех сторон из тьмы смотрели на него предки, князья, бояре, сродники… Нашел шандал и зажег все три свечи. Портреты стали оживать и вот уже обратили на него взоры.
Черный, в красном кафтане, с бородой и усами – Иван Васильевич Большой Шереметев, глядит сурово, взыскуя, на своего потомка…
Высоколобый, светлоглазый Лев Нарышкин, дядя Петра, первый муж Анны Петровны… Сама Анна Петровна видная, как все Салтыковы, но – по неумелости художника – неулыбчива, суха…
Князь Яков Долгорукий – в зеленом польском платье, с булавой в руке; редкой храбрости человек…
В укромном месте, в углу, подарок Папы Римского – флорентийская мозаика «Храм Весты». А следом за нею еще одна заморская картина – «Христос, Мария и Марфа», писанная Рембрандтом, сказывают, мол, великий художник…
А вот и киевские его сотоварищи: Иоанн Кроковский – будто с фрески Феофана Грека, и Туптало, святитель Ростовский Димитрий… Приверженец старой Руси, однако и петровским указам не враг. Рассказывают, что как-то подошли к нему молодые православные бородачи и сказали: «Владыко, царь велит нам брить бороды. Только нам лучше пусть головы снимут, чем бород лишаться». Изумился Димитрий и отвечал: «А что отрастет у вас – борода или голова? Так не лучше ли лишиться бороды, она вырастет, а голова – только в день Воскресения из мертвых». Отец Димитрий считал, что раскол идет от невежества, от незнания Священной истории, и потому взялся за писание Священной истории для народного чтения.
Вот и он, господин и повелитель, Петр Алексеевич, помазанник Божий, государь Великия и Малыя и Белыя Руси… На одной «кортыне» – во весь рост, во всей молодой красе, а другая – вот она, миниатюра, обсыпанная бриллиантами, та самая, что подарена Михаилу перед пленом, кажись, копия с портрета русского художника Никитина, которого возвысил царь в пику иноземцам: устроил распродажу картин его на ассамблее, и того признали…
Борис Петрович приблизился к окну, заглянул в него: светила луна, дул ветер, виднелись белые деревья, покрытые изморозью; одна сосна топорщилась и колотила ветками в стекло, от порыва ветра задрожало пламя свечи.
Грозно сдвинул брови в своем углу Долгорукий. Прищурила глаза Марья Ивановна; жена, дорогая Аннушка, будто бес в нее вселился, захохотала…
Старый Шереметев перекрестился, отходя от окна. Подняв свечу, он приблизился к главному портрету. Длинное темное полотно занимало стену от верха до низа – молодой царь изображен тут был во весь рост, в боевых доспехах, в латах, в плаще; дерзновенен взгляд черных глаз, воля, ум и самовластие заключены в них. В руке его меч, на котором выгравированы слова: «Упою меч в крови нечестивых шведов».
Дуновение ветра от окна донеслось и сюда, и вновь затрепетало пламя: показалось, что в зыбком свете его царь усмехнулся, будто спрашивая: не являешься пред мои очи?.. Шереметев вздрогнул, но превозмог себя, обошел портрет с другой стороны. Нет, здесь царь иной: глядит спокойно, рот маленький, почти женский, и складка возле рта – знак непреклонности… Петр смолоду был прост в обращении, слишком прост с «обыкными людьми», но не ценит, не бережет знатные фамилии… Желает догнать Европу? Но там давно аристократы – не рабы, не слуги королевские, а сотоварищи, наделенные той же властью, сознанием и волею, что король… «Так сие, так, Петр Алексеевич…» Неужели те слова граф сказал вслух? Он вздрогнул, осекся, оглядевшись по сторонам. В портрете что-то дрогнуло, будто презрительная усмешка… Чур, чур меня! Шереметев перекрестился и заспешил к двери…
До самого утра ворочался в постели…
Как волны на море, как холстина полосатая – то черное, то красное, – ныне переменились отношения их с государем. Нынче – самая черная, должно, полоса. Каково теперь царевичу в Преображенских казармах? Слаб он духом, податлив, от страха перед грозным отцом невесть чего наговорить может, и старика фельдмаршала завинит. Апраксин носа не кажет, Шафиров что-то темнит, государь не шлет гонца, не желает его видеть, не надобен стал Борис Петрович…
А ведь сколько лет вместе прожито, сколько дорог пройдено! Верой и правдой служил граф-боярин. Да только не одному государю – Отечеству да Богу всемогущему – всегда! И когда отправлялся с великим посольством в Европу, и когда гонял Шлиппенбаха, и когда тот преследовал его… После второй Нарвы, победной, Петр стал благоволить к нему, однако как только потребовалось послать кого на усмирение бунта на Волге – его заставил, ох и тяжкое было времечко! После того, казалось, миновала черная полоса, ан опять попал в немилость. Крепок царь наказом, хула у него рядом с хвалой.
Ночи напролет ворочался в своей постели фельдмаршал, а в большой его лысой голове ворочались воспоминания о былых днях и походах. Как началось все, как двигалось – и что еще ждет впереди?
Битва орла и льва
…Петр смолоду не любил бояр, к титулованному дворянству не испытывал особого почтения, они казались ему стариками в душе, но тем не менее приблизил к себе Шереметева. Трудно представить двух более несхожих людей, чем государь и родовитый боярин, род которого шел из одного колена с Романовыми.
Петр – молод, даже юн, Шереметев – зрелый муж; один горяч, как пламя, другой спокойный, размеренный (по крайней мере, пока его не допекут), один непоседлив и вспыльчив, другой терпелив и медлителен. Шереметев боялся резким словом обидеть жену, близких, Петр засадил сестру в Новодевичий монастырь, жену – в другой монастырь и самолично казнил стрельцов.
Глядя на царя, с трудом можно было поверить, что отец его – тишайший Алексей Михайлович, а дед – кроткий нравом Михаил Федорович, которого именитые бояре выдвинули на русский престол. После Смутного времени, после многолетних распрей, после двух Лжедмитриев, после ставок то на поляков, то на немцев решили выбрать из своих, русских, одного достойнейшего. Явились к матери Михаила Романова Марфе и сказали: нравом Михаил кроток, лицом чист, молод, пусть взойдет на царство в сие трудное время. Марфа плакала, не хотела отдавать сына, ее долго уговаривали, стоя на коленях.
Богобоязненным, смиренным стал царь Михаил. «Тишайшим» после него был и Алексей Михайлович, но откуда явился метеор этот Петр? Будто не из их рода, будто с рождения вселилась в него некая небесная сила, неподвластная человеческим законам, – смел, умен, дерзок, всё подвергает сомнению! С детства играл не в игрушечных, а в настоящих солдатиков, и товарищей искал не в кремлевских хоромах, не в жарких палатах боярских, а среди служилых да простых дворянских людей. Сидеть на одном месте не терпел, носился по всему свету, в бескрайней России ему было тесно, и, казалось, хотел мир оглядеть с высот небесных.
Шереметев же был нетороплив, основателен. Мог быть непроницаемым и высокомерным, а мог очаровать разговором, красотой, любезностью. В свои почти пятьдесят лет, не дожидаясь, пока Петр обрежет боярскую бороду и заставит снять русский кафтан, он брился, пудрил парик и носил европейское платье. С молодых лет впитал два начала – русское и западное, изучал латынь, польский, греческий, знал священные тексты. После Киева с Москвой-матушкой связал свою судьбу и называл ее Домом Пресвятой Богородицы. Дороден, осанист, полон достоинства, он и с простыми людьми обходился уважительно. Однако, когда совершал заграничное путешествие, возмущен был грубостями и леностью русских слуг, прогнал их и взял иноземцев.
В 1697 году Петр собрал своих подданных, отроков боярских, которые «умом вышли», и объявил, что посылает их за границу – 28 человек в Италию, 22 человека в Англию и Голландию. Каждому велено жить «своим коштом» и непременно взять с собой ученика «хоть бы и из холопов, чтобы они навигацкому делу научились, судном владеть как в бою, так и в простом шествии, знать все снасти и инструменты, к тому подлежащие». А ежели какой боярин пожалеет своего дитяти, не пустит отпрыска, то пусть пеняет на себя. Лени, жизни косной старомосковской царь не терпел, он любил скорость, чтоб дело спорилось!
Собрав всех перед отъездом – три сына Ржевских, стольники Трубецкой, Куракин, Долгорукий, Глебов, – оглядел пронзительным взглядом: поддержат ли его, Петровы, новации? Не будут ли лениться?
Остановил на Шереметеве взгляд. «Любопытство имею повидать другие страны, – сказал тот. – Хочу поклониться в Риме Святым Петру и Павлу». Только и всего? Нет, в пути он посетит польского короля, австрийского императора, Папу Римского, поведет дипломатические переговоры, чтобы расположить Европу в пользу России. Царь доволен: того и желал, ему нужны союзники, понуждает вечная угроза войны с турками.
– Понукать не стану, неволить тебя грех… – начал Петр.
– Понукать меня, государь, не надобно, я сам готов.
– Триумф! – воскликнул, прохаживаясь, царь. – Великое твое посольство будет, Борис Петрович! Крепкую надежу я на тебя имею…
Денег государевых Шереметев не просил. Между тем на одни лишь подарки именитым европейцам израсходовал около 20 тысяч рублей из своего кармана.
Среди бояр пошли разговоры: Шереметев-то, мол, сам, по своей воле едет, не то что их отроки. Но говорили и другое: мол, Петр отсылает из Москвы Шереметева, оттого что за трон свой боится. Однако чего не скажут досужие языки, да еще придворные?
Перед отъездом из Москвы Петр устроил торжественный обед в доме Лефорта, на берегу Яузы, – молодой государь любил этот веселый, открытый дом. В самый разгар запахло дымом – оказалось, что противники его задумали поджечь «неметчину» и разделаться таким образом с царем. Слава Богу, упредили беду, но с того дня Шереметев еще вернее стал в своем желании помогать молодому государю.
Наконец Петр под видом простого матроса отправился в Голландию, а боярин Шереметев во главе великого посольства – в Вену – Варшаву – Рим – Неаполь – на Мальту…
Все занимало Петра в Голландии, он внимал учителям – датским, шведским, немецким, а вечерами пировал с матросами, торговал с купцами, договаривался о покупке оружия, снаряжения, а еще изучал умело рисованные карты, схемы кораблей, лодок. С любопытством рассматривал заспиртованные части тела – и не морщился, а также картины, изображающие анатомический музей: черно-белых, похожих на птиц, докторов возле разрезанного тельца ребенка. Однако картину «В анатомическом музее» покупать не стал, взял другую замечательную картину Рембрандта – «Данаю».
Петр – недоверчивый царь (еще бы ему быть доверчивым! на глазах убивали его дядю, сколько заговоров творили), требовал от своих посланцев отчетов, да еще и от их спутников. Как учатся, чем занимаются Куракины, Голицыны, Стрешневы, другие боярские и дворянские сынки, не тратят ли зря государевы деньги. Ждал доносных писем и о Борисе Петровиче. И выслушивал разговоры: слишком долго живет он в Риме – уж не собирается ли переметнуться в католическую веру?.. С Мальты тоже пришло донесение: хоть и нужна России поддержка христианской Мальты, остров сей как раз посередке Средиземного моря – однако не чересчур ли загостился там боярин? Почести ему оказывают царские: посвящен в рыцарский орден, получил алмазный мальтийский крест… «Небось, изменил православной вере, забыл государеву службу», – жужжали на ухо Петру.
Русские новобранцы плохо переносили европейские порядки. «Ей, мой милостивец, – взывал некий сын, – объявляю сим письмом без всякой фальшивости: так мне здешняя бытность противна и скучна, что и сие письмо до вас, моего государя, пишу, ей, при своих слезах». Родители, боявшиеся царя, писали отрокам: «Зело радуюсь, что учитесь. Токмо соболезную, что еще не говорите по-немецки: уже время немалое, требует прилежания, а не лености. А паче меня веселит, что умеете танцевать».
Между тем дела российские в Европе ухудшались: лифляндские дворяне жаловались на притеснения Карла, шведского короля, Швеция укрепляла союз с Турцией.
…Приближался 1700 год. Наступал конец семнадцатого столетия. Как во всякие конечные времена, истории приходилось туго; колесница ее скрипела, трещала, со всех сторон поступали худые вести, сыпались невзгоды. В Голландии, где жил Петр, море выходило из берегов, возникали великие смерчи, поднимались водяные бури, случалось множество крушений и людских гибелей.
В южных землях – иное. Добравшись до Неаполя, Шереметев стал свидетелем страшного извержения вулкана. «В те дни, – писал он, – превеликий из оной горы исходил огонь, гром, треск и шум… Потекли огненные лавы, причем живущих около сей горы пожгло, побило и переранило каменьями».
Под неведомым космическим знаком в одно и то же время на европейской арене разом возникли две необычайно яркие фигуры – Петр I и Карл XII. Художники не раз изображали их рядом: 18-летнего красивого, большелобого, самонадеянного Карла с символом его власти – грозным львом; Карл, подобно льву, бросается на неприятелей и уже подбирается к России, к ее диким и варварским народам. В облике Петра художников вдохновлял неотвратимый взгляд, черные лихие усики и дерзость. Подобно двуглавому орлу на российском гербе, мечтал он о двух крыльях для России, о двух морях – Черном и Балтийском. В Голландии, глядя на мастерски сделанные карты, упрямо твердил: «Негоже народу русскому на сухой земле сидеть, должно ему бороздить северные и южные моря своими кораблями».
После удара исторического колокола под цифрой «1700» Карл приблизился к границам, закрыл выход к Балтийскому морю, и теперь Петру требовались не столько строители и плотники, но офицеры и генералы для пехоты и конницы. Всех, кто имел хотя бы малый опыт военной службы, призвал он к себе. Призвал и Бориса Петровича, который уже проявил себя в Азовском походе.
– Готов ли, Борис Петрович, служить государю? Карла надо укоротить. Набирай конницу из служилых дворян да толковых посадских людей – назначаю тебя командовать драгунами. А сына твоего Михаила велю определить бомбардиром – пусть артиллерию готовит. Да поспешай, Шереметев!
«Поспешай!» было любимое слово царя. Он все делал быстро, и, коли приходила ему идея, он не успокаивался, пока не добивался ее осуществления. Борис же Петрович не любил спешки, от нее, считал он, проигрывает дело, гибнут люди. Сам всякое дело обдумывал долго, основательно, стараясь все предусмотреть и не семь, а сто раз отмерить, прежде чем отрезать. Ходил и ездил на коне тоже неспешно.
«Поспешай!» – сказал царь и с подозрением глянул на вельможу: знал уже неподатливый характер боярина – тугодум! А сроку у Петра всего один месяц.
«Как за такое время можно собрать армию? – удивился Шереметев. – Из кого? Из сынков дворянских, не привыкших к тяготам и неудобствам военной службы? И против кого? Против регулярной, дисциплинированной армии Карла?.. Время к тому же холодное: месяц ноябрь, ветры, снега, значит, простуды, болезни. Река еще не замерзла, наступать по ней нельзя. А где взять фураж для лошадей? Как полки собрать за такие малые сроки? Питание солдатам обрести, амуницию?.. Никак не можно сие за один месяц…»
От генерала к царю и от царя к генералу последовали реляции и письма, наполненные примерно таким смыслом:
Ш.: Пять тысяч солдат у нас всей-то конницы, а у Карла…
П.: Иди вперед! Поспешай навстречу Карлу!
Ш.: Продвинулись на сто двадцать верст вглубь к неприятелю, врезались, как нож в масло, – а холод, болезни, кормов нет, кругом чужие.
П.: Не пристало русским солдатам страх иметь!
Ш.: Разведка донесла: у Карла около 30 тысяч армия… Не можно ввязываться в бой, отступать надо к Нарве. А главное: больных зело много, холодно, люди на улице, в избы нас не пускают. И ротмистры многие больны.
П.: Страх за свою персону имеешь, генерал? Без моего приказа отступать вздумал?
Ш.: Я оттуда не из боязни ушел, а для лучшей целости… И себя остеречь.
П.: Не сметь отступать!
Что было делать? Федору Головину Шереметев писал: «Пришел назад… Только тут стоять никакими мерами нельзя… вода колодезная безмерно худа, люди от нее болят, поселения никакого нет, всё сожжено, дров нет, кормов конских нет».
Разведка приносила худые вести: Карл стремительно продвигается вперед, приближается к Нарве. Петр недоволен Шереметевым – и командующим назначает австрийского генерала, послав такой указ: «Приказал я ведать над войски и над вами фон Крою; изволь сие ведать и по тому чинить, как написано в статьях у него, за моею рукою, и сему поверь».
Шереметев побледнел, прочтя указ, – царь выказывал ему недоверие, иностранного генерала ставил над ним! Долго сидел, плотно сжав губы и сдвинув брови, но вынужден был подчиниться…
Началась та злосчастная Нарва (первая!), в ночь на 19 ноября 1700 года.
Ветер срывал с домов крыши, дождь и снег, небо словно сбесилось, земля окоченела.
Погода такая, что хороший хозяин собаку на двор не выпустит, не то что баталии разыгрывать. Но Карл, мнивший себя непобедимым, именно в эту ночь повел наступление.
На той стороне – Нарва и шведы, на этой – русские и крепость Иван-город, сооруженная Иваном Грозным, а посредине – река Нарова.
Собирались армии, уплотнялись солдатские полки.
А в небе сгущались облака, черневшие незимней синевой.
Раздались команды – и солдаты двинулись навстречу друг другу.
Калмыки, русские с громкими криками и улюлюканьем, подбадривая себя, воткнув шпоры в лошадиные бока, помчались на шведов.
Шведы же бесшумно и уверенно, плотной массой, двигались вперед.
Неприятели сблизились, когда вдруг из темных туч посыпался бешеный снег, подобный граду. Не стало видно ничего, серо-белое месиво залепляло глаза и делало невидимыми, неотличимыми русских и шведов, пеших и конников, татар и казаков. Не распознать ни своих, ни чужих.
Шереметев перестал что-либо видеть, почти потерял управление.
Полковник Михаил Шереметев, командовавший бомбардирами, стрелял, не видя цели, артиллерия его била наугад, бомбы шлепались в воду, в снег, сметая своих и чужих.
Фон Крой расставил солдат по одному, цепью, по всему фронту. Шведы их мигом прорвали, и тогда солдаты стали бить своих офицеров с криками: «Немцы нам изменили!» Генерал чертыхнулся: «Пусть сам черт дерется с такими солдатами!» – и сдался в плен шведам.
Началась паника. – Назад! Нас окружили! – закричали со всех сторон, и пехота побежала к мосту…
Раздался грохот! В снежной пыли, в мокрой сумасшедшей белизне рухнул мост, и сотни людей оказались в воде… «От страха и ужаса много людей потонуло в реке Нарове», – писал современник.
Шереметев напрягал зрение, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть в снежном месиве, но только шум, крики, вопли… Повернув коня к реке, скомандовал драгунам:
– Через реку вплавь! – и бросился в воду.
Ледяное крошево охватило его, сковав ноги. И только конь, его верный конь, раздвигая мордой ледяную кашу, плыл, вытянув шею. Следом раздались голоса, конское ржание: копошились люди, коченели лошади, ничего не было видно в кромешной тьме и снеге, падали бомбы, всё кипело и грохотало. Казалось, это предел возможного, но тут произошло совсем неожиданное – ударил гром! Зимний гром – злая примета… Или то был особый знак? Вновь подал голос новый век? И тут же дворянская конница, собранная Шереметевым немалыми усилиями, побежала – командующий был опозорен!
А спустя несколько часов в деревенской мызе, возле печки на корточках сидел Афоня, подкладывал поленья в огонь, наливал воду в чан, а из чана в деревянную бочку. В бочку, прикрывшись сверху теплой накидкой, только что залез Борис Петрович, окоченевший от холода и ужаса, от лютой простуды после купания в ледяной Нарове. Вместе плыли они по реке, вырываясь из ее объятий, обоих обдало снегом и землей; на берегу, когда рядом упала бомба, Афоня бросился сверху на своего барина, закрыв его, а теперь лечил по ему лишь ведомому рецепту, согревал, растирал, поил отварами.
Здесь же, на полу, валялся Михаил, потерявший почти всю артиллерию и не хотевший больше жить. Он держал в руках бутылку водки, пил и не желал слушать ничьих увещеваний…
Это был черный день в жизни отца и сына. Что скажут сродники, Шереметевы? Что скажет Петр?..
Генерал ждал разноса от царя, готов был к гневу великому, но тот поразил всех своим великодушием: «Ничего! Надобно нам учиться воевать! Опыта, чай, нажили, теперь неволя леность переборет! Двигаться будем скорее!» А храброго, но неудачливого Михаила даже утешал: «Другой раз будешь лучше ведать, куда ставить мортиры!.. Все едино – молодцы! Паки и паки! Как лень русскую победим, так и Карл нам не страшен».
И, еще не отмыв с лица порохового дыма, уже увлекал приближенных новыми мечтаниями:
– Лютый Карла задумал проглотить Россию, а вы, сподвижники мои верные, про свое думайте… Сповадливо ли нам трусить? Кусать надобно Карла, кусать! Только думать: с какого края? И немедля идти вперед!
Шереметев не верил своим ушам: как, только что погребли убитых, потеряли столько оружия, провианта?.. У командующего злой кашель – стреляет словно картечь, а Петр указывает:
– Для лучшего вреда неприятелю – как замерзнет река, вдаль идти!
Помрачнел Шереметев: «Уж не потому ли торопится Петр, что гордыню его задевает Карлова победа?.. Тому-то война как младенческие игры, а нам?..» Петр будто читал его мысли на расстоянии. Передавали его слова: «Не чини отговорки, Борис Петрович. Карла веселится. Европа смеется над нами, вот уже медаль шутовскую отлили, как царь Петр из-под Нарвы убег делает, а ты? Как река замерзнет, идем! Неужто не одолеем проклятого Карла, насмешки его терпеть станем?»
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?