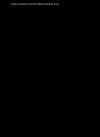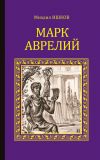Текст книги "Легенда о Сан-Микеле"

Автор книги: Аксель Мунте
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Он сказал, что попросит жену помянуть меня, когда та будет молиться святой, которая сама лишилась зрения, но потом стольким его возвратила! Его жена, рассказывал он мне, весь день сидит у окна и ждет его возвращения. У нее на свете есть только он, так как она вышла за него против воли родителей. Он отослал бы ее из зараженного города, но она отказывается покинуть его.
Я спросил, не боится ли он смерти. Только из-за жены, ответил он. Ведь смерть от холеры так ужасна! И лучше, чтобы твое тело сразу свезли на кладбище, так чтобы его не увидели любящие глаза.
– Ну, с вами ничего не случится, – сказал я. – За вас кто-то молится, а у меня нет никого!
Его красивое лицо омрачилось.
– Обещайте мне, если…
– Не будем говорить о смерти, – вздрогнув, прервал я его.
Маленькая остерия «Дель-Аллегрия» за площадью Меркато была моим любимым местом отдыха. Кормили там скверно, но вино было прекрасное, по шесть сольди за литр, и я пил его в больших количествах. Когда у меня не хватало духу пойти домой, я нередко засиживался там почти до утра. Чезаре, ночной официант, вскоре стал большим моим приятелем, и после третьего случая холеры в моем трактире я переехал в пустую комнату в доме, где он жил. Моя новая квартира оказалась не чище прежней, но в одном Чезаре не ошибся: куда приятнее было «иметь общество». Его жена умерла, но Мариучча, его дочь, была жива, и даже очень. Она считала, что ей пятнадцать лет, но была уже в полном расцвете – черноглазая, с сочными красными губами, она походила на маленькую Венеру из Капитолийского музея. Она стирала мое белье, готовила макароны и стелила постель, когда не забывала об этом.
До того времени она не видела ни одного иностранца и постоянно появлялась у меня в комнате то с гроздью винограда, то с ломтем арбуза или с тарелкой винных ягод. А когда ей нечего было мне предложить, она вынимала розу из своих темных кудрей и протягивала ее мне с обворожительной улыбкой сирены и лукавым взглядом, который, казалось, спрашивал, не хочу ли я получить ее алые губы тоже.
Целый день на кухне звенел ее громкий голос.
– Amore! Amore! – пела она. – Любовь! Любовь!
Всю ночь я слышал, как Мариучча ворочается в кровати за перегородкой. Она объясняла, что ей не спится, что ей страшно оставаться одной по ночам – страшно dormire solo. А мне не страшно спать одному?
– Вы спите, синьорино? – шепотом спрашивала она из-за перегородки.
Нет, я не спал, я не мог сомкнуть глаз – как и ей, мне не нравилось dormire solo.
Какое новое волнение заставляло биться мое сердце с такой силой и с такой лихорадочной быстротой гнало по жилам мою кровь? Почему прежде, когда я дремал в боковом приделе церкви Санта-Мария-дель-Кармине, я никогда не замечал всех этих красивых девушек в черных мантильях, которые, стоя на коленях на мраморном полу, молились и пели, улыбаясь мне исподтишка? Как мог я ежедневно проходить мимо торговки фруктами на углу и не останавливаться, чтобы поболтать с ее дочкой Нанниной, чьи щечки походили на персики, которые она продавала? Почему я не замечал раньше, что цветочница на площади Меркато улыбается так же чарующе, как Весна Боттичелли? Каким образом я умудрился провести столько вечеров в остерии «Дель-Аллегрия» и не заметить, что в голову мне ударяет вовсе не вино, а лукавый блеск в глазах Кармелы? Как случилось, что я слышал лишь стоны умирающих и похоронный звон колоколов, когда на всех улицах раздавался смех и любовные песни, а на каждом крыльце девушки шептались с возлюбленными?
Что случилось со мной? Не околдовала ли меня ведьма? Или кто-нибудь из этих девушек подлил мне в вино несколько капель любовного напитка дона Бартоло? Что случилось со всеми окружающими меня людьми? Опьянели они от молодого вина или обезумели от похоти перед лицом смерти?
Morto la colera, evviva la gioia!
Смерть холере, да здравствует радость!
Я сидел в остерии за своим обычным столиком и дремал перед бутылкой вина. Было уже далеко за полночь, и я решил дождаться, когда Чезаре кончит работать, чтобы пойти домой вместе с ним. Ко мне подбежал какой-то мальчишка и протянул мне записку. «Придите», – было нацарапано в ней неразборчивыми каракулями.
Пять минут спустя мы уже стояли перед чугунными воротами монастыря Сепольте-Виве. Старуха-монахиня впустила меня и повела через монастырский сад, звоня в колокольчик. Мы прошли по пустому бесконечному коридору, затем другая монахиня поднесла фонарь к моему лицу и открыла дверь тускло освещенной кельи. Там на полу, на соломенном тюфяке, лежал доктор Виллари. Я едва его узнал. Падре Ансельмо давал ему последнее причастие. Он уже совсем похолодел, но по его глазам я понял, что он в сознании. Я взглянул на его лицо и вздрогнул от ужаса – это был уже не мой приятель, это была сама смерть, жуткая, отвратительная смерть. Раза два он приподнял руку, пытаясь указать на меня, его страшное лицо подергивалось от отчаянных усилий, и наконец искаженные губы внятно произнесли specchio, зеркало. Монахиня принесла маленькое зеркальце, которое я поднес к его полузакрытым глазам. Он покачал головой и больше уже не подавал никаких признаков жизни. Через час его сердце остановилось.
У ворот стояла повозка, приехавшая за телами двух умерших в тот день монахинь. Я знал, что от меня зависит, увезут его вместе с ними или оставят до следующего вечера. Мне поверили бы, скажи я, что он еще жив, – он выглядел таким же, каким был, когда я пришел. Я ничего не сказал. Через два часа его труп был сброшен с сотнями других в общую могилу на холерном кладбище, ибо я понял, почему он указал на меня и почему покачал головой, когда я держал зеркало перед его глазами. Он не хотел, чтобы его жена увидела то, что увидел в зеркале он. И он хотел, чтобы я пошел к ней, когда все будет кончено.
Подходя к его дому, я увидел в окне бледное лицо женщины, почти девочки. Когда я отворил дверь, она попятилась с ужасом в глазах.
– Ты иностранный доктор, о котором он мне так часто рассказывал. Он не приходил – я всю ночь простояла у окна. Где он?
Накидывая на плечи мантилью, она бросилась к дверям.
– Отведи меня к нему, я должна его сейчас же увидеть!
Я удержал ее, сказал, что сначала должен поговорить с ней. Я сказал, что он заболел в монастыре Сепольте-Виве, что весь монастырь заражен и ей нельзя пойти туда; она обязана думать о ребенке, которому должна дать жизнь.
– Помоги мне спуститься по лестнице! Я должна сейчас же идти к нему. Почему ты не хочешь мне помочь? – рыдала она и вдруг, испустив пронзительный вопль, почти без чувств упала на стул.
– Это не правда, он не умер! Почему ты молчишь? Ты лжец! Он не мог умереть, не повидав меня!
Она снова кинулась к двери.
– Я должна его увидеть! Должна!
Я снова ее удержал.
– Вы его не увидите. Его там нет, он…
Она прыгнула на меня как раненый зверь.
– Ты не имел права увозить его, пока я не посмотрела на него! – кричала она в ярости. – Он был свет моих очей, и ты отнял у меня свет! Лжец! Убийца! Святая Лючия, отними у него свет, как он отнял у меня свет моих очей! Выколи ему глаза, как ты их выколола самой себе!
Превратившись на глазах в старуху, она кинулась на меня с поднятыми руками, словно собираясь исцарапать мне лицо.
– Святая Лючия, отними у него зрение, ослепи его! – кричала она мне вслед, когда я, шатаясь, бежал вниз по лестнице.
Страшное проклятие, самое страшное, какое только можно было измыслить, всю ночь раздавалось у меня в ушах. Я не пошел домой, я страшился темноты и провел остаток ночи в Санта-Мария-дель-Кармине, думая, что день никогда не наступит.
Когда я рано утром добрел до аптеки Сан-Дженнаро, чтобы, по обыкновению, выпить глоток жизненного эликсира дона Бартоло – еще одного семейного снадобья, весьма эффективного, – оказалось, что туда заходил падре Ансельмо и просил передать, чтобы я немедленно побывал в монастыре.
В обители царило смятение: еще три монахини заболели холерой. Падре Ансельмо сказал, что после долгого совещания они с настоятельницей решили просить меня занять место умершего коллеги, так как другого врача нельзя было найти. По коридорам метались перепуганные монахини, другие молились и пели в часовне. Больные лежали в кельях на соломенных тюфяках. Одна из них к вечеру умерла. Утром заболела помогавшая мне старая монахиня. Ее заменила молодая монахиня, которую я уже заметил при первом посещении – да и не удивительно, так как это была юная девушка редкой красоты. Со мной она совсем не разговаривала и даже не ответила, когда я спросил, как ее зовут. Падре Ансельмо сказал, что это сестра Урсула.
Вечером я объявил, что мне нужно поговорить с настоятельницей, и сестра Урсула проводила меня к ее келье. Старая настоятельница оглядела меня холодными, проницательными глазами, строго и испытующе, как судья. Ее лицо было неподвижно и безжизненно, как мраморное, а тонкие губы, казалось, никогда не улыбались. Я объяснил ей, что весь монастырь заражен, что санитарные условия из рук вон плохи, вода в садовом колодце вредоносна и они должны немедленно перебраться в другое место, иначе им всем грозит смерть.
Она ответила, что об этом не может быть и речи: таков устав их ордена, и еще ни одна монахиня не покидала монастыря иначе, чем в гробу. Им всем придется остаться в его стенах и уповать на Мадонну и святого Дженнаро.
Если не считать кратких посещений аптеки ради все возрастающих доз жизненного эликсира дона Бартоло, я безвылазно провел в монастыре несколько страшных, незабываемых дней.
Я вынужден был сказать падре Ансельмо, что мне нужно вино, и вина у меня стало много, может быть, даже слишком много. Я почти не спал и, казалось, не нуждался в сне. Не думаю, что сумел бы уснуть, даже будь у меня на это время – страх и бесчисленные чашки черного кофе привели нервную систему в возбуждение, исключавшее всякую усталость. Отдыхал я только в тех редких случаях, когда мне удавалось уйти в монастырский сад, где, сидя на старой мраморной скамье под кипарисами, я выкуривал одну сигарету за другой. Обломки античных статуй валялись по всему саду, и над колодцем был вкопан древний римский жертвенник. Теперь он стоит во дворе Сан-Микеле. У самых моих ног лежал разбитый розовый фавн, а из-под ветвей кипариса выглядывал маленький Эрос, по-прежнему стоявший на колонне из африканского мрамора.
Раза два я заставал на скамье сестру Урсулу, объяснившую мне, что она выходит подышать свежим воздухом, так как ей становится дурно от ужасного запаха, пропитавшего весь монастырь. Однажды она принесла мне чашку кофе и осталась ждать, чтобы унести чашку обратно, а я пил кофе как можно медленнее, чтобы удержать ее в саду подольше. Мне казалось, что она перестает дичиться и даже рада, что я медлю с возвращением чашки. Мои усталые глаза словно отдыхали, когда я смотрел на нее.
А скоро это стало радостью, потому что она была прекрасна. Понимала ли она то, что говорили ей мои глаза, то, чего не смели произнести мои губы: «Я молод, а ты красива!»? Иногда мне казалось, что она понимает всё.
Я спросил, почему она решила схоронить свою юность в монастыре. Неужели она не знает, что за этими стенами, где царят ужас и смерть, мир все еще прекрасен, жизнь полна радости, а не только страданий?
– А знаете ли вы, кто этот мальчик? – сказал я, указывая на маленького Эроса под кипарисами.
Урсула всегда думала, что это ангел.
О нет, это бог, самый великий из всех богов и, может быть, самый древний. Он властвовал над Олимпом и все еще властвует над нашим миром.
– Ваш монастырь построен на развалинах древнего храма, стены которого рассыпались в прах под воздействием времени и человеческих рук. Только этот мальчик стоит там, где стоял всегда с колчаном стрел в руке, готовый натянуть лук. Его нельзя разбить, потому что он бессмертен. Древние называли его Эросом, он – бог любви.
Не успел я произнести это кощунственное слово, как колокол часовни зазвонил к вечерне. Сестра Урсула перекрестилась и поспешила уйти из сада.
Вскоре за мной прибежала другая монахиня: настоятельница упала без чувств в часовне и ее перенесли в келью. Настоятельница посмотрела на меня своими страшными глазами, затем подняла руку и указала на распятие, висевшее над кроватью: ей дали последнее причастие. Силы к ней не вернулись, она не произнесла ни единого слова, ее сердце билось все слабее, и было ясно, что конец близок. Весь день она лежала с закрытыми глазами, с распятием на груди и четками в постепенно холодеющих руках. Раза два мне казалось, что ее сердце еще бьется, но потом я не мог уже различить ничего. Я смотрел на неподвижное жестокое лицо старой настоятельницы, которое и смерть не смогла смягчить, и даже почувствовал какое-то облегчение при мысли, что ее глаза закрылись навсегда. Что-то в этих глазах меня пугало. Я взглянул на стоявшую рядом со мной сестру Урсулу.
– Я не могу здесь дольше оставаться, – сказал я, – я не спал с тех пор, как я здесь, у меня кружится голова, я сам не свой. Я больше не знаю, что делаю, боюсь самого себя, боюсь тебя… боюсь…
Я не успел договорить, а она не успела уклониться, как мои руки уже обняли ее, и я почувствовал бурное биение ее сердца рядом с моим.
– Сжальтесь! – прошептала она.
Вдруг она указала рукой на кровать и с криком ужаса выбежала из комнаты. Прямо на меня смотрели глаза настоятельницы – широко открытые, грозные, страшные. Я наклонился, и мне показалось, что я слышу слабое трепетание сердца. Умерла она или еще жива? Могли эти ужасные глаза видеть, видели ли они? Заговорят ли вновь эти уста? Я не осмелился еще раз взглянуть на нее и, прикрыв ее лицо простыней, выбежал из кельи и покинул монастырь Сепольте-Виве, чтобы никогда больше туда не возвращаться.
На следующий день я упал в обморок на Страда-Пильеро. Когда я пришел в себя, оказалось, что я лежу в повозке, а на заднем сидении сидит перепуганный полицейский. Мы ехали в Санта-Маддалена, холерную больницу.
В другом месте я рассказал о том, как закончилась эта поездка, как три недели спустя мое пребывание в Неаполе завершилось чудесной прогулкой по заливу на лучшей парусной лодке во всем Сорренто в обществе десяти каприйских рыбаков и как мы целый день простояли на рейде у берегов Капри и не могли высадиться из-за карантина.
В «Письмах из скорбного города» я, разумеется, ни словом не упомянул о том, что произошло в монастыре Сепольте-Виве. Я не посмел рассказать об этом кому бы то ни было – даже моему старому другу, доктору Норстрему, летописцу большинства грехов моей юности. Воспоминание о моем постыдном поведении преследовало меня долгие годы. И чем чаще я о нем думал, тем более непостижимым оно мне казалось.
Что со мной случилось? Какая неведомая сила заставила меня потерять власть над чувствами, хоть и сильными, но обычно менее сильными, чем рассудок. Я не был в Неаполе новичком и не раз уже смеялся и болтал с бойкими девушками юга. На Капри летними вечерами я танцевал с ними тарантеллу. В худшем случае мог украсть у них поцелуй-другой, но всегда оставался капитаном корабля, который легко подавляет любую попытку мятежа. В студенческие годы, проведенные в Латинском квартале, я едва не влюбился в сестру Филомену, прекрасную молодую монахиню в палате святой Клары, но осмелился только протянуть ей руку в тот день, когда покидал больницу навсегда, и она даже не пожала моей руки. А здесь, в Неаполе, я готов был обнять первую встречную девушку, и, несомненно, сделал бы это, если бы не упал в обморок на Страда-Пильеро в тот самый день, когда поцеловал монахиню у смертного одра ее настоятельницы.
Когда я теперь, через столько лет, оглядываюсь на эти неаполитанские дни, мое поведение по-прежнему представляется мне непростительным, но, быть может, теперь я сумею до известной степени объяснить его.
Столько лет наблюдая за битвой между Жизнью и Смертью, я не мог не узнать кое-чего об этих бойцах. Когда я впервые увидел Смерть в больничных палатах – это была лишь учебная схватка, детская игра по сравнению с тем, что я увидел потом. В Неаполе Смерть на моих глазах уносила более тысячи человек в день. В Мессине я видел, как она за одну минуту погребла под развалинами домов более ста тысяч мужчин, женщин и детей. Позднее я видел ее под Верденом, видел, как она руками по локоть в крови уничтожила четыреста тысяч человек, как косила цвет армии на полях Фландрии и при Сомме. И только когда я увидел, как Смерть работает с подобным размахом, мне стала понятна ее тактика. Захватывающее исследование, полное тайн и противоречий!
Сначала все кажется ужасающим хаосом, бессмысленной бойней, путаницей, слепым случаем. Не успеет Жизнь победоносно продвинуться вперед, размахивая новым оружием, как в следующее же мгновение ей приходится отступать перед торжествующей Смертью. На самом деле все обстоит иначе. Эта битва даже в самых малейших деталях регулируется непреложным законом равновесия между Жизнью и Смертью. Там, где какая-то случайная причина нарушает это равновесие – будь то чума, землетрясение или войны, – бдительная Природа тотчас же начинает выравнивать чаши весов и создавать новые существа, которые заменили бы павших.
Подчиняясь непоборимой силе Природы, мужчины и женщины падают в объятия друг друга, ослепленные сладострастием, и даже не подозревают, что рядом с ними стоит Смерть, держа в одной руке любовный напиток, а в другой – чашу вечного сна. Смерть – податель Жизни, губитель Жизни, Смерть – начало и конец.
Глава 9. Снова в Париже
Вместо одного месяца я отсутствовал три. Я не сомневался, что многие из моих пациентов останутся у моего друга, доктора Норстрема, который лечил их, пока меня не было. Однако я ошибся: они все вернулись ко мне – и те, кому стало лучше, и те, кому стало хуже, – вернулись, отзываясь с большой похвалой о моем коллеге, но и с неменьшей – обо мне. Я не имел бы ничего против, если бы они предпочли его: я и так был очень занят, а его практика, как я знал, все сокращалась, и он даже вынужден был переехать с бульвара Осман в скромную квартирку на улице Пигаль. Норстрем неизменно был верным другом, много раз выручал меня в начале моей карьеры, когда я пробовал силы в хирургии, и всегда был готов взять на себя долю ответственности за мои частые ошибки. На память мне приходит история барона Б. Пожалуй, я расскажу ее, чтобы вы поняли, каким человеком был мой друг.
Барон Б., старейший член шведской колонии, часто недомогал, и его лечил Норстрем. Однажды Норстрем, поддавшись злополучной робости, настоял, чтобы на консилиум пригласили меня. Барону я очень понравился – нового врача всегда считают хорошим, пока он не докажет обратного. Норстрем рекомендовал немедленную операцию, я был против. Барон написал мне, что ему надоел мрачный вид Норстрема, и просил меня стать его врачом. Я, конечно, отказался, но Норстрем сам пожелал передать мне пациента.
Здоровье барона, казалось, улучшалось на глазах, и все меня поздравляли. Через месяц мне стало ясно, что Норстрем был прав в своем диагнозе, но что теперь уже поздно думать об операции; больной был обречен. Я написал его племяннику в Стокгольм, чтобы он приехал и отвез дядю умирать на родину. С большим трудом мне удалось уговорить старика – он не хотел со мной расставаться, утверждая, что я – единственный врач, который понял его болезнь. Через несколько месяцев племянник написал, что дядя завещал мне ценные золотые часы с репетиром на память о том, что я для него сделал. Я часто нажимаю кнопку репетира, чтобы звон часов напоминал мне, из чего слагается слава врача.
В последнее время отношения между Норстремом и мною несколько изменились. Все чаще его больные обращались ко мне – чересчур часто! В тот день, о котором пойдет речь, один из них умер у меня на глазах – смерть тем более неприятная для Норстрема, что больной принадлежал к самым известным людям шведской колонии. Норстрем был чрезвычайно расстроен, и я повез его обедать в кафе «Режанс», чтобы он немного рассеялся.
– Объяснил бы ты мне секрет твоего успеха и моих неудач, – сказал Норстрем, мрачно уставившись на меня поверх бутылки сен-жюльена.
– Прежде всего, это дело удачи, – сказал я. – Однако играет роль и разница в характере: я хватаю фортуну за волосы, а ты, засунув руки в карманы, смотришь, как она пролетает мимо. Я убежден, что ты гораздо лучше меня знаешь особенности человеческого организма и его болезни, зато я, пожалуй, лучше тебя знаю человеческую душу, хотя ты и вдвое меня старше. Ну для чего ты сказал русскому профессору, которого я послал к тебе, что у него грудная жаба, и описал ему все симптомы этой неизлечимой болезни?
– Он требовал, чтобы ему сказали правду, и я должен был ее сказать, иначе он не стал бы меня слушаться.
– Я ему ничего подобного не говорил, а он все-таки слушался меня беспрекословно. Он лгал, когда говорил, что хочет знать всё и не боится смерти. Никому не хочется знать, что его болезнь неизлечима, и любой человек боится смерти, что вполне понятно. Теперь он чувствует себя гораздо хуже. Его жизнь отравлена страхом, и это твоя вина!
– Ты постоянно говоришь о нервах и психике, как будто наш организм состоит только из них. Причина грудной жабы – атеросклероз коронарных сосудов.
– Спроси у профессора Юшара, что произошло на прошлой неделе в его клинике, когда он демонстрировал нам случай грудной жабы. У пациентки внезапно начался сильный приступ, который сам профессор счел за смертельный. Я попросил у него разрешения попробовать прекратить приступ с помощью внушения. Он заметил, что это бесполезно, но согласился. Я положил больной руку на лоб, сказав, что сейчас все пройдет, и вскоре выражение ужаса исчезло из ее глаз, она глубоко вздохнула и объявила, что чувствует себя здоровой. Ты, конечно, скажешь, что это был случай ложной грудной жабы, но я могу доказать противное. Четыре дня спустя приступ повторился, и через пять минут она умерла. Ты всегда стараешься объяснить пациентам то, что подчас сам себе объяснить не можешь. Ты забываешь, что главное тут вера, а не знания, – совсем как в религии. Католическая церковь никогда ничего не объясняет – и остается одной из самых мощных сил мира; протестантская церковь пытается все объяснить – и разваливается.
Чем меньше правды знают пациенты, тем лучше для них. Работа органов нашего тела вовсе не руководится рассудком, и, заставляя пациентов задумываться над их болезнями, ты нарушаешь законы природы. Говори, что они должны делать то-то и то-то, принимать то или иное лекарство, чтобы выздороветь, а если они не намерены тебя слушаться, пусть обращаются к другому врачу. Не посещай их без крайней необходимости и разговаривай с ними поменьше, не то они тебя быстро раскусят и поймут, как мало мы знаем. Врачи, подобно высочайшим особам, должны сохранять определенную дистанцию между собой и остальными людьми – мы все выглядим лучше в притушенном свете. Вспомни, что близкие врача всегда предпочитают лечиться у кого-нибудь другого. Как раз теперь я тайно лечу жену знаменитого парижского врача – всего два дня назад она показала мне его последний рецепт и спросила, будет ли ей полезно это лекарство.
– Ты все время окружен женщинами. Если бы только я нравился им, как ты! Даже моя старая кухарка влюблена в тебя с тех пор, как ты ее вылечил от прострела.
– От всей души я хотел бы меньше им нравиться и с радостью передал бы тебе всех этих нервных дам. Я знаю, что репутацией так называемого «модного врача» я больше всего обязан им, но, поверь, иметь с ними дело очень неприятно, а иногда даже и опасно. Ты сказал, что хотел бы нравиться женщинам, в таком случае никогда им этого не говори, не благоговей перед ними, не позволяй тобой командовать. Женщины, хотя они, по-видимому, этого не сознают, больше любят подчиняться, чем подчинять себе. Они делают вид, будто равны нам, и при этом чертовски хорошо знают, что ничего подобного нет – к счастью для них: будь это так, они нравились бы нам гораздо меньше. Сам я ставлю женщин намного выше мужчин, но им этого не говорю.
Они более храбры, они страдают и умирают более стойко, чем мы, в них больше сострадания и меньше тщеславия. Их интуиция, в конечном счете, более надежный вожатый, чем наш разум, и они не так часто делают глупости, как мы. Любовь для женщины значит гораздо больше, чем для мужчины, она для нее – все. И чувственность тут не играет почти никакой роли. Женщина может полюбить урода или старика, если ему удастся воспламенить ее воображение. Мужчина может влюбиться в женщину, только если она разбудит его сексуальный инстинкт. К несчастью для нас, сексуальный инстинкт современного мужчины живет дольше, чем его потенция, вопреки предначертаниям природы. Вот почему для влюбленности нет возрастного предела. Ришелье был по-прежнему неотразим, когда уже еле держался на ногах, а Гёте было семьдесят, когда он потерял голову из-за Ульрики фон Леветцов.
Сама любовь живет не долее цветка. У мужчины она умирает естественной смертью в браке, у женщины нередко живет до самого конца, преобразившись в материнскую нежность к развенчанному герою ее мечты. Женщины не способны понять, что мужчина по природе полигамен. Он может принудить себя подчиниться современному кодексу общественной морали, но его необоримый инстинкт только спит. Он остается все тем же животным, каким был создан, и всегда готов действовать.
Женщины не менее умны, чем мужчины, может быть, они в среднем даже умнее, но их ум иного рода. Факт остается фактом: мозг мужчины тяжелее мозга женщины. Даже у новорожденных различаются извилины мозга в зависимости от пола. Анатомические различия становятся еще более наглядными при сравнении затылочной доли мозга обоих полов: именно из-за псевдоатрофии этой доли в женском мозгу Гуше и приписывает ей такое большое значение для психики. Закон различия полов – незыблемый закон природы, который проходит через весь живой мир и становится тем более выраженным, чем выше биологический вид.
Утверждается, будто все можно объяснить тем, что мужчины сделали все области культуры своей монополией, а для женщин они были закрыты. Так ли это? Даже в Афинах женщина была поставлена ничуть не ниже мужчины, и все области культуры были ей открыты! Ионические и дорические племена всегда признавали женскую свободу – у лакедемонян эта свобода была даже слишком велика. Во времена римского владычества, то есть четыреста лет высочайшей культуры, женщины пользовались большой свободой. Достаточно вспомнить, что они полновластно распоряжались своим имуществом. В средние века образованность женщины была выше образованности мужчин. Рыцари лучше владели мечом, чем пером: учеными были монахи, но ведь существовало много женских монастырей, обитательницы которых равно могли совершенствовать свои знания.
Возьмем хотя бы нашу профессию, в которой женщины отнюдь не новички. В Салернской школе преподавали женщины. Луиза Буржуа, докторша Марии Медичи, жены Генриха IV, написала плохую книгу по акушерству. Маргарита Ламарш была главной акушеркой больницы Отель-Дьё в 1677 году, мадам ла Шапель и мадам Буавен написали множество книг о женских болезнях, и все очень скверные. В XVII и XVIII веках в знаменитых итальянских университетах Болоньи, Павии, Феррары и Неаполя преподавали немало женщин. Но ни одна из них не сделала сколько-либо заметного вклада в свою отрасль науки. Именно потому, что акушерство и гинекология так долго оставались в женских руках, они и пребывали в состоянии безнадежного застоя. Прогресс наступил лишь тогда, когда ими занялись мужчины. Даже теперь ни одна женщина, если ее жизнь или жизнь ее ребенка в опасности, не обращается к доктору своего пола.
А в музыке! Все дамы Возрождения играли на лютне, а позднее на арфе, клавикордах и клавесине. В течение ста лет девушки высших классов усердно барабанили по клавишам, но мне не известно ни одного первоклассного музыкального произведения, созданного женщиной, и я еще не встречал женщины, которая могла бы по-настоящему хорошо сыграть «Адажио Состенуто» Бетховена, опус 106. Все барышни немножко рисуют, но насколько я знаю, ни в одной галерее Европы не найдется картины, подписанной женщиной, не считая, пожалуй, Розы Бонёр, которая брилась и носила мужскую одежду.
Одним из величайших поэтов древних времен была женщина. Из венка, обрамлявшего чело этой волшебницы, остались лишь несколько розовых лепестков, хранящих аромат вечной весны. Какая бессмертная радость, какая бессмертная печаль звенит в этой дальней песне сирены, прозвучавшей с берегов Эллады! Несравненная Сафо, услышу ли я вновь твой голос? Кто знает, может быть, ты еще поёшь в каком-нибудь не найденном свитке, скрытом под лавой Геркуланума!
– Мне надоело слушать про твою Сафо! – проворчал Норстрем. – Того, что я знаю о ней и ее поклонниках, для меня вполне достаточно! Мне надоело слушать о женщинах. Вино ударило тебе в голову, и ты наговорил кучу глупостей! Пойдем домой!
Когда мы шли по улице, моему приятелю захотелось пива, и мы сели за столик перед кафе.
– Привет, миленький! – окликнула Норстрема дама за соседним столиком. – Не угостишь ли кружечкой – я не ужинала!
Норстрем резко попросил ее оставить его в покое.
– Добрый вечер, Хлоя, – сказал я. – Как дела у Флопетт?
– Работает в переулках. На бульварах до полуночи ей нечего делать.
Но тут как раз появилась Флопетт и подсела к напарнице.
– Ты снова напилась, Флопетт! – сказал я. – Так ты скорехонько отправишься на тот свет.
– И пусть, – сказала она хриплым голосом. – Хуже, чем здесь, там не будет.
– Ты не очень разборчив в знакомствах, – проворчал Норстрем, в ужасе глядя на проституток.
– У меня бывали знакомства и похуже, – сказал я. – К тому же я их врач. У обеих сифилис, остальное доделает абсент: они долго не протянут, а потом смерть – в Сен-Лазар или просто в канаве. Во всяком случае, они не скрывают, кто они такие. И не забывай, что такими их сделал мужчина и что другой мужчина стоит за углом, чтобы отобрать у них жалкие гроши, которые они от нас получают. И эти проститутки вовсе не так дурны, как ты думаешь: они до конца остаются женщинами, сохраняя все женские недостатки, но также и многие добродетели, которые не может уничтожить никакое падение. Как ни странно, но они способны на самую высокую любовь. Однажды в меня влюбилась проститутка – она стала застенчивой и робкой, как молодая девушка, и даже краснела под слоем румян. А это жалкое создание за соседним столиком могло бы при других обстоятельствах стать прекрасной женщиной. Дай я расскажу тебе ее историю.
– Помнишь, – начал я, когда мы медленно шли под руку по бульвару, – женский пансион в Пасси, который содержат монахини ордена Святой Терезы, куда ты привозил меня в прошлом году к шведской девочке, умиравшей от тифа? Вскоре заболела еще одна девочка – хорошенькая пятнадцатилетняя француженка, и меня позвали к ней. Однажды вечером, когда я выходил из пансиона, меня вдруг окликнула уличная женщина, ходившая взад и вперед по тротуару. Я резко отвернулся, но она робко попросила разрешения сказать мне два слова. Она уже целую неделю поджидала меня здесь, но не решалась заговорить, пока было светло. Она называла меня «господин доктор» и дрожащим голосом расспрашивала, как чувствует себя девочка, у которой тиф, опасно ли это. «Я должна ее увидеть до того, как она умрет! – рыдала она, и слезы катились по ее накрашенным щекам. – Я должна ее увидеть, я ее мать!» Монахини ничего об этом не знали. Девочку отдали под их опеку, когда ей было три года, а деньги переводились через банк. Мать видела дочь лишь издали по четвергам, когда воспитанницы выходили на прогулку.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?