Текст книги "Три портрета эпохи Великой Французской Революции"
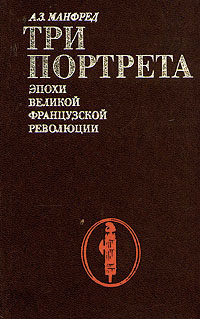
Автор книги: Альберт Манфред
Жанр: История, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 31 страниц)
На протяжении июля – августа эта «муниципальная революция», как ее назвали историки, охватила все города Франции, приведя повсеместно к созданию новых, буржуазных по своему составу органов городской власти. Одновременно была создана новая вооруженная сила революции – местные отряды Национальной гвардии, сформированной из добровольцев из рядов буржуазии и народа.
С конца июля, когда необычайная, казавшаяся почти неправдоподобной весть о падении Бастилии достигла самых отдаленных, глухих уголков деревень, крестьянство восприняло ее как боевой призыв и поднялось на борьбу против помещиков-феодалов. По стране прокатилась волна вооруженных выступлений: крестьяне громили и сжигали феодальные замки, усадьбы сеньоров, уничтожали – рвали в клочья или сжигали на кострах феодальные акты, прекращали выплату феодальных налогов и выполнение феодальных повинностей. «Великий страх» охватил помещиков-землевладельцев, всех господ. Сеньоры бросали свои усадьбы и в панике бежали в города.
Революция разлилась по всей стране. Она.пробудила, втянула в водоворот событий многомиллионные массы народа. Не оставалось больше во Франции такого уголка, где не было бы все взбаламучено поднявшимся народом. Революция обрела общенациональный характер, она стала необратимой.
XX
За короткий период от созыва Генеральных штатов до полной победы революции, за три-четыре месяца, Мира-бо сумел завоевать такое огромное влияние на своих современников, приобрести такую огромную популярность в стране и далеко за ее пределами, утвердить в такой степени свой авторитет, что он становится по существу вождем революции. Успех Мирабо тем более поразителен, что в отличие от Лафайета, имевшего со времен американской войны за независимость широкую добрую славу, Мирабо должен был преодолевать предубеждения, существовавшие против него среди большинства депутатов. Не говоря уже о депутатах от дворянства и высших представителей духовенства, рассматривавших его как противника, как дворянина, предавшего интересы своего сословия, и в среде добропорядочных буржуа, представлявших третье сословие, к Мирабо относились вследствие его скандальных истории с крайним недоверием.
Мирабо заставил своих коллег – депутатов Собрания отбросит!, эти личные чувства. Он сумел не только принудить их внимательно слушать каждое его выступление, но и следовать его советам, иногда звучавшим как прямые указания. После падения Бастилии Мирабо стал чуть ли не единственным депутатом Ассамблеи, который имел смелость учить Собрание, заставлять его менять тактику. И хотели того или нет депутаты, они должны были следовать советам Мирабо.
Как объяснить этот беспримерный успех человека, к которому совсем недавно относились с нескрываемым предубеждением? Только ли как результат его замечательного ораторского таланта, дара красноречия? Бесспорно, это единственное в своем роде редкое мастерство оратора-трибуна также сыграло определенную роль. Но главное было все-таки не в этом. Главное заключалось в том, что на этом раннем, начальном этапе революции поставленная Мирабо в качестве центральной задачи идея единства всех сил народа, всех классов в борьбе против абсолютизма отвечала объективным требованиям революции. Порой упускают из виду, что до середины июля, до падения Бастилии и вступления народа в борьбу, абсолютистский режим обладал еще большой силой. Двор располагал значительными вооруженными силами, не только полицией и собственно французскими полками, находящимися под командованием доверенных или близких ко двору аристократов. Абсолютистский режим располагал и такой опасной военной силой, как иностранные наемные войска, не поддающиеся и чуждые революционной пропаганде, революционным веяниям века.
Сломить эти могущественные силы, на которые опирался деспотизм, свергнуть и уничтожить феодально-абсолютистский режим можно было лишь консолидацией, объединением всех сил нации. Мирабо это понимал лучше, чем кто-либо другой из его современников. Зародыши его мыслей можно проследить и в его ранних сочинениях, и в «Опыте о деспотизме», и в его размышлениях в башне Венсенского замка и др. Но там они проступали еще в эмбриональной форме, и это было понятно. Жизнь еще не ставила эти задачи в порядок дня. В 1789 году задача сплочения всех сил третьего сословия против абсолютизма стала повелительной необходимостыо, и Мирабо, с его быстрой политической ориентацией, это понял лучше, чем кто-либо из национальных руководителей Собрания. Знаменательно, что Мирабо, аристократ, граф де Мирабо, чаще и настойчивее, чем кто-либо другой, требует единства буржуазии и простого народа – рабочих, бедных людей. Даже Марат, ранее других проявивший недоверие к Мирабо, и тот должен был признать, что Мирабо пользуется особой популярностью среди городской бедноты, среди рабочих41. Это действительно так и было. Когда он появлялся на улицах Парижа, простые люДи его окружали, радостно приветствовали возгласами: «Да здравствует Мирабо – отец народа!»
Жорес в своей «Социалистической истории французской революции» объяснял такой стремительный рост популярности и политического влияния Мирабо тем, что все его практические предложения были политически наиболее разумными. Он лучше, чем кто-либо, понимал задачи революции. Именно Мирабо сумел проявить необходимый политический такт и разум, публично солидаризовавшись с трибуны Национального собрания с восставшим народом, штурмовавшим Бастилию. Он взял на себя смелость учить Собрание. Когда Собрание, узнав, что король направляется на его заседание, стало проявлять неумеренные восторги по одному лишь этому поводу, Мирабо не побоялся выступить наперекор этим настроениям. «Подождем, – сказал он, – чтобы его величество подтвердил бы нам сам те благие намерения, которые ему приписываются». Мирабо счел нужным напомнить: «В Париже льется кровь наших братьев; пусть мрачная почтительность будет единственной формой приветствия монарху от представителей несчастного народа». Он призывал депутатов отказаться от всяких неуместных в данной обстановке восторгов: «Молчание народа – урок королю»42.
Можно считать бесспорным, что из всех деятелей Национального собрания на решающем, начальном этапе революции Мирабо оказался политически наиболее зрелым его руководителем.
Именно политическая мудрость, смелость, отвага, проявленные Мирабо в эти решающие дни революции, и принесли ему мировую славу.
Екатерина II, кокетничавшая с Вольтером и Дидро, афишировавшая свое свободолюбие, совсем иначе оценивала Мирабо. В заметках на «Путешествие из Петербурга в Москву» против строк, в которых Радищев высоко оценивал Мирабо, императрица написала на полях книги: «Тут вмещена хвала Мирабоа, который не единой, но многие висельницы достоин». Этот отзыв российской императрицы, приговорившей заочно Мирабо ко многим виселицам, очень показателен. Не многие из деятелей французской революции заслужили честь такой нескрываемой ненависти монархов. В Москве в 1793 году была опубликована как переведенная с француз-. ского книга неизвестного автора под названием «Публичная и приватная жизнь Гонория-Гавриила Рикетти графа Мирабо», в которой прославленный трибун был назван «извергом человечества». Официальная, правящая, самодержавная Россия с величайшей враждою относилась к трибуну Великой французской революции – Мирабо.
На противоположном полюсе передовая, свободомыслящая Россия славила Мирабо как выдающегося защитника передовых идей. Уже говорилось о сочувственном отзыве Радищева о Мирабо. В «Слове о Ломоносове» Радищев особо отмечал ораторское дарование Мирабо, он причислял его «к отменным в слове мужам»43.
Традиции Радищева были восприняты и продолжены будущими декабристами. В. Ф. Раевский, обучая солдат и юнкеров в Кишиневе военному искусству, предлагал им для постижения грамоты писать такие слова: «„Свобода, равенство, конституция“, „Квирога“ (один из руководителей восстания в Испании в 1820 году. – A.M.), „Вашингтон“, „Мирабо“». Генерал М. Ф. Орлов, командовавший дивизией, был осведомлен об этом вольном направлении преподавательской деятельности Раевского, разделял его взгляды44.
В передовой русской печати особо отмечалось искусство Мирабо как оратора. В «Невском зрителе» за 1820 год в одной из статей, называвшей Демосфена «царем ораторов» в древности, автор сравнивал с ним лишь Мирабо: «Мирабо возвысился до высоты Демосфена, он давал законы собранию, двору, народу целой Франции, речи его всегда красноречивы, иногда превосходны». Отмечая силу Мирабо как полемиста, автор писал: «Чем он (Мирабо. —A.M.) более был раздражен, тем слова его приобретали более энергии; орган и телодвижение Мирабо придавали его красноречию власть, поражающую гением, иногда одушевленную чувством. Она казалась беспрестанно вновь рождающеюся»45.
Современники отмечали влияние Мирабо даже на стиль Радищева. А. Р. Воронцов в январе 1791 года утверждал, что в авторской манере «Путешествия из Петербурга в Москву» чувствуется «тон Мирабо и других бешеных Франции»46.
Мирабо прочно вошел в сознание передовых людей России. Исследователями было установлено, что на полях черновика пятой главы «Евгения Онегина» А. С. Пушкиным был нарисован превосходный портрет Мирабо47.
А. И. Герцен высоко ценил манеру речи и сочность мысли Мирабо. Переводя одно из его суждений о Барна-ве, Герцен писал: «В этом выражении, как и в многих того времени, ярко отозвалось то время энергии в словах и делах, которое имело свой язык, свой романтизм, свою поэзию. В наше время никто не скажет подобного замечания и так сильно»48.
Можно было привести немало иных сходных суждений передовых людей России о Мирабо.
Примерно то же самое можно утверждать, анализируя историю общественной мысли в Германии, Италии, Англии и т. д.
При всей противоречивости политического облика Мирабо благодаря той исключительной роли, которую он играл на первом этапе французской революции, имя его стало для последующих поколений одним из символов борьбы за свободу. В той же мере, в какой передовые люди, шедшие в авангарде общества, чтили память Мирабо как одного из своих ярких предшественников, официальные круги, сторонники и защитники старых, «незыблемых» принципов абсолютной монархии, ревнители привилегий аристократии, консерваторы и охранители, кляли и поносили Мирабо, изменившего своему сословию, остававшегося в их глазах одним из «бешеных».
Какому-то оставшемуся неизвестным современнику Великой французской революции приписывали слова: «Если бы Мирабо умер годом раньше, какая великая слава навсегда окружала бы его имя».
Если так в действительности было сказано, то надо признать, что безвестный автор этого парадоксального изречения был прав.
1789 год был временем высшей славы Оноре Мирабо. В течение нескольких месяцев свершилось то, что можно назвать печти чудом. Неудачливый авантюрист, чье имя постоянно связывалось с громкими на всю Европу скандалами, скрывавшийся от преследований властей и кредиторов, искатель приключений, заканчивавшихся для него по большей части суровым возмездием, донжуан XVIII века, от одного имени которого дамы падали в обморок, аристократ, рассорившийся не только со своим семейным кланом, но и со всей сословной элитой и расплачивавшийся за это долгими годами скитаний по крепостям и тюрьмам, талантливый литератор, обличавший деспотизм, но в анонимной форме и потому не завоевавший славы, – этот человек, которого старались обходить либо не замечать, совершил самую невероятную из метаморфоз. За пять месяцев революции он стал самым знаменитым политическим деятелем Франции, кумиром революционной молодежи, трибуном, пользующимся любовью и поддержкой народа, которой не знал ни один другой деятель, самым авторитетным руководителем Национального собрания. В 1789 году имя Мирабо было воплощением французской революции.
Но вот главная и самая трудная задача революции была решена. Падение Бастилии означало крушение феодально-абсолютистского режима. К концу лета незабываемого 1789 года, первого года свободы, абсолютистский режим как система власти был сокрушен. Король и двор скрепя сердце должны были признать победу революции. После похода народных масс 5 —6 октября на Версаль, завершившегося почтительно-насильственным переездом короля и Национального собрания из уединенного Версаля в кипевший революционными страстями Париж, победа революции стала необратимой. При всех оказываемых монарху почестях, при еще почти безраздельном господстве монархических чувств в нации король все же на деле стал пленником народа.
Внешним выражением происшедшего поражения абсолютизма было бегство из Франции братьев короля графа Прованского, графа д'Артуа, принца Конде, принца Конти и Других. Контрреволюционная эмиграция, принимавшая все более широкий размах, была прямым доказательством того, что главари и сторонники жесткой политики абсолютизма считали свое дело проигранным.
Революция вступала в новый этап. Период единения всех сил в борьбе против могущественного врага заканчивается. Теперь, когда первая, и главная, задача была решена, абсолютизму был нанесен тяжелейший удар, сама жизнь ставила в порядок дня новые проблемы.
XXI
Поход народа 5 – 6 октября на Версаль и последовавший за ним переезд королевского двора, Национального собрания и" Бретонского клуба в Париж знамеповали дальнейшее углубление революции.
Прямое вмешательство народа не только, как в июле, сорвало замыслы и планы сил контрреволюции и нанесло им тяжелое поражение, но и означало дальнейшее развитие революционного процесса. После событий 5 – 6 октября многое стало иным. Перемещение политического центра из Версаля в Париж имело большое значение. В Париже королевский двор оказался фактически под наблюдением и контролем народа. Парижане получили теперь возможность воздействовать и на Национальное собрание. Его заседания проходили в просторном здании манежа, и отведенные для гостей места были отныне переполнены до отказа живо реагирующими на происходящее экспансивными жителями столицы.
Мирабо был доволен результатами октябрьских событий. Они его радовали не только, вернее, даже не столько по общеполитическим соображениям – в успехах революции он не сомневался, – сколько по чисто личным мотивам. В критические часы, когда женщины ворвались в здание Учредительного собрания, готовые все разнести в щепки, он единственный из 600 своим властным голосом заставил их повиноваться его приказам <Имеется в виду число депутатов третьего сословия.>. Но не это было важным. Он полагал, что теперь, когда положение монархии резко осложнилось, король окажется перед необходимостью поручить ему, Мирабо, руководство правительством. Приближался его час – он был в том уверен. Хотят того или нет Людовик XVI и Марпя-Антуанетта (он даже не сомневался в том, что королева против него), они будут вынуждены силой обстоятельств обратиться к нему, прибегнуть к его помощи.
Эти планы Мирабо не были беспочвенными расчетами неутоленного честолюбия. В печати того времени, почти во всех газетах вплоть до «Друга народа» та , многократно высказывались предположения, что в ближайшее время к власти придет «великое министерство» Мирабо – Лафайета. И в самом деле, кто, кроме этих популярных в народе либеральных монархистов, мог еще поддержать шатающееся здание монархии?
Соперников-конкурентов, будь то Лафайет, Байи или Сиейес, Мирабо не боялся. Ни один из них не мог с ним соревноваться в ораторском даровании, в умении влиять на Собрание, на народ.
С переездом Национального собрания в здание манежа, где акустические условия были несопоставимо лучше, чем в старом версальском зале, Мирабо выступал особенно часто и охотно. Его могучий голос гремел здесь во всю мощь, вызывая восторги сидящих на хорах парижан. Когда Мирабо поднимался на трибуну, в зале все замолкало. Теперь уже не было разговоров, нравится ли кому или нет депутат из Экса. Его первенство стало общепризнанным. И Лафайет, и Байи, и Мунье– все усвоили по отношению к Мирабо почтительный тон. Может быть, один лишь мало тогда кому известный депутат из Арраса госйодин де Робеспьер пристально смотрел на Мирабо внимательно-отчужденным, скорее даже недоброжелательным взглядом. Но Робеспьер в ту пору не делал погоды: с ним не считались. Впрочем, Мирабо его заметил и сумел оценить. «Этот молодой человек пойдет далеко, – сказал Мирабо, – он верит во все, что говорит».
В 1789-1790 годах влияние Мирабо и в стенах Национального собрания, и в кипящем страстями Париже, и во всей стране было огромным. Странным образом, Мирабо был особенно популярен среди народных низов, городского мелкого люда. Достаточно ему было показаться где-нибудь на улицах столицы, как сразу же образовывалась плотная толпа. Зеленщицы, рыночные торговки рыбой, каменщики, строительные рабочие, весь пестрый парижский люд окружал прославленного трибуна, аплодировал ему, жал ему руку, хлопал по плечу, восторженно восклицал: «Да здравствует наш граф де Мирабо!», «Да здравствует наш отец Мирабо!»
Инстинктивный, прирожденный актерский талант подсказывал Мирабо требуемые моментом импровизированные короткие речи. Он был быстр и находчив в ответах, и его популярность в народе все больше росла.
Порой исключительную популярность Мирабо в народе его биографы склонны были объяснять так: простым людям импонировало, что аристократ, граф перешел на сторону народа и стал его защитником. Может быть, на кого-то это и в самом деле производило впена тление. Но как серьезный аргумент он не может быть принят во внимание, так как легко опровергается общеизвестными фактами.
Герцог Филипп Орлеанский, представлявший младшую ветвь королевской династии и, следовательно, принадлежавший к самой высшей аристократической знати, тоже, как известно, примкнул к революции и даже стал именоваться Филиппом Эгалите (Равенство). Маркиз де Лафайет, также представитель аристократической элиты, с первых дней стал на сторону революции. Но ни тот, ни другой не могли соперничать с Мирабо в популярности.
Герцог Орлеанский, несмотря на то что последовательно занимал самые крайние позиции вплоть до голосования за казнь Людовика XVI, своего кузена, так популярности в народе никогда и не достиг. Его не замечали и не принимали всерьез до тех пор, пока в 1793 году не пресекли в один день все его левые жесты и речи, отправив его на гильотину. Лафайет в первые недели революции был действительно популярен; за ним стояла слава генерала-героя, участника американской войны за независимость. Назначение его командующим Национальной гвардией французской революционной столицы было формой общественного признания его боевых заслуг. Но долго ли продержалась популярность Лафайета? Несколько месяцев! Колебание, нерешительность, проявленные им в дни народных выступлений 5 – 6 октября 1789 года, оттолкнули от него народ. Он стал быстро эволюционировать вправо и кончил тем, что в 1792 году попытался повернуть армию против революционного Парижа и, потерпев неудачу, бежал в стан врагов. Можно было бы привести и иные примеры: Кондорсе, Талейраи и т. д.
Аристократов, перешедших на сторону революции, было немало, но ни один из них не мог не только сравняться с Мирабо, но даже отдаленно приблизиться к гремящей па всю страну, на всю Европу славе депутата от Прованса.
Припомним незначительный на первый взгляд штрих из хроники нравов того времени. Лейтенант Буонапарте, никому не ведомый в ту пору артиллерийский офицер, прозябавший вместе со своей воинской частью в маленьком городке Оксонне, но весьма внимательно прислушивавшийся ко всем вестям, доходящим из революционной столицы, приехав в отпуск в свой дом в Аяччо, на Корсике, вывесил большой транспарант: «Да здравствует нация! Да здравствует Мирабо!»
Эта небольшая, почти бытовая деталь полна глубокого смысла. Транспарант, написанный от руки на доме Летиции Буонапарте в далеком Аяччо, доказывал, что в сознании молодого артиллерийского офицера имя Мирабо было символом революции, оно отождествлялось с понятием «нация», т. е. «народ».
Вот как велика была всенародная слава Мирабо в первые годы революции.
Ну а дальше, спросит нетерпеливый читатель, что же дальше?
Мы к этому, разумеется, вернемся, но чуть позже.
Парадоксальность исключительной популярности Мирабо заключалась еще и в том, что в своих выступлениях и в стенах Национального собрания, и за его пределами знаменитый трибун отнюдь не придерживался самых левых взглядов. По тем вопросам, которые сама жизнь ставила в порядок дня, например по вопросам конституционным, постоянно обсуждавшимся в 1789-1791 годах в Учредительном собрании, Мирабо нередко выступал с более правых позиций, чем его коллеги, и, несмотря на громадное личное влияние, оказывался порой в меньшинстве.
При обсуждении вопроса о праве вето короля он первоначально выступал за абсолютное вето, а затем в пользу права задерживающего вето. Его позиция в этом частном вопросе (как и в других конституционных вопросах) определялась его политическими взглядами.
Внимательно анализируя выступления Мирабо предреволюционного периода и первых двух лет революции, можно заметить, что при некоторых разночтениях во фразеологци (по-видимому, диктуемых конкретными обстоятельствами) позитивные взгляды трибуна оставались по существу неизменными.
Несколько схематизируя политический идеал Мирабо, можно сказать, что он выступал за конституционную, либеральную, управляемую сильным правительством, опирающимся на доверие народа, точнее, законодательного собрания, монархию. Если говорить современными терминами, его идеалом была буржуазная, обеспечивающая определенные буржуазно-демократические права монархия.
В отличие от предреволюционных лет, когда эти вопросы имели абстрактно-теоретическое значение, в 1789 – 1791 годах они стали конкретной практикой повседневной работы Учредительного собрания.
Мирабо был весьма невысокого мнения о королевской чете, возглавлявшей французскую монархию. Его отношение к Марии-Антуанетте было резко отрицательным. Для него была вполне очевидна также ограниченность, слабость, незначительность Людовика XVI. Он писал о нем: «Он пе знает ни что он может, ни что он хочет, ни что он должен»50.
И тем не менее, отдавая отчет во всех недостатках короля, он настойчиво добивался сохранения и укрепления института монархии. Почему? Прежде всего потому, что он опасался республики или ее вариантов, т. е. плюралистической власти, власти многих. В одном из выступлений в Собрании он говорил: «Я хочу совершенно открыто заявить, что считаю наиболее ужасным власть 600 персон; завтра они объявят себя несменяемыми, послезавтра – наследственными, с тем чтобы закончить, как это присуще аристократическим режимам в иных странах, присвоением себе неограниченной власти»51.
Пусть король слаб, нерешителен, наделен множеством недостатков. Какое это может иметь реальное значение? Король будет царствовать, но пе править. Но само существование наследственной монархии является преградой для установления господства 600, для тирании новой аристократии, какими бы парламентскими нарядами они ни прикрывались.
Естественно, что такие взгляды, открыто выраженное им недоверие к своим коллегам, к 600 депутатам Учредительного собрания не внушали представителям третьего сословия симпатий к знаменитому трибуну.
Но так сильна была еще в ту пору «диктатура слова», так велик был личный престиж Мирабо, что открыто против него в Учредительном собрании еще никто не решался выступать. Никому не хотелось стать жертвой полемического красноречия непревзойденного оратора. Однако к этим мотивам присоединились и иные, быть может, более веские.
Как уже говорилось ранее, стремительный, почти мгновенный рост популярности Мирабо в конце 1788-1789 годов объясняли во многом тем, что лозунг «Единение всего третьего сословия!», который он тогда отстаивал и пропагандировал, отвечал объективным требованиям времени, задачам, поставленным ходом истории перед французским народом.
Мирабо понял это первым и первый всей мощью своего громового голоса провозгласил лозунг единения на всю страну.
Но после 14 июля, после падения абсолютистского режима, сваленного объединенными усилиями всего третьего сословия, лозунг единения потерял свое прежнее значение. Жизнь ставила в порядок дня новые задачи; начинался новый процесс: борьба внутри самого третьего сословия, размежевание внутри еще вчера выступавшего единым блока. Крупная буржуазия и либеральное дворянство, т. е. политически самая правая часть, главенствовавшая до тех пор в Учредительном собрании, стали претендовать и на политическое господство в стране. Они стремились, продолжая говорить от имени всего народа, присвоить себе монополию власти. Лафайет, Байи, Мунье, Сиейес – лидеры крупной буржуазии и либерального дворянства стремились не только монополизировать государственную власть, но и удержать революцию в определенных пределах, и прежде всего затормозить ее стремительное развитие.
Мирабо с его огромным личным престижем, поразительным даром трибуна, громадной популярностью в стране, в народе был им жизненно необходим. Ни один из них не мог состязаться с Мирабо; какой-нибудь Сиейес, терзавшийся муками неутоленного честолюбия52, или Лафайет, как и другие лидеры, страдавшие непрощаемым в годы революции пороком – косноязычием, отчетливо понимали, что с Мирабо им не тягаться. Главное же – Мирабо в глазах народа оставался как бы живым символом революции; народ его боготворил. И имя Мирабо было партии крупной буржуазии необходимо как общенациональное знамя. То были люди практического склада, "Деловые, и потому, подавляя свои личные чувства, свою антипатию, они склоняли голову перед Мирабо, даже афишировали признание его первенства.
Сам Оноре Мирабо по своим политическим взглядам был, несомненно, ближе всего к этой группировке. Если между ними и возникали какие-либо расхождения, то в частностях, а не в главном. Все они были сторонниками конституционной монархии, и Мирабо, как и другие конституционалисты (так вскоре стали именовать эту правобуржуазную группировку Учредительного собрания), считал, что революционный процесс надо затормозить.
После событий 5-6 октября Мирабо подал королю мемуар (остававшийся для современников долгое время неизвестным), в котором рекомендовал ему целую программу мер. Он прежде всего весьма прозорливо предостерегал короля, что пребывание двора в столице может стать небезопасным, не следует создавать себе иллюзий. Он рекомендовал монарху уехать куда-либо в глубь Франции и, обратившись с воззванием к народу, создать Конвент – новое представительное собрание. Король должен перед всем народом признать, что абсолютизм и феодализм уничтожены во французском королевстве навсегда и что король торжественно подтверждает права нации и обязуется всегда действовать в согласии с нацией, и ее права должны быть упрочены.
Одновременно с мемуаром был представлен и план безотлагательного формирования сильного и авторитетного правительства, в состав которого должны войти все виднейшие современные деятели, начиная с Неккера (для себя Мирабо с афишируемой скромностью просил , лишь пост министра без портфеля), и которое должно было быть ответственным непосредственно перед Конвентом.
Этот мемуар Людовику XVI заслуживает по многим причинам внимания. Мемуар – это первое прямое обращение Мирабо к королю. Но важна не эта, формальная сторона дела. Существенно иное. Для короля, для двора, для всей королевской партии в целом обращение Мирабо должно было представляться неслыханной, беспримерной дерзостью. Не только потому, что этот дворянин из Прованса, хотя и соблюдал все положенные формы почтительности к монарху, по существу обращался к нему как равный к равному; он не только забыл о расстоянии, разделяющем их – подданного и монарха, но и брал на себя смелость давать королю советы, т. е., если называть вещи своими именами, учить короля.
И само содержание преподанных советов должно было представляться двору чудовищным. Советчик хотел лишить монархию всех ее прерогатив, всех ее прав. Этот дерзкий депутат имел наглость предложить монарху добровольно согласиться с жалкой ролью исполнителя решений могущественного законодательного собрания, представлявшего волю нации.
Даже после второго поражения в октябре 1789 года королевская партия отнюдь не считала свое дело проигранным. У нее в запасе были еще сильные козыри; в нужный час они будут введены в игру. Мемуар Мирабо был с негодованием отвергнут и оставлен, естественно, без ответа. Весьма вероятно, что под впечатлением возбудившего негодование двора дерзкого послания Мирабо Мария-Антуанетта произнесла эту известную фразу: «Я надеюсь, что мы никогда не будем настолько несчастны, чтобы оказаться в прискорбной необходимости прибегнуть к советам Мирабо».
Но октябрьский мемуар Мирабо требует рассмотрения его и с иной стороны. Как соотнести его с программой конституционалистов, т. е. группировки крупной буржуазии и либерального дворянства? Они почти полностью совпадают. То, что рекомендовал Мирабо королю, может быть, в чем-то шло дальше желаний Ла-файета – Байи. Никто бы из них, никто из этих господ, представлявших самых богатых собственников Франции, не потребовал бы, например, отмены феодализма. К чему эти крайности? Но в остальном программа Мирабо была для них полностью приемлемой.
Именно поэтому и Лафайет, и Мунье, и Сиейес, и Ле Шапслье – все эти политические дельцы, каждый из которых наедине с собой прикидывал варианты рассчитанной на многие годы вперед сложной игры, обеспечивающей в эндшпиле выигрыш, считали необходимым в 1789-1790 годах стушевываться перед Мирабо, выдвигать его на первый план: человека, олицетворявшего в глазах народа революцию, было выгодно иметь лидером своей фракции. Имя Мирабо могло замаскировать узкоэгоистические, корыстные расчеты крупной буржуазии, стремившейся удержать в своих руках власть.
Мирабо не был так прост, чтобы не разгадать побудительные мотивы своих друзей-соперников. Он ни на грош не имел к ним доверия, и они не внушали ему личных симпатий. Но в важных политических вопросах их позиции совпадали или были близки. Почему же не идти какую-то часть пути вместе?
После того как период всеобщего братства и братания, упоения первыми победами, розовых надежд довольно быстро, к осени 1789 года, закончился, и противоречия классовых интересов расслаивали и разделяли прежде единый лагерь революции, четко определились две главные противоборствующие тенденции: дальнейшего развития и углубления революции и торможения ее. Сторонников первой первоначально называли демократами, второй – либералами или конституционалистами; позже их стали обозначать иными терминами. Эта главная линия политического размежевания была закреплена созданием вскоре и раздельных группировок. Первоначально все противники абсолютизма входили в один, общий для всех политический клуб; в Версале его называли Бретонским, после переезда Собрания в Париж – Якобинским (по занимаемому им помещению). Но в конце 1789 года Лафайет, Мунье, Байи и другие либералы сочли необходимым выйти из Якобинского клуба и создать свою обособленную организацию – «Общество 1789 года»; позже ее стали называть Клубом фейянов. Новый клуб был более узким и замкнутым, чем Клуб якобинцев, замкнутым вполне намеренно: весьма высокие членские взносы преграждали доступ в него демократическим элементам.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































