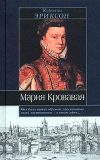Текст книги "Ручьём серебряным к Байкалу"

Автор книги: Александр Донских
Жанр: Современные любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 17 страниц)
Ущипнула себя – засмеялась. Что бы ни было, но жизнь, говорят, прекрасна! А Шекспир изрёк, что жизнь – театр, а мы все в нём актёры. Что ж, если актёры, значит, надо играть, на минуты продлить безвозвратно уходящее детство. Босыми ногами Мария сползла со своей царственно высокой постели, увидела на полу меховые тапочки, белые туфли, а на спинку стула было – и чувствовалось, что аккуратно, с заботливостью, – накинуто белоснежное длинное кружевное платье с пояском и белыми колготками.
– Ой, а платье не бальное ли? – восторженно подкидывала Мария на вытянутых руках лёгкое, нежнейшее облако кружев и оборок. – Итак, я – принцесса. Но где же мой принц? – азартно осмотрелась она, будто в самом деле думала, что где-то вблизи может находиться принц. Если жизнь – театр, игра, то почему бы не поиграть в детство, не окунуться с головой в сказку?
Мария натянула на себя колготки и туфли, скользнула через подол своим юрким худым тельцем ящерки в это шикарное платье, запуталась в юбках, не сразу нашла рукава и вырез для головы. Подпоясалась и, напевая, стала любоваться собою в настенном зеркале. Решила, что в этом хотя и не модном, но сказочном, прелестном театральном платье до самых пят, каких раньше не доводилось ей носить и даже касаться, она хороша собой, даже больше – очаровательна. Костяным гребнем расчесала свои длинные курчавящиеся волосы. Брала с туалетного столика какие-то крема и мази, помады и пудры, духи и лосьоны, щёточки и щипчики; озираясь – не появилась бы хозяйка этих богатств, – нюхала, мазалась, душилась, вертясь перед зеркалом. С сожалением подумалось, что школьные и дворовые подружки не могут видеть её с этим смелым макияжем на лице, в этом необыкновенном наряде. Она кружилась и хотела, чтобы её подхватило вихрем и куда-нибудь понесло облачком; и чтобы угодить на настоящий бал и всех там затмить своею красотою, своими нарядами, своим очарованием, своим умом.
Разгоревшаяся и закруженная, она с разбегу влетела в кресло, по самую маковку потонув в поднявшихся кружевах платья. Так, чем бы ещё развлечься? Дистанционно включила телевизор. Показывали новости, и она поняла, что уже далеко не утро, а день, склоняющийся к вечеру.
– Я спала почти сутки? Во дала! Не жизнь, а малина: спи да пляши, пляши да спи. Кстати, не мешало бы подкрепиться, а то брякнусь в танце от истощения и усталости.
Распахнула холодильник – о, сколько всяческих вкусностей! Колбасы, копчёности, баночки с красной и чёрной икрой, торт и конфеты, напитки и ещё что-то красочно, глянцево, маняще поглядывало на неё. Хотела было сразу приступить к трапезе, однако, лукаво сощурившись, призадумалась.
– Накрою-ка праздничный стол: я жду важных гостей, – придумала она новую захватывающую мизансцену для своего нечаянного театра.
Нашлась в тумбочке посуда – отличный суповой набор, хрустальные фужеры, серебряные ложки и вилки. Ажурные, с золотистыми каёмками салфетки восхитили её, она, кружась и мурлыча, высоко подбрасывала их и ловила. Расставляя на столе посуду, накладывая на тарелки кушанья, приговаривала:
– Угощайтесь, милорд. Не стесняйтесь, миледи.
Марии хотелось выглядеть гостеприимной хозяйкой дворца, светской дамой, и она так увлеклась, что даже забыла, что сама голодна.
– Все сыты? Прошу в зал: на бал! А я с вашего позволения задержусь на минутку-другую в столовой: надо, знаете ли, сделать распоряжения. Да идите же, не ждите меня, господа!
И она, вообразив, что гости вышли, а она осталась одна, набросилась на еду.
– Фу-у! – вздохнула, насытившись.
Вытерла салфеткой замазанный тортом рот и нос, осмотрелась, очевидно ища других приключений и мизансцен. За занавеской обнаружила унитаз, маленькую ванну и стиральную машинку. Открыла краны – приветливо зашуршала и заплескалась холодная и горячая вода. Класс! Из этой необычной комнаты Марии не хотелось уходить: всё, что надо и не надо, имеется в избытке; а красота, уют, воля – просто чудо. Но нужно, наконец-то, выяснить, где же она находится: игры играми, детство детством, но завтра в школу, нужно подготовиться к урокам. Широким изящным жестом, как бы входя в какую-то очередную игру, Мария раздвинула портьеры. Полагала, что в комнату ворвётся свет, – густой мартовский свет дня, и даже слегка прижмурилась, оберегая глаза. Однако – за шторами оказался тот же изумрудный блестящий гобелен. Она осторожно – не выдавить бы стекло – ткнула в него пальцем, и он упёрся во что-то твёрдое, шероховатое, кажется, в бетон. Она ткнула выше, ниже, правее, левее, и поняла, что перед ней не окно, а та же стена. Испугалась всерьёз, но подумала, что над ней кто-то пошутил.
– Хм, что за идиотский розыгрыш?
Прощупала все четыре стены – сплошной гобелен, а под ним – ни зацепочки, ни ложбинки.
Она замерла, прислушиваясь. Тишина, густая, сжатая тишина господствовала в комнате; девушке даже почудилось, что в её ушах вздрогнула боль.
– Эй, есть кто живой?
Ответ был один – всё та же страшная, жмущая тишина. Мария зачем-то попыталась улыбнуться, быть может, по инерции продолжая игру, но губы перекосило, и язык сделался непокорен, можно было подумать, что распух и отвердел. Металась по комнате, била по стенам ладонями и кулаками, но никакого выхода-входа не находила, не было никаких пустот или выступов. Наткнулась ладонью на выключатель – люстра занялась ослепляюще-оранжево, как солнце, словно бы предлагая: «Танцуй, веселись! Ты же хотела!»
– Где выход, где выход, чёрт побери! – закричала Мария на люстру, готовая чем-нибудь запустить в неё.
Отчаянно, со сжатыми губами ворочая мебель, она скрутила с пола ковёр, но и тут не обнаружилось какого-нибудь люка, лаза или даже щёлочки. Забралась на стул, потом перепрыгнула на стол и била поварёшкой по потолку. Бетон утробно-тупо гудел в ответ, однако в одном месте – звонче, чуть звонче. Она разглядела тоненькие щели – четыре прямых линии, образовывавших четырёхугольник. Это, несомненно, был люк. Подтянула к нему стол, поставила сверху стул и плечами норовила приподнять крышку. Но та лежала мёртво.
– Ма-а-амочка! – заскулила Мария.
Кричала час, а может, два, ощущая горячие толчки крови в висках, отчётливо слыша лишь своё дыхание. Порой шептала:
– Боженька, помоги. Где же Ты, родненький?
Неожиданно подумала, разве она сама легла в постель? Вспомнилось, что дядя Лёва угощал её лимонадом с пирожным. Матери не было дома. А потом… что же было потом? Как она очутилась в этом странном месте? Она точно помнит, что сама не ложилась в постель! Зарыдала. И плакала долго, скуляще, зло. Слёзы, наконец, иссякли, глаза высохли, и веки сами собой сомкнулись. Испугалась темноты, открыла глаза. Хотя и открыла, однако на что и куда смотреть? Где или в чём можно увидеть или распознать спасение?
В механическом безразличии нажала кнопку на «лентяйке» – бодренькой, услужливой вспышкой откликнулся телевизор, заметались какие-то звуки, живые картинки. Надо, чтобы звучала человеческая речь, чтобы шевелилось что-нибудь рядом, чтобы что-то происходило. Надо во что бы то ни стало отодвинуть, одолеть эту давящую, зловещую тишину. Смотрела на экран час, а может, два или три, но ни голова, ни сердце ничего не принимали в себя. Только страх стал чувством и мыслью. Но что-то надо делать, в конце концов! Ходила, ходила, сидела, сидела, выключала и вновь включала телевизор, надрывалась и молчала, – что ещё можно сделать?
Устала. Уже не могла ни рыдать, ни шевелиться. Ничком повалилась на диван, лицом уткнулась в большого оранжевого львёнка с забавной конопатой мордочкой. Задремала, как в угаре. Очнулась, вздрогнув: не крадётся ли кто-нибудь? Встретилась с кругленькими голубыми глазами львёнка. Притиснула его к груди, – не он ли должен вступиться за неё, если что? В его розовой пасти приметила какую-то бумажку, подумала – ценник из магазина. Но он оказался вчетверо сложенным белым листком. Вяло развернула и стала читать написанный от руки длинный, с неровными сползающими строчками текст:
46
Я так и думал, Мария, что ты будешь играть со львёнком и обнаружишь в его пасти мою записку. Я ведь Лев, или, как любит называть меня твоя мать, – ласковый зверь. Другой ласковый зверь – этот забавный львёнок тебе принёс от меня послание. Пожалуйста, не пугайся, ничего и никого не бойся. Ты в безопасности полной. Улыбнись, моя прекрасная девочка! Посмотри на львёнка – он улыбается тебе. Улыбается, да? Ты находишься в подземной комнате, которая расположена под гаражом моего загородного дома. Ты, наверное, уже убедилась, здесь есть всё, чтобы полноценно жить, даже ванная, туалет и кондиционер имеются. Попала ты сюда так: в лимонад, которым ты вчера угощалась, я подмешал снотворное, и втайне ото всех привёз тебя сюда. Где ты – знаю только я. Сколько времени ты пробудешь в этой комнате – пока не знаю. Месяц, два, год. Нет, меньше. Мы вскоре переберёмся с тобой в замечательные края, наверное, надолго.У тебя началась новая жизнь. Новая жизнь рядом со мной. Пройдёт несколько лет, ты выучишься, и я предложу тебе стать моей женой. Ты не подозревала, что я тебя люблю? Так знай теперь: я тебя люблю. «Я тебя люблю, моя принцесса!» – буду повторять я эти слова всю мою жизнь, пока не умру. Ты же любишь, когда тебя называют принцессой! Тебе восемнадцать лет, мне гораздо больше. Конечно, разница в возрасте немаленькая, но я, как ты видишь, не стар, совсем не стар, не истаскан, не пью, почти бросил курить и выгляжу, пожалуй, лет на тридцать – так мне, по крайней мере, говорят. Ты станешь со мной счастливой. Ты оценишь меня по достоинству и полюбишь. Ты ещё молоденькая и мало что понимаешь в жизни по-настоящему. Послушай, моя дева, моя принцесса: то, что тебя окружало, должно было сделать тебя несчастной, убить твою юную чистую душ, опоганить тебя нравственно. Именно твою душу я и полюбил и умру за её спасение, если понадобится. Мы ещё поговорим с тобой, наговоримся досыта, а пока – до свидания. Обживайся на новом месте, будь хозяйкой, всё, что ты видишь, – принадлежит тебе. Дядя Лёва. («Дядя Лёва» было тщательно зачёркнуто, но Мария разобрала). Твой Лев, твой ласковый зверь. Твой навсегда (заканчивалось послание). (Была приписка пониже). Машенька, возьми с полки Библию, открой её на «Песне песней Соломона» и почитай. Такой же высокой любви и я хочу в жизни.
– Высокой любви, – шепнула Мария и зачем-то сморщилась.
Листок выпал из её руки, упал на пол, но она не подняла его. Час, два просидела неподвижно, какие-то слабые, но острые вспышки мыслей в её голове не могли собраться в один клубок, слепиться во что-то определённое, ясное, удобопонимаемое. Она ещё не совсем отчётливо осознала, что же именно прочитала в записке и что теперь нужно делать. Она не понимала – нужно смеяться, грустить, плакать, хмуриться. А может быть – злиться, негодовать, безумствовать. Но в сердце, однако, стало легче, свободнее, тише. Она была уверена, что дядя Лёва не может желать ей вреда, что, возможно, он просто-напросто пошутил, вот так оригинально, неожиданно, несколько театрально, как вообще ему было свойственно, пошутил, разыграл свою падчерицу, принцессу на горошине, как иногда называл её.
«Да, да, конечно: он такой кудесник и выдумщик! – розовой дымкой поплыли в её голове угодливые, желанные мысли. – Появится – и всё разъяснится, и я снова окажусь дома, с мамой. А его побью, уж точно побью идиота! Вместе с мамой будем мутосить! Ага, с мамой! Чего захотела! Она не станет бить: она так его любит, до безумия».
Взяла с полки Библию и долго, потому что ни разу не держала в руках этой книги, искала «Песню песней» среди сотен страниц, ужасно тоненьких, хрупких, как, подумалось ей, засохшие крылья бабочек. Она осторожно перелистывала их, потому что ей мерещилось, что они могут рассыпаться. Стала читать:
Да лобзает он меня лобзанием уст своих! Ибо ласки твои лучше вина. От благовония мастей твоих имя твое – как разлитое миро; поэтому девицы любят тебя. Влеки меня, мы побежим за тобою; – царь ввел меня в чертоги свои, – будем восхищаться и радоваться тобою, превозносить ласки твои больше, нежели вино; достойно любят тебя!..
Поначалу девушка плохо понимала прочитанное, но она из всех сил старалась постичь этот странно и загадочно для неё звучавший текст. Останавливалась, если уже совсем не могла выцарапнуть смысла, думала, поднимая взгляд к солнечно сиявшей люстре, словно призывая её в толковательницы. Чтение, однако, мало-помалу завлекло, минутами взволновывало, озадачивало.
Зубы твои – как стадо выстриженных овец…
И Мария попыталась вообразить стадо овец и зубы, олицетворяющие это стадо. Постучала своими зубами, растянув рот и заглядывая издали в зеркало. Не выдержала – засмеялась, но сдавленно, в нос.
О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, дщерь именитая! Округление бедр твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника; живот твой – круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино; чрево твое – ворох пшеницы, обставленный лилиями…
Она не сразу смекнула, что такое «чрево» и «ворох пшеницы, обставленный лилиями». Когда же поняла, то почувствовала, что уши и щёки её как будто чуть прижгло солнцем.
Два сосца твои – как два козлёнка, двойни серны.
– Два козлёнка? – снова посмотрела она на люстру с ожиданием. Но тут уже по-настоящему не сдержалась – беспечно, громко рассмеялась, подкинув кверху ноги так, что туфли описали в воздухе сальто-мортале и плюхнулись на стол.
Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее – стрелы огненные; она пламень весьма сильный…
– Ибо крепка, как смерть, любовь, – шепнула Мария, дочитав «Песню песней» и бережно, в какой-то опасливой замедленности закрыв Библию, очевидно побаиваясь, что могут нечаянно согнуться и помяться её тонкие трепетные листы.
– Почему же как смерть? – поёжилась она, и к её сердцу опять прильнул, прижигая холодком, страх.
Нет, похоже, не пошутил дядя Лёва. Но как же он посмел с ней столь ужасно обойтись? Что он с ней сделает? Запер в яме. В яме! Как в могиле. Похоронил заживо. Боже, похоронил! За что, за что, ведь она и он такими были друзьями, беспрестанно друг над другом подшучивали, вместе делали уроки!
– Ма-а-амочка, мамулечка, где ты? – снова подняла она глаза на люстру.
Но всё та же густая тяжёлая тишина была её собеседницей.
Сидела сжавшись, скомкавшись, – можно подумать, что состарилась или серьёзно заболела. Потом, сморенная, медленно повалилась на бок, уронила голову на львёнка и уснула крепко-крепко в своём пышном белоснежном платье, в разбросанных кудряшках волос, с расплывшимся по лицу пёстрым макияжем, под сеянием молчаливой, но жизнелюбиво сверкавшей люстры.
47
Почувствовала чьи-то прикосновения: кто-то пёрышком, шаля, поводил? Очнулась и увидела над собой лестницу, свисавшую с потолка, и дядю Лёву, сидевшего на краю дивана. Он, чуть улыбаясь поджатыми губами, напряжённо смотрел на неё и платочком легонько смахивал с её щёк и подбородка чёрно-синие наплывы косметики.
– Здравствуй, Мария, – хриплым, срывающимся на шепоток голосом произнёс Лев.
– Дядя Лёва? Вы? – зачем-то спросила Мария, уползая от него и в самом углу прижимаясь к спинке дивана.
– Не называй меня дядей. Обращайся ко мне на «ты» и зови просто Лев. Договорились?
Мария промолчала, натянутая и застывшая, сидела в своём углу. Оба смотрели друг на друга строго, изучающе, словно бы впервые в этой жизни встретились. Он опустился на корточки перед ней и снизу робко заглянул в её глаза.
– Не бойся меня, Мария.
– Вы будете меня насиловать?
– Нет. Я буду тебя, Мария, любить и заботиться о тебе до скончания моих дней.
– Любить? Как дочку?
Лев промолчал. Она увидела, как оранжево-влажно блеснуло на его ресницах, но он сразу склонил голову.
– Отпустите меня. Пожалуйста.
– Нет, – ответил он тихо и твёрдо. – «Ты», «ты».
– Но почему, почему не хотите… не хочешь!.. отпустить меня?
Он молчал. Поднялся с пола, взял с полки стопку книг, зачем-то взвесил их на ладони:
– Вот школьные учебники и пособия для ВУЗа, – продолжим учиться. Экзамены за курс школы ты сдашь, не присутствуя на самом экзамене, инкогнито, и следом поступишь на заочное отделение университета, – не беспокойся, я всё устрою: деньги в наши дни открывают, увы, но для нас с тобой к радости, любые двери. Ты во что бы то ни стало будешь образованной, просвещённой, высоких помыслов девушкой. Вспомни, как мы с тобой почти целый год каждый вечер занимались, выполняли домашние задания, бились над алгебраическими задачками. Будь умницей, – начнём? Начнём!
– Я хочу к маме. К маме!
Он снова опустился перед ней на корточки.
– Прости меня, Мария. Но я тебя не отпущу. Пройдут месяцы или, может быть, годы, и ты меня, я уверен, поймёшь и, возможно, простишь. Я верю – поймёшь и простишь, ведь у тебя такое большое и отзывчивое сердце. – Помолчал, прикусывая губу. – Поймёшь и простишь, поймёшь и простишь, – зачем-то повторил он, но уже заклинательно и мрачно, в такт слов отбивая рукой по дивану.
– Не пойму и не прощу! – смахнула она на пол львёнка.
– Поймёшь и простишь, – поднял он и отряхнул игрушку. Тяжело помолчал, упершись глазами в пол. – Машенька… Мария, ты должна крепко знать самое главное: я люблю тебя больше жизни. Понимаешь, люблю? Я не хочу и не допущу, чтобы ты была растерзана и запятнана какой-нибудь безобразностью этой жизни. Я тебя оберегу. Знай крепко: единственно ты мне нужна во всём мире.
Он неуверенно приподнял на неё глаза, и она уже ясно увидела в них слёзы. И неожиданно тоже заплакала, скорее зарыдала, разревелась безутешно, и её слёзы уже не были слезами страха и отчаяния: душа наполнялась жмущим, тоскливым, но, одновременно, каким-то нежным, жалостливым большим чувством. Ей захотелось погладить Льва по голове, что-то сказать ему успокаивающее, подбадривающее, словно бы более горько и беспросветно сейчас ему, чем ей. Но, перебивая в себе эти ласковые, сострадательные, но мало знакомые для неё чувства, она наступательно, громко, с подростковой дерзинкой спросила:
– Я что, буду жить в этой яме? Я, твоя любовь, буду гнить в этой дурацкой яме? Хорошенький кавалер у меня выискался!
– Маша, я пока не могу выпустить тебя на волю, на волю в тот мир, в котором я тебя могу потерять, но я непременно что-нибудь придумаю стоящее. Мы найдём с тобой прекрасное место для жизни. И будем счастливы, будем счастливы, вот увидишь. Мы так с тобой заживём, так заживём…
Но он оборвался, замолчал, явно не находя нужных, убедительных слов или ещё не совсем веря даже самому себе. Вынул из пачки сигарету, чиркнул зажигалкой, но загасил огонь, сигарету же зачем-то смял, раскрошил и стряхнул с ладони обратно в пачку. Мария, растирая кулаком по лицу свои разноцветные слёзы, смотрела на него с напускной строгостью. Быть может, она уже ясно осознала свою силу над ним, но ещё не умела найти способа, как воспользоваться ею правильно.
– Так как заживём? Почему молчишь?
– Очень, очень хорошо, Маша, заживём. В любви. Главное, чтобы в любви. По-человечески. Дружной семьёй.
И они враз, будто сговорившись, не таясь, прямо посмотрели друг другу в глаза. Она неожиданно, кажется, неожиданно даже для самой себя, улыбнулась ему, однако снова поспешила притвориться настороженной, строгой, рассерженной. Сморщилась и с нарочитой развязностью протянула:
– В любви-и-и-и? Семь-ё-о-о-ой? Ещё чего!
– Да, моя прекрасная Мария, в любви, в большой взаимной любви. И дружной, крепкой семьёй. – Неожиданно прищурился: – А ты, вижу, и вправду ещё совсем, совсем девчонка.
– Девчонка? Фи! – Она резко отвернулась и, задрав голову, спросила у люстры: – И я такого старого пня должна буду полюбить? Фи!
– Пня? Старого пня? Неужели я для тебя настолько ничтожен и гадок?
Она прикусила губу. Очевидно забыв о своей притворной игре, полуобернулась ко Льву и тихонько спросила:
– Вы… ты хотел меня учить. Да? – Подпорхнула к зеркалу, оправила своё великолепное, такое невозможное в реальной жизни платье, кокетливо крутнулась на носочке: – Что ж, начнём! Учи, господин педагог!
Платком стала жёстко стирать с лица расплывшиеся, подсыхающие радуги макияжа.
– Узнаю прежнюю Машу – ироничную злючку. Умойся под краном, а то сдерёшь с лица кожу, – с насмешливой наставительностью посоветовал Лев.
Мария умылась, и ей с великой досадой показалось, что она стала выглядеть законченной дурнушкой. С полчаса в ванной, задёрнув занавеску, ухаживала за своим покрасневшим, чуть подпухшим лицом. Потом они сели за стол, разложили учебники и тетрадки. Он предложил заняться английским, но она, сморщив губы, возразила и предложила физику. Но, немножко позанимавшись формулами и задачами, она отодвинула на край стола учебник и тетрадку и заявила, что завтра в школе будут спрашивать по истории. Шумно шурша страницами, стремительно пролистнула до нужного параграфа, низко согнула голову и – заплакала. Он приобнял её за плечи, слегка коснулся губами её виска.
– Не отчаивайся, Мария. Жизнь устроится. Надо чуток подождать.
– Час, два?
– И не час, и не два. Надо – вытерпеть. Я понимаю: тебе тяжело. Ты такая бледная, раздражительная. То обливаешься слезами, то смеёшься. Вот что, пойдём-кась наверх – подышим мартовским воздухом, поглазеем на звёздное небо, как мы раньше с тобой это делывали. Одевайся!
– Не боишься, что улизну? Я ведь шустрая.
– Там высокий забор.
– Перелечу. Или буду вопить.
– Хватит болтать. Оденься потеплее и поднимайся следом, – уже взбирался он по лестнице.
Она с пристрастием покопалась в шкафу, отыскивая и примеряя тёплые вещи. Поняла, что не столько сезонная одежда ей интересна, сколько – чтобы всё на ней было модным и смотрелось круто. Вертелась перед зеркалом, примеряя платья и кофты, шапочки и кепи, куртки и пальто. «Что, мадама, хочешь понравиться этому дяденьке?» Он сверху подал ей руку. И она снова за собой заметила – свою протянула с кокетливым изяществом, с этаким красивым взмахом. «Актриса-белобрыса! Он что тебе – нравится?»
Лев вывел её мимо джипа через тёмный, с запахом дизельного топлива гараж в обнесённый высоким дощатым забором двор, голый, но большой и плотно обсаженный деревьями и кустарниками. Было потёмочно, студёно, почти морозно, – вторая половина марта, известно, в Сибири ещё не совсем весна, хотя днём солнце уже пригревает, а влажнеющий и синевато чернеющий снег оседает. Мария глубоко вдохнула свежего, искристо покалывающего воздуха, удивляясь, что можно, оказывается, восторгаться такими пустяками. Даже расслышала – пощёлкивали смерзавшиеся лужи; под ногами похрустывало, деликатно мягко, с тонким призвоном. Ясно различались лишь только забор и деревья.
Оба увлечённо смотрели в небо, указывали друг другу на огненные звёздные прочерки и на разгоравшиеся знакомые созвездия.
Ничего не сказав Марии, Лев внезапно зачем-то скрылся в гараже. Она обернулась, не увидела его в потёмках и крадучись – или притворяясь перед самой собой, что крадётся, – подошла к калитке. Слегка – без надежды, что откроется, – толкнула её. И та податливо и услужливо распахнулась. Перехватило, но следом содрогнулось в груди. Увидела стремительные стрелы света проезжавшей невдалеке машины, освещённые окна двухэтажного особняка Льва. За чёрной вязью деревьев различила другие дома. Расслышала чью-то тающую речь и ленивый собачий брёх. Можно выскользнуть, выйти и – побежать, побежать, припустив что есть сил.
Но – не вышла и не побежала. Прикрыла калитку и отошла от неё подальше; ещё дальше, ещё. И даже зачем-то отвернулась от неё. Глубоко, по самые глаза, натянула шапочку с козырьком. Однако тут же поняла, что низко сидящая шапочка, – ну-у, совсем некрасиво, потому что, главное, не видно на лбу кудряшек. Поправила так, что лоб кокетливо заиграл завитками, а козырёк задорно задрался. «Хм, а не пора ли тебе, девонька, повзрослеть? Как-никак, уже в жёны позвали».
48
Сзади её крепко обнял за плечи Лев. Она не испугалась, не вздрогнула, не возмутилась, а повернула к нему лицо и с затаённой усладой ощутила, что от него как-то приятно пахнет табаком (не куревом, а той смятой сигаретой) и кожей его новой модной куртки. Ей понравилось, что он именно модно одет, со вкусом, без того равнодушия к одежде, которое она подмечала за другими мужчинами солидного возраста. Она разглядела в его глазах отражённые звёзды; а может, это были совсем и не звёзды, а так глаза его горели, и ей почудилось, что в лицо ей повеяло светом и теплом. Она невольно улыбнулась, не внешне, а в себе, скорее – в себя, для себя.
– Дядя Лёва, вы вот так прямо и любите меня… как женщину?
– Львом меня зовут, Мария. Да, как взрослую женщину и люблю. И буду любить… – Он хотел было снова сказать «до скончания моих дней» или как-то подобно, но не сказал – поморщился. Помолчал, несомненно, подыскивая нужное, верное слово. – Буду любить всегда. И хочу, чтобы ты меня полюбила.
Он низко, всем туловищем склонился к ней – она была ниже его чуть не на две головы – и в потёмках глубже всмотрелся в её глаза. И ей в мгновение стало жарко, и подумалось, что Лев и впрямь источал тепло и свет.
– Такая ты мне и нужна – прекрасным, чистым созданием.
Она снизу насторожённо и затаённо всматривалась в его лицо, сама не понимая хорошенько, что хочет увидеть, что хочет разглядеть в нём такое, чего не примечала раньше, при свете.
– Создание – оно, а я – она, но это так, к слову, – не преминула она по своему обыкновению поддеть. – Говоришь, чистая? А что, другие грязные?
– Другие – они другие, Мария. Я не хочу говорить о других, тем более кого бы то ни было осуждать. Каждый идёт своим путём.
– А у нас какой путь?
– Вместе. Вместе через всю жизнь.
И они надолго замолчали, смотрели в небо, казалось, пытаясь отгадать в нём какие-то намётки, какие-то очертания этого их совместного пути через всю жизнь.
Не вопросом и не утверждением прозвучало его тихое, в лёгкой улыбчивой насмешливости замечание:
– Не убежала. Молодец. Спасибо.
– А-а, ты нарочно оставлял меня одну!
– Ага.
– Подлец! – с притворной рассерженностью притопнула она каблуком, ломая звонкий лёд.
– У-у, как мы умеем браниться.
– Я не убежала, потому что мне не хочется в школу. Вся эта учёба – фу-у, такая гадость. Понятно, Ромео? А ты, наверное, подумал – из-за любви к тебе?
– Да, так и подумал.
– Не дождёшься, – отвернулась она от него, не осиливая расцветавшую улыбку, но и не желая выказывать её. – Холодно, озябла я.
– Конечно, озябнешь: вырядилась так, что, можно подумать, собралась на свидание – тоненькие чулочки, коротенькое платьице, курточка на рыбьем меху. Помнить, однако, надо: в Сибири живём. Что, не могла надеть чего-нибудь солиднее? Вещей много, есть из чего выбирать.
– Старый ворчун. Знаешь, там у тебя шмутьё такое немодное. – Она в сомнении подумала, но сказала-таки: – Дерьмовое, короче. Носи сам или раздай! А я тебе не лохиня.
– Что за словечки – «шмутьё», «дерьмовое», «лохиня»?
– Так все сейчас говорят. Ты что мне тут – нотации собрался читать, типа наших дубовых училок? Не на ту нарвался, папочка!
– Гх, папочку нашла! Да, собрался! И не хай мне учителей.
– Что ещё за «хай»? А-й, ну тебя! Замёрзла я, как собака. Веди домой… в яму свою, – отвернулась она от него и рывком натянула на глаза козырёк шапочки.
– Надо же, поцапались, точно бы две собаки. Не дуйся. Знаешь что, Мария? Я когда-нибудь построю для тебя дворец. Не веришь?
Она неохотно полуобернулась к нему.
– Дворец? Настоящий дворец? И я буду в нём принцессой?
– Ты будешь в нём повелительницей. Королевой!
– Королевой? Настоящей-принастоящей королевой?
– Самой что ни на есть настоящей моей королевой.
– Фи-и! – притворно-капризно сморщилась она. – Только твоей?
Он вдруг подхватил её на руки, она не отстранилась, но и не прижалась к нему: было очевидным, что не знала, как же ей, такой уже взрослой, вести себя. Когда-то давным-давно любила сидеть на руках у отца, а теперь ведь она такая большая. Но в тоже время ей было приятно и забавно находиться в сильных руках настоящего мужчины. Она слегка откинула голову назад. Он прокружил её несколько кругов, и ей представилось, что звёздное небо закружилось вместе с ней, и что оно потянуло её к себе, и что нечаянно разожми он руки – она улетит, кружась, восторгаясь и обмирая от страха.
– …да, да, только моей, – расслышала она, будто сказал он издалёка, быть может, уже откуда-нибудь снизу.
– Я не хочу быть только твоей королевой. Понял?
– Вредная, тщеславная девчонка, – поставил он её на ноги как бы в наказание. – Ты ещё не понимаешь, что такое счастье любви.
– А ты раньше… – Она запнулась и, очевидно, через силу уточнила: – Я хочу сказать, до меня, знал, что такое счастье любви?
– Я, Мария, ждал любовь. Годами ждал, в терпеливой надежде. Временами, правда, отчаивался, – и в себе злился и бунтовал: почему же я такой беспросветный горемыка? почему моё сердце молчит? почему в моей жизни не появляется моя единственная? Но теперь я не сомневаюсь, что только ты моя единственная.
– Единственная, – как кусочек из песни, протянула она.
Он её легонько прижал к себе.
– Маша, ты уже вся дрожишь! Не простыла бы. Быстрее, быстрее в тепло!
Они спустились по лестнице, показалось, в солнечно освещённую и ласково тёплую комнату; напились чаю с тортом. Мария была грустна и рассеянна, отчего-то не смотрела в глаза Льва. Потом он пересел на диван, а она, не сразу и в некотором отдалении, – на его краешек. Спросила, вытягивая из себя подрагивающий голосок:
– Что… теперь…это… со мной сделаешь?
Он в насмешливой, но чрезмерно морщинистой строгости ответил, прикуривая, однако тотчас спохватываясь и гася сигарету:
– Гх, «это»! Как ты иногда говоришь – «фу» и «фи»? Так и я в адрес этого твоего – сразу и без церемоний и фу и фи изрекаю. Пойми, Мария, Машенька: я душу твою полюбил и буду терпеливо ждать от тебя ответного чувства. Чтоб душа к душе было по жизни всей, а не это или какое-нибудь то. Как у людей заведено. Душа – вот что смертельно важно, вот за что, чую, я и жизнь бы положил, если бы выбор встал ребром и без запасного выхода. – Помолчал, сжимая губы. – Понимаешь? Понимаешь? – зачем-то дважды спросил.
– Ага.
– Вот тебе и «ага»! Если ты осознаешь и честно, напрямки скажешь мне, что не можешь и никогда не сможешь полюбить меня, я без промедления отпущу тебя с миром. И мне ничего другого от тебя не нужно будет. Ни этого, ни того. Понимаешь?
– Ага. Понимаю. Да, понимаю.
Помолчали в тягости, спасительно ища глазами угла, где бы приткнуться взглядом.
– А хочешь прямо сейчас уйти? Я – на верх мигом, заведу машину и доставлю тебя в целости и сохранности к матери. И – точка. И-и-и – порознь пойдёт каждый своей дорогой. Хочешь? А? Хочешь?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.