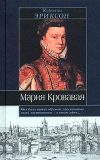Текст книги "Ручьём серебряным к Байкалу"

Автор книги: Александр Донских
Жанр: Современные любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 17 страниц)
И ему представлялось, что Мария непременно должна была бы выкликнуть что-нибудь этакое жизнерадостное, оптимистичное – «клёво!» или «супер!». Однако, чуткий, прозорливый, влюблённый, он тотчас понял, что ошибается, и ошибается жестоко, что ощущения его и слова его – поддельны, глупы даже. Встревожился: его Мария стоит-сжимается потерянно, она грустна, она тягостно и затаённо молчит. С укоризной к себе осознаёт Лев такое очевидное, но секунду-другую назад беспечно отвергаемое его душой, что Мария – ещё далеко, далеко не взрослый человек, что она воистину ещё маленькая, беспомощно хрупкая, уязвимая до последней жилки, да что там – просто девчонка ещё. Очевидно, что ей боязно, неуютно, одиноко. Он приволок её к этому помпезному, вычурному, к тому же чужому дому с дурацким петухом наверху и в этом доме, главное, нет её матери, нет ни единой родной души, нет её вещей, нет как нет поблизости её закадычных друзей и одноклассников. Лев же размечтался, что она возрадуется, почувствует себя осчастливленной, осчастливленной им, этаким новоявленным в её жизни дядей благодетелем, и как-нибудь выразит ему свою признательность, свои восторги и всё такое в этом роде. «Молодец: сходу разобралась – ненастоящее перед ней счастье».
– Ну, что, Мария, как тебе строение? – невольно упавшим голосом спросил он, отчего-то не назвав дом домом. – Нравится хотя бы немножко?
– Ничего, нравится, – машинально и бесцветно отозвалась она.
– Тебе тоскливо?
– Да-а, как-то, знаешь ли, не по себе стало. Пока ехали – ничего было, а сейчас почему-то прижало душу, как камнем.
Помолчали, стоя перед шестью зоркими сумрачными глазами-окнами. Мария спросила жалобно, на перерыве голоска:
– Мы здесь будем жить только вдвоём?
– Немножко надо бы, Мария, вытерпеть. Потом вернёмся к людям, к твоей матери, к моей сестре с племянником и начнём жить открыто. Как все. По-человечески. У нас с тобой там прекрасный дом, у нас с тобой Чинновидово. Выше нос, принцесса!
Но сам понимает и страшится: как же ему надо постараться, чтобы Мария была счастлива и довольна рядом с ним, чтобы что-то истинное, непридуманное состоялось у того и у другого в этом пока что чужом и чуждом для обоих доме. Для него с горечью и обидой очевидно – он для неё всё ещё, наверняка, никто, просто какой-то чужой, к тому же странный дядька, вероломно выкравший её, продержавший в яме, а теперь затащивший бог весть куда и бог весть зачем. Стоит-жмётся она около него, такого высокого, могучего, зрелого, в солидной дорогой одежде по сегодняшней холодной погоде, а она – этакая пичуга глупенькая, этакий подранок жалкий, да к тому же нелепо радужная в своей моднячей, несообразно зауженной, коротенькой курточке, в шапочке-блинчике с ярко-розовым воланом, в тоненьких колготках, в кроссовках, а не в утеплённых сапожках. Неухоженная, запущенная, – осознаёт и злится на себя Лев, стесняя губы. Не мог проследить, чтобы она оделась по погоде, только, выходит, о себе, любимом, и думает!
И его сердце внезапно, но мимолётно прожгло страхом: сможет ли он со временем всё же, всё же стать кем-то и чем-то для этого желторотого, зыбкого существа? Полюбит ли она его? И не напрасно ли многое из того, что он уже совершил и совершает? Может, взять да и отступить ему прямо сейчас, вернуть её к матери, повиниться перед людьми и жить так, как принято вокруг?
Но разве так его жизнь была там счастливой? Разве то, что он сейчас совершает, – не во имя любви, не для счастья и развития Марии? Но если всё же вернуться, то, несомненно, – неизбежно потонуть обоим в мути той, не любимой им и смертельно опасной для его Марии, жизни. И следом – навеки, навеки потерять Марию, которую обязательно уведут беспощадные обстоятельства жизни, стихийные круговороты людские, интересы противоестественные, царящие вокруг. Извратят, опоганят её душу, – и он лишится любви и надежды. Разве не так?
Разве не так?
Печёт, жжёт в груди Льва, помрачается и сдвигается что-то в голове. «Ещё секунда – и сломаюсь. Э-э, нет уж, други мои любезные! Довольно! Жить, так жить! А если помирать, так помирать с музыкой!»
– Пойдём в дом, – тихо, потому что сдавливало в груди, предложил он; и не вопросом прозвучало, и не утверждением, а походило, что мольбой, – мольбой, быть может, о помощи, о снисхождении. С трудом сглотнул пересохшим горлом.
Мария осторожно и медленно приподняла лицо, пристально, но застенчиво посмотрела в опущенные к ней глаза Льва. Улыбнулась, очевидно желая подбодрить его. Однако улыбка вышла слабой и вкось, некрасивой, с досадой поняла юная Мария. К тому же, как только она попала из машины на свежий холодный воздух, стало простудно и влажно напирать в носу, платка же не оказалось в кармане, и пришлось, по-детски, шморгнуть носом, раз, другой, правда, тихонечко. Но ей ясно, что Лев не мог не расслышать, не понять, что к чему, – смутилась, отвернулась: девчонкой, дурой выглядит! И – ещё напасть: чихнуть потянуло. Чихнула. Ещё раз; ещё, но сдавливаясь. Из носа точно бы хлынули потоки, потекло по губе. Какой позор, куда бы спрятаться, провалиться бы сквозь землю!
– А-а-а, вот ещё и простыла ко всему прочему! – вроде как обрадовался Лев. Можно выказать свою заботу, и этими необязательными словами, возможно, спутать свою нестойкую душу, стряхнуть с неё уныние и сомнение. – На платок! Почуяла, что здесь, в диком таёжье, холоднее, чем в городе или у нас в Чинновидове?
И ещё что-то говорил, но скороговоркой, путанно и, понимал, навряд ли нужное в эти необыкновенные для обоих минуты жизни.
И вправду, прохладно; да просто-напросто холодно, морозно. Хотя и солнце уже довольно высоко, и небо ярко синевой и распахнуто роскошно, однако леденит здешний сибирский, хотя и апрельский, воздух, валами подкатывается замшелая стынь из великой, немеряной тайги, из глубоких мозглых распадков, из снеговых саянских предгорий. Под деревьями ещё покоятся сугробы, по ложбинам – наросты мутных, грязноватых наледей. Густой, мохнатый иней старит сединой землю и деревья. Лес преимущественно хотя и вечнозелёный, однако настолько сбиты, прижаты друг к другу ветви, что создают собою высокую, неодолимую стену, и она к тому же удручающего непроницаемого окраса: что-то такое каменисто-серо-ядовито-зелёное. Девственно дикое окружение, в котором чуется угроза и затаённость из-за каждого куста и бугра. И от секунды к секунде углубляется и уже жмёт на душу, сковывая её, эта мёртвая, пещерная тишина, которая, мерещилось, наползает на них и сверху, и снизу, изо всех углов леса и усадьбы. Уже и Лев в своей-то плотной тёплой одежде ощутил озноб. Пронзительно неприютно обоим. Как с обрыва вдруг сорвались и – в яму угодили, невольно и до сжима в груди подумалось Льву. Молчат, напряжены, кажется, ждут какого-нибудь живого обнадёживающего звука, какого-нибудь всшороха, говорящего, что не одни они здесь, не одиноки. Но отчётливо слышат оба лишь дыхание друг друга.
– Живы будем – не помрём, – сказал Лев тихонько, бдительно вслушиваясь в дыхание, скорее, в сопение, своей Марии в одежде на рыбьем меху.
– Что, что? – шепнула Мария, но не сразу, тоже прислушиваясь к его дыханию, ровно-тяжёлому, мужскому, а также к важному поскрипу его кожаной куртки, можно было подумать, опасаясь, что и эти живые звучания можно потерять в этом затаённом, явно недружественном обиталище.
– Вот здесь, говорю, и начнём с тобой новую жизнь.
Поёжилась, ещё раз утёрла платком, всем корпусом отворачиваясь, нос и губы. Не удержалась, чтобы не съязвить в своём духе:
– Местечко, однако ж, ты выбрал клёвое. Б-р-р! Долгонько ли выискивал? Начнёшь тут, пожалуй, новую жизнь. Не загнуться бы совсем, не протянуть бы ноги.
– Какая ты, Маша, погляжу, ворчунья. Бабка! Да ничего, Мариюшка моя, обживёмся как-нибудь мало-помалу, не дрейфь. Станет и это место-местечко весёлым и приютным, как у нас в Чинновидове. Веришь?
– Угу.
– Когда обустроимся, будут тебе сразу и угу и угугу!
53
А ведь ещё какие-то сутки назад, хорошо знал Лев, на этой схороненной в лесах елани была другая жизнь, совсем другая – многолюдного, шумного, нередко суматошливого пошиба. И жизнь та была распахнута для любого приезжающего, при всём при том оставаясь долгие годы размеренной, устоенной, деловитой. В усадьбе проживала семья, муж и жена Сколские, в прошлом именитые учёные-ботаники, оба уже преклонных лет. Супруги были завзятыми охранителями природы и неутомимыми путешественниками, поездили по свету, а теперь, лет десять назад, осели здесь, арендовав, с последующим выкупом, захламлённый участок с подразвалившимся домом. Отстроились наново, развернулись, стали неплохо зарабатывать. Полюбили горячо эту строгую, но благодатную сторону. Они принимали всевозможных визитёров, туристов, просто праздный люд, всех тех, кто желал отдохнуть несколько дней или больше. Народ с проводниками и носильщиками бродил по таёжным тропам, которые выводили на всевозможные диковинные достопримечательности, всходил на Саянские вершины, сиживал с удочкой у речки, охотился, собирал грибы и ягоды, а то просто валялся в гамаке, хлопотал перед барбикю, в излишке принимая спиртное, объедаясь здешней дичью. Вообще многое что предлагали эти увлечённые, обходительные владельцы усадьбы, от примитивного времяпрепровождения и вплоть до научных исследований, природоохранительных поступков, – кому что нравилось, к чему были горазды и охочи.
Это была внешне счастливая, здоровая жизнь ещё свежих стариков, они и умереть предполагали на этой земле. Однако у них была одна, но великая и, быть может, уже непоправимая горесть – у них были, как сами говорили между собой супруги Сколские, «бесприютные, непутёвые, несчастные» дети, двое уже немолодых сыновей. Один, Пётр, старший, вышел беззаботным, но эгоистичным бездельником к своим сорока трём годам; он, брошенный, в конце концов, женой, без профессии, теперь вёл тёмный образ жизни игрока и дельца. Другой сын, Сергей, младше на год, сделался озлобленным неудачником; он отчаянно пытался обогатиться в коммерции, однако всё глубже увязал в невезухах, виня весь свет, родителей, брата, который вмешивался с советами, но только не себя. Столь «непутёвыми» сыновья получились потому, что, теперь осознали свою – определили они – «ошибку» супруги Сколские, воспитывались по чужим семьям и углам – у дедушек-бабушек, у тётек-дядек, часто порознь, изредка встречаясь друг с другом. Отец же и мать, захваченные всецело наукой, карьерой, охранением растений и животных, от случая к случаю, возвращаясь из бессчётных, но желанных поездок, второпях виделись с сыновьями, одаряли их подношениями, баловали всячески, однако снова и снова уезжали, и надолго, по призыву своей науки, по служению ей и обществу.
Когда же супруги Сколские состарились и отошли от больших научных и общественных дел, они захотели пожить семьёй, с сыновьями. Поселились вчетвером в этой усадьбе: родителям хотелось потянуть сыновей за собой, передать им те возвышенные идеалы, которыми прожили всю свою богатую, интересную жизнь, заслужив признание общества, научного мира. Но сыновья, к той поре уже возмужалые, самостоятельные люди, оказались страшно разобщены и с ними, родителями своими, и друг с другом не ладили. В глуши им жить не хотелось – зачем, что за блажь? Изо дня в день трудиться они не умели, пристрастий родителей к природе не понимали, и, после безобразных семейных скандалов, пришлось городскую квартиру разделить между братьями. Старики с горечью поняли, что семьёй могут быть только они двое.
– Мы не дали сыновьям любви и заботы, когда они в них нуждались, – честно признались друг другу опечаленные, чувствительные супруги Сколские. – И теперь у наших мальчиков разорённые души. Как мы виноваты, как виноваты! Так хотя бы оставим им наследие – этот дом и землю, чтобы у них появилась привязанность и надежда. Разве при такой красоте и благолепии вокруг не залечить душу? Обустроим хозяйство, наладим дело, чтобы оно приносило солидные доходы, а придёт время умирать – всё отдадим сыновьям. Повзрослеют когда-нибудь по-настоящему и уже после нашей смерти скажут, может статься, нам спасибо, и заживут на этой земле в радость себе и людям.
Супруги Сколские умели и любили мечтать, и мечтания крепили и обнадёживали их.
Но сыновья к старикам так и не потянулись, по усадьбе и в делах многотрудных не помогали никак им. Однако поочерёдно, а то и враз, нередко наезжали сюда, выманивали у своих предприимчивых, но не прижимистых родителей деньги, скандалили и с ними, и друг с другом, приставали к постояльцам и обслуге, случалось, хамили и бесчинствовали. Супруги Сколские страдали, им было совестно перед людьми. Они терпеливо увещевали сыновей, но никогда, памятуя о своей вине перед ними, не стыдили и тем более не прогоняли их.
Младший, Сергей, с год назад обанкротился в который уже раз, чудовищно задолжал, следом сорвался и страшно запил. Бросил неработающую, только что родившую жену с тремя малолетними детьми. Явится, бывало, к родителям, оборванный, злобный, с едкой насмешливостью на губах молчит, даже «здравствуйте» не скажет, кажется, тоже – как и сами его родители – уверенный, что они, родители его, неискупимо повинны перед ним, недодали ему. Поживёт бирючьим особняком, сквозь зубы и притворно нехотя вытребует денег – снова исчезнет. А не так давно – хуже, безобразнее: незаконно, в обход жены и интересов детей, продал квартиру, чтобы рассчитаться с уже угрожавшими ему кредиторами. Семья оказалась на улице, насилу приткнулась у родственников. Сам Сергей сбежал к родителям, несколько месяцев затворником обретался в зимовье, по ночам обворовывал отдыхающих, пил и дебоширил. Жена подала в суд, но Сергей не являлся к следователю.
– Наш крест – нам и нести его, – благородно смирились супруги Сколские, пересылая перевод за переводом отчаявшейся жене младшего сына.
Старший тоже был в долгах, нигде не работал, рыскал от родителей в город и обратно, проигрывал их деньги. Он был знаком со Львом Ремезовым, был и его фирме крупно должен. Как-то раз предложил Льву выкупить туристическую базу и бизнес родителей. Однако схема, которую предложил Пётр Сколский, понял Лев, была нечестной и даже подлой и гнусной: на самом деле нужно было обмануть, оплести, а потом втихомолку изгнать стариков, купить им какое-нибудь жильё в городе, а лучше, не скрывал сын своих каверзных намерений, – запихнуть их в захолустье.
Лев хотя и отказал Петру, однако побывал в усадьбе, провёл в этих краях несколько дней с важными деловыми партнёрами, ублажая их перед подписанием контракта. Познакомился с супругами Сколскими, выяснил у них, что продавать усадьбу они не намерены, причём ни за какие деньги. Понял, что они страстно любят эту землю, здешнюю природу, что они молятся на свою ботанику, боготворят травинку и букашку всякую. Однако Лев почувствовал и разглядел зыбкость их теперешней жизни; увидел их больными, наивными стариками. И понял, что работать им одним в таком огромном многослойном хозяйстве уже невозможно и безрассудно даже, что не сегодня-завтра они сдадут, надломятся, хотя по-прежнему романтически упрямы и одержимы. Самолучший исход для них, был уверен Лев, – всё-таки продать усадьбу, отойти от больших дел, зажить скромнее, по силам. Но, конечно же, не так продать усадьбу и бизнес, как вознамерился их сынок подлец. Самому Льву эта усадьба тогда не нужна была, и каких-либо разговоров со стариками о покупке её он не затевал.
Однако несколько дней назад Лев нагрянул к старикам: пьянеще и восторженно он осознал, что лучшего уголка на земле найти ему трудно, где бы можно было надёжно, да ещё и комфортно, да ещё и не уезжая далеко, не покидая любезных его сердцу родных мест, байкальских берегов, спрятаться от людей в этом вполне приличном доме, почти что дворце, хотя и несколько мультяшном, со своей принцессой Марией, перетерпевшись года два-три. Лев торопливо, напористо, однако по-щедрому, великодушно втридорога выкупил у несчастных стариков дом и всю усадьбу, и сам бизнес с зимовьями и станами по туристским тропам, с лицензиями и контрактами, с долгами и банковскими кредитами. Документы, правда, пока ещё недооформлены, но юристы в городе уже корпят; арендованную стариками землю тоже будет выкупать, но уже у другого владельца. «Кто знает: быть может, и мы с Марией полюбим эти края и захотим пожить здесь подольше или просто почаще заезжать сюда», – нередко промелькивала мысль, в которой «мы с Марией» звучало сокровенно и высоко. И уже шло само по себе через его сердце:
«Мы с Марией, мы с Марией…»
Хозяева, однако, и говорить поначалу не желали со Львом о продаже, о переезде, смотрели на него ошарашенно, посчитали за помешанного: действительно, явился-нагрянул хотя и приятный обликом, такой весь степенно-солидный, но малознакомый человек и несёт какую-то галиматью: продай ему, и всё ты тут! Никак не отстаёт, напирает, изловчается.
– Уйти с нашей взлелеянной земли, не передать её детям и внукам, похоронить свои мечты и надежды? Нет! И ещё раз нет! – намерясь держаться, перешёптывались друг с другом старики.
– Мы столько сил душевных вложили сюда, – причитала маленькая, худенькая, но костисто-твёрдо натуженная Сколская, поминутно подтыкивая пальцем сползающие на нос очки с толстыми линзами. – А какие тут красоты! Как они возвышают сердце, зовут к благородству, к служению, к подвигу! Вы думаете, нам нужны деньги, всякие эти ваши писнесы? – зачем-то ударила она на «ваши» и зачем-то неправильно произнесла «бизнесы». – Ошибаетесь, Лев Павлович! Мы хотим служить нашей великой сибирской земле, смотреть издали или сблизи на Байкал и молиться за его благополучие. – Помолчав, промолвила обессиленно, выдохом, как после долгого бега: – Не продадим! Уезжайте!
– Да вы загнётесь здесь, и, уверен, уже в скором времени, – угрюмо и грубо сорвалось у Льва.
– На своей земле загнёмся! – тоненько и плаксиво вскрикнул молчавший и очевидно дувшийся старик Сколский, квёлый, но рослый, с благообразной гривастой сединой. Лев заметил слезинку в его морщинистом, издряблом окологлазье.
«Дети, совсем ещё дети они оба, – ласково подумал Лев. Но уточнил жёстко, зачем-то даже стискивая зубы: – Прекрасные дети прекрасной, но сгинувшей эпохи. Как вы великолепны и жалки, как вы умны и глупы, как вы сильны и бессильны, как вы одиноки и одновременно устремлены к людям!» Льву было жалко стариков, но он уже не мог отступить: его всего зажигало устремление быстрее укрыть от людей Марию, спасти, уберечь её. Никакие затраты и препятствия уже не могли остановить его, застопорить. Останется он нищим, разорится – что ж! но рядом с ним будет его Мария, его судьба.
Уламывая упрямцев Сколских, Лев деликатно, но настойчиво напоминал им о их летах, о том, что им необходимо выручить сыновей, особенно семью Сергея; он не скрыл, что знаком с братьями, и намекнул, что те подлецы и могут в обход родителей продать усадьбу. Наконец, Лев искусил уже примолкнувших, вот-вот готовых сдаться стариков огромной, просто сказочной суммой денег.
– Ой, разоритель, ой, разоритель! – поматывалась Сколская, после того как проговорила, но через силу и едва разжимая зубы, окончательное согласие на продажу усадьбы. Муж её отсутствующе молчал, лишь пошевеливал тяжёлой, сталисто-коричневой, загорелой, скулой. – У сыновей беды за бедами, а так бы!.. Ах, что уж теперь! – Она помолчала, остро взглянула на Льва сквозь свои толстые, устрашающе утраивавшие её глаза очки, плеснула, как кипятком: – Стройте на чужом несчастье своё мещанское счастьице.
И эти страстные, обжигающие слова больно уязвили Льва, жестоко покоробили его сердце: «Я – разоритель? Надо же! На чужом несчастье буду строить своё счастье… счастьице? Да катитесь вы, старичьё!.. Жестокая, гляжу, ты, старуха, беспощадная. Неспроста, наверное, сыновья невзлюбили тебя и твоего муженька». Но вслух, однако, он не произнёс ни одного обидного слова. Да и что он знал о жизни Сколских, чтобы осуждать? Уговорился со стариками по-деловому, суховато, не взглядывая в их глаза.
«Разоритель… на чужом несчастье…» – долго ещё бились, подгоняя и взбудораживая кровь, в его груди жуткие, несправедливые слова.
Но к чёрту слова какой-то старухи! До чего же теперь близко и духовито счастье, которого он отчаянно, до обозления на весь белый свет ждал!
Обслугу, проводников, горничных, поваров, сторожей – человек двадцать, всех Лев вежливо, без излишних разговоров рассчитал, ненавязчиво выселил из усадьбы, выплатив каждому изрядные отступные. Однако люди были огорошены, попытались возмущаться, – Лев тут же находил повод, чтобы ещё и ещё доплатить. И страсти потихоньку пригасали. Его приняли за чудака, за сумасброда, оригинала, которому, похоже, некуда девать деньги.
Самим старикам Сколским, позднее узнал Лев, вырученных от продажи капиталов хватило на то, чтобы купить в городе великолепную квартиру и себе, и ещё более великолепную сыну Сергею с его семьёй; а Петру обменом существенно расширили его жилплощадь, уповая, что он, наконец-то, обзаведётся семьёй, оставит своё кривопутье, уймётся. Так же приобрели старики сыновьям по автомобилю и по земельному участку за городом: стройтесь, живите в радость себе и своим близким. Ещё осталось немного средств, и они прикупили себе дачный клочок: без земли, без тайги вокруг им жилось бы скучно и никчемно.
Однако братья Сколские остались обозлёнными на Льва. Накануне его отъезда с Марией они, выпившие, явились к нему в офис. Поначалу сдержанно угрожали, требуя, чтобы деньги за усадьбу Лев немедленно выплатил лично им. Распалились, – и вот уже затребовали ещё денег, сверх того, утверждая, что усадьба и отлаженный бизнес проданы задёшево, что Лев – ловчила, прохиндей, что жестоко и цинично провёл и стариков и их, братьев. Лев молча выслушал, легонько-неторопливо, но железной хваткой так же в молчании выпроводил «братцев» из кабинета.
Пётр, сощуриваясь, процедил в дверях:
– Добре, Лев Павлович! Но помни: ещё свидимся.
54
– Мариюшка, радость моя, не бойся, – поприжал Лев за плечо к боку свою подрагивающую спутницу. – Наладим и здесь хорошую жизнь. Мы ведь вместе. Понимаешь? – тревожно спросил он. «Так хрупко и неверно на земле человечье счастье, а тут ещё эта первобытная стужа, неотступная мгла тайги, устрашающее безлюдье».
– Понимаю, – постаралась Мария синими стынущими губами произнести отчётливо и бодро, чтобы не огорчать Льва своим, как она полагала, «издевательским видочком», потому что ей хотелось попенять ему: «Какой же ты ещё ребятёнок! Похлеще меня! Да и боюсь-то больше, вижу, не я, а ты. Эх, а ещё лев, царь зверей!»
– Довольно стоять! – почти что выкрикнул Лев, разрушая и безмолвие округи, и онемение душ. – В дом, Мария! В дом, хозяйка! – и галантно повлёк её за руку к широким гостеприимным ступеням крыльца.
Оба взбежали наверх. Он в нетерпении и спешке отомкнул дверь, распахнул её, подхватил Марию на руки и внёс её в дом. В лица живительно и ласково дохнуло жилым душистым теплом. Пахло неокрашенными, лишь покрытыми тонким слоем лаковой пропитки, деревянными панелями стен и потолка и тоже неокрашенными плахами пола, сухими целебными травами, мёдом, смолами, кедровыми орехами. Воздух был густо свеж, чист, особенен – просто изумителен. Обоим показалось, что дерево стен и потолка, такое лучисто золотистое, ясное, осветило их, и на лицах бликами заиграли новые краски, помолодившие Льва и словно бы посыпавшие сиянием Марию. Невольно и разом улыбнулись друг другу, однако тут же отчего-то оба смутились, притворились, что интереснее и важнее осмотреться.
На пол Марию не опустил, а понёс её по комнатам. Их очень много; быть может – немножко оторопело озирается Мария, – собьёшься, запутаешься даже, считая. Всюду простая, несколько грубоватая, но непривычная мебель – всё того же неокрашенного, янтарно-солнечно светящегося природными узорами дерева. Старики Сколские хотели вывезти эту собственными руками изготовленную мебель, однако Лев торовато перекупил её: ему хотелось, чтобы Мария с ходу угодила во владения солнца и чтобы их совместная жизнь была охвачена этим обаятельным, голубящим душу свечением дерева, этими замысловатыми рисунчатыми текстурами – текстами, посланиями, письмами, письменами леса, природы, тайных добрых сил мира сего, – нравилось в таком духе думать Льву, который и в своей инженерной, строительской практике любил работать с деревом. Ни ковров, ни картин, ни каких-либо других украшений в комнатах – строго и просто убранство. Но простота и строгость комнат, понимают Лев и Мария, – великолепны, изысканны, чарующи. Насколько снаружи дом не понравился им, настолько внутри он радовал и дивил.
В доме очень, просто блаженно тепло: трудолюбиво и тихо греют невидимые, спрятанные где-то в цокольном помещении электроболеры. Имеется и обычная печь; а в зале – красавец камин, он искусно, любовно, но и по-детски – или по-стариковки – наивно облицован резными дощечками ёлочкой. Печь – русская, огромная, бокастая, с лежанкой, с зевластым полукруглым жерлом. Не будет света – вот, пожалуйста, – пояснил Лев Марии, – можно и покушать приготовить, и обогреться. Она впервые видит русскую печь, – и поражена, и озадачена.
– Как церковь, – задумчиво сказала она о печи.
Льва поразили и озадачили эти слова Марии: «Надо же: разглядела церковь. И воистину – напоминает. А каким она видит меня? Старым придурком мужиком, маньяком, чудаком, лохом, дядькой, дядечкой? Кем?» И снова ему сделалось тревожно: возможна ли взаимная подлинная любовь между ним и этой юной, такой ещё шаткой и уже заражённой сомнительными соблазнами мира девой, способна ли Мария – в какой раз уже и с испугом отмечает, что ведь она совсем ещё девчонка, – способна ли Мария полюбить его, такого странного, проделывающего непонятно что?
Не опускает Марию на пол, хотя она предупредительно уже несколько раз поёрзала на его руках: мол, не тяжело ли тебе таскать меня, может, поставишь? Но он не чует её совсем: какая она лёгонькая, маленькая. Можно подумать, и нет ничего в его сильных, больших руках, привычных к металлу, лишь, быть может, – один воздух, мираж, тень.
– Охвати меня за шею, – попросил он, только сейчас явственно осознав и заметив, что её руки опущены и позаброшены в противную от него сторону, болтаются плетями.
Она в неловкой скованности набросила одну руку на его плечо, но держала её на весу, не обхватывая.
– Не доверяешь, боишься, дурёха, – пробурчал Лев.
Она промолчала, сурово поджала губы, потупилась, пунцовея.
– А сейчас ты увидишь настоящее чудо! – зачем-то шепотком произнёс Лев, когда внёс Марию на второй этаж в просторную, с большими обзорными окнами мансарду. – Смотри, – шепнул он ещё тише, явно боясь что-то такое спугнуть, нарушить голосом или даже дыханием.
Опустил-таки на пол, и они увидели обещанное чудо земли и неба. Долго вместе смотрели в одном направлении, стоя рука к руке. Но кто-нибудь, увидя их, наверное, мог бы и улыбнуться не без насмешливости, лёгкой, однако, и фривольной: они столь разительно неодинаковы! Один – высокий, другой – низенький, один – кряжисто широкий, другой – игольчато узенький, тощеватый, один – перезрело взрослый, другой – трогательно юный, один – с косичкой, другой – коротко стриженый, один – молочно розовый мордашкой, другой – аскетично суровый ликом, один – в задорной девчоночьей одежонке, другой – в классическом, изысканном облачении. Кажется, только лишь одно единило их – очарованность сердца, сияние восхищения в глазах.
Солнце уже было над верхами деревьев, и в дом мощными горными ручьями вливалось зарево, радужно, но пока что ещё неустойчиво горя. Мария в первые секунды зажмурилась, ослеплённая. Чуть приоткрыла веки, пообвыкая к свету. Увидела распахнутые, лучащиеся необозримые дали. Именно дали, шири, просторы видела поначалу, но ничего по отдельности или предметно. Однако от мгновения к мгновению стала различать, что перед нею блистающие, слитые воедино тайга, горы и небо. Тайга – густые зелёные, малахитовые, даже изумрудные ряби и валы, горы – вспененные, вздыбленные гигантские животные, которые вдруг замерли, окаменев. А над всем этим диким, ярым чарующим раздольем высокое чистое небо; по нему проносятся верховые ветры, подталкивая облака, и кажется, что ультрамариновые, васильковые, бирюзовые краски клокочут кипятком. Лев и Мария помнят, как неприютно, прижато они почувствовали себя внизу, возле дома, как там серо, сумрачно, одиноко. Отсюда же весь белый свет – блистающий, живой, прекрасный, многоликий. И душа Льва и душа Марии воспрянули, заблистали. «Жить и любить, жить и любить», – как кровь, запульсировало в голове Льва.
– А что вон там, в самой-самой дали, виднеется? – спросила Мария, щурясь и невольно улыбаясь. – Такое оно лазоревое, нежненькое.
– Байкал.
– Байка-а-ал?!
Помолчала задумчиво.
– Надо же, какой он маленький.
– Маленький, да удаленький, – вроде как защитил озеро Лев.
– Похож на сердечко. Лазоревое сердечко. И оно, кажется, дрожит. Бьётся. Трепещет.
– Байкал – большое сердце всей земли. А дрожит, Мария, воздух, Байкал же ещё подо льдом, правда, уже подточенным солнцем, – пояснил Лев деловито, но тут же понял, что не нужно так. «Молодчина: поняла и разглядела, что Байкал – сердце, лазоревое сердце, и что оно живое, бьётся. Она умнее и добрее меня. Да и кто из нас взрослее – вот вопрос!»
Ему захотелось сказать: Мария, всё, что ты видишь, – твоё! И Байкал твой, и горы, и тайга, и дом, и я – всё, всё твоё, любимая! Но он лишь поморщился, снова спохватившись: банальностью, тривиальной патетикой окажутся его слова для его такой здравомыслящей, такой чуткой, такой ироничной современной девы. Да и какие могут быть настоящие слова, если он любит, и любимая теперь с ним, только с ним, и никто не может посягать на неё, тем более заманивать в грязноту и мерзость жизни? Зло, лихо там остались, в городе, за горами и лесами, пусть попробуют добраться сюда, отыскать их дом, преодолеть ограду, взломать дверь или окно, – получат по зубам! И для Льва несомненно, что любые, даже самые красивые и возвышенные слова могут оказаться всего лишь звуками того грубого, нередко столь отвратительно злокозненного мира людей. И никаких других личностей здесь не надо и на дух. Пусть они, как умеют и хотят, все живут там. Там, там, подальше отсюда!
55
Ветер натолкнул на солнце облако, – на минуту-другую всюду, и на просторах, и в доме, воцарились тень, даже потёмочность. Запахло тревогой, и сумраком легли на душу Льва его же переживания.
Ручьём серебряным к Байкалу…
– неожиданно, неожиданно даже для самого себя, затянул Лев, так, точно бы песню, какую-то былинную, старинную песню, и затянул надрывом голоса, затянул тяжело, могло показаться, что в преодолениии какой-то сторонней или, напротив, его внутренней силы, преграды. Но замолчал, через край, до перехвата дыхания переполненный чувствами, тревогами дня и открывшейся новой, но ещё столь шаткой, неверной, прикрытой, подчас неприглядными, тенями лет его непростой и немаленькой жизни.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.