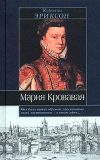Текст книги "Ручьём серебряным к Байкалу"

Автор книги: Александр Донских
Жанр: Современные любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 17 страниц)
– Вспомнила, Лёвушка: я слышала эту песню, и слова немножко запомнились, а мотив, ну, просто в душу вошёл! Из «Земли Санникова» она, правильно?
– Знаешь?! Молодцом! Оттуда, оттуда! И фильм отличный. Что называется, на все времена. Люди искали необыкновенную землю и нашли её, несмотря ни на что.
Мария неожиданно запела, с трудом, но с блеском в глазах припоминая слова:
Призрачно всё в этом мире бушующем,
Есть только миг, за него и держись.
Есть только миг между прошлым и будущим,
Именно он называется жизнь.
И Лев, потянувшись за ней по словам-ниточкам, повёл, знаток её, песню:
Вечный покой сердце вряд ли обрадует,
Вечный покой для седых пирамид…
62
И пели бы они дальше своими столь несхожими внешне – грудным тоненьким, как флейта, и хриплым баритонистым, как, возможно, саксофон, – но сплетёнными единым грустным нежным чувством голосами, однако – вновь взрывы уродливых, кажется, тоже под какой-то мотив, звуков с улицы, вернувшие Льва и Марию к настоящей жизни; оба вздрогнули, оборвали пение. Удивительно, но они успели за эти минутки жизни забыть, что кто-то там у ворот рвётся в их дом.
– Гх, забавляются, – едва раздвинул зубы, будто свело челюсть, Лев, с великой неохотой привставая, но усиленно зачем-то разминая пальцы рук. – Наверное, пьяные. Пугну-ка я этих гавриков из пушки.
Вынул из-под дивана всегда лежащий там на изготове револьвер, тяжёлым неохочим шагом направился к выходу. Мария, и всё ещё зачарованная словами песни, и напуганная сигналами с улицы, встрепенулась, когда он уже вышел:
– Не ходи, Лёвушка! Давай затаимся. Надоест – укатят. Так ведь уже бывало не раз, вспомни.
Он выглянул из-за двери, старался казаться спокойным и даже влёк губы к усмешке, однако Мария видела его разительно переменившееся лицо, – бледно испятнённое, даже несколько изрябренное натугами души:
– Но таких настырных, Мариюшка, ещё не бывало в наших краях. Нет, моя принцесса, придётся, однако, выйти и припугнуть. Не переживай. Я всего-то бабахну в воздух. Даже животные боятся оружия.
Они зачем-то, под влиянием какого-то вспыхнувшего единого для обоих безотчётного чувства глаза в глаза пристально, но коротко посмотрели друг на друга. Лев хотел, но не вышел через сенную дверь на улицу, задержался в дверном проёме и ещё раз взглянул на Марию: что-то особенное увиделось ему в её глазах, они сейчас не такие, как обычно. Какие же они? Они, несомненно, уже взрослые, они – женственные, они – женские, они – восхитительные. Но что-то ещё в них, что-то ещё такое народилось в их голубеньких глубинах за последние, наверное, минуты или секунды, миги, чего нет и не может быть ни у одной женщины мира сего!
– Мария, пожалуйста, не смотри на меня уныло и даже трагично: ты же не на войну меня провожаешь.
– Я тебя не провожаю, – произнесла она тихо и с заминкой. Но прибавила предельно строго и ясно: – Я тебя жду.
Она улыбнулась вздрогом щеки и неожиданно густо, просто огнисто покраснела; склонила голову, очевидно тая своё смущение. Он не помнит, чтобы она когда-нибудь настолько явственно тушевалась перед ним.
– Мне надо тебе кое-что сказать, – произнесла она шепоточком и, заподозрил Лев, неуверенно.
Взглянула на него и снова потупилась. Однако Лев успел увидеть в её глазах загоревшуюся радугу чувств, в которой он угадал и нежность, и тревогу, и – её обычное – лукавинку, и – совершенно не присущее ей – кротость. Но и что-то ещё было в её глазах, пока что глубоко, если не глубинно, скрытое и от него и, быть может, от неё самой. Столь многолико, противоречиво, загадкой её глаза ещё ни разу не проявлялись перед ним.
– Кое-что сказать?
– Да, очень важное.
– Важное для тебя?
– Для нас обоих.
– Для нас обоих? Скажи сейчас.
– Нет. В спешке не надо, нехорошо это, – непривычно для себя назидательно и важно сказала Мария.
– Я скоро.
Скрылся за дверью. Но, постояв в сенях во внезапно нахлынувшей на него нерешительности и сомнении, приоткрыл дверь в комнату:
– Я – мигом, Мария!
Лев не понимал, что с ним стало происходить: он весь внутри вспыхнул, в голове опьянело, перед глазами затуманилось. Он понял – не мог не понять! – что ему хотела сообщить Мария. Душа перемешалась, – и встревожился, и возрадовался одновременно. Но как важно теперь для него стало не скоро, не быстро, а мигом вернуться в дом, мигом вернуться к своей прекрасной Марии, к её глазам, к её улыбке, к её сердцу, к её голосу, вернуться ко всей их уютной, тёплой, до того неохотно выровнявшейся совместной жизни. «Есть только миг?» – зачем-то спросил он себя. Усмехнулся с нарочитым ожесточением, будто пытался отпугнуть вопрос: «Не надо нам только миг! Красивая фраза – и всего лишь. Нужна большая и счастливая жизнь вместе. И мы готовы к ней». Словно бы очнулся, осознав, что сигналили уже, было похоже, истерично, злобно, не прерывались подолгу. «Но люди, эти чёртовые люди, вечно-то вмешиваются! Не допекали бы, не разбудили бы во мне зверя!» – пытался он думать с весёлой насмешливостью.
Тщательно-плотно закрыл обе входные двери и вышел на крыльцо. В его глаза горячо, но ласково плеснуло закатным солнцем и небом. Чуть зажмурился, желая улыбнуться. Хотя день и вечереющий, но беспощадно яркий, дали беспредельные, вечнозелёные деревья густые, мощные, снега, белые до внеземной, какого-то не здешнего мира кипени, яростно искрятся, – всё здесь по-настоящему, всё крепкое, всё восхитительное, всё желанное и в то же время необыкновенное, вроде как даже несбыточное. А за дверями – она, она, его Мария. Он мигом вернётся к ней, как и обещал, и она смущённо, но и не без своей привычной смешливой лукавинки скажет ему о том, о чём он хочет от неё услышать. Но кто же там захотел расстроить тихое и желанное течение их жизнь, непонятно для чего прикатив в такую даль и беспрерывно, с очевидной дерзостью и издёвкой сигналя?
63
С крыльца через решётку заграждения Лев разглядел в салоне джипа братьев Сколских. Душа, на минутку расслабшая пред небом и далями, скомкалась и отвердела, как кулак. Когда-то, куражась и угрожая, братья обещались навестить, разобраться.
Сжимались зубы Льва, он едва выцеживал слова, когда неторопливо спускался с крыльца:
– Явились – не запылились, говорят в таких случаях. Ладненько. А ещё так говорят: живы будем – не помрём. Авось.
Не удивился братьям, не испугался их, но лишь прибавил в своём невольном монологе, правда, с морозящей кровь решимостью и готовностью:
– Если что, то…
Оборвал себя. Но что если что? Что то? Не захотел обдумывать: быть может, если обдумывать, взвешивать, прикидывать, то можно, кто знает, слабину дать, а он никого – ни-ко-го! – не боится и бояться уже не имеет права, потому что в доме его ждёт Мария его.
Он смотрит издали на братьев и ему вспоминается, как он когда-то сгрёб их за шиворот и вывел чуть ли не за ухо из своего рабочего кабинета. Потянуло засмеяться, захохотать. Что могут против него, крепкого, тёртого, к тому же вооружённого, что могут против него, льва, царя зверей, эти два мозглявых, недоразвитых и физически и, похоже, умственно подонка? Тощеватые оба, головёнки засохшие, маленькие, плечи умятые, рожы опухлые похмельные – дегенераты, пацаны, хотя обоим уже за сорок. Единственное, изловчатся, если вооружены, выстрелить первыми.
– Что ж… – сдвинул Лев за пазухой под курткой гашетку револьвера и покрепче сжал рукоятку. Он выученно знает, что лучше бывает первым напасть, чем ожидать и отбиваться.
Старший брат, Пётр, немножко благообразнее, посолиднее обличьем, чем младший, Сергей, выглянул в боковое оконце, выплюнул в направлении Льва докуренную и изжёванную на фильтре сигарету:
– Открывай, хозяин, ворота! Принимай гостей: будем отдыхать-веселиться.
– Проваливайте-ка, братцы-кролики.
– Обижаешь, начальник.
Оба вышли из джипа, с развалкой ленцой поразмялись, попотягивались, с наигранным равнодушием озираясь. Сергей, коротконогий, длиннорукий, с выпертой челюстью, истое подобие обезьяны, зачем-то тряхнул решётку ограждения, с притворной свирепостью уставился на Льва, брезгливо пошевеливая сигарету скошенными губами.
– Угадай, кто из нас в клетке: ты или мы? – спросил он.
Лев промолчал, но подумал: «Хм, да они, кажется, не глупы».
– Мы – с миром, – продолжал переговоры Пётр. – Пока с миром! Хотим, Лев Палыч, отдохнуть в родительской вотчине. Всего-то! Открывай, не упирайся!
– Здесь мой дом, а не чья-либо вотчина. Проваливайте, я сказал!
«А может… а может, уступить?» – вдруг сверкнула, пробиваясь через слои тяжёлых чувств, мысль и на секунду в груди ослабло, даже вздохнулось полегче. Конечно, можно, таким образом откупаясь и, несомненно, лавируя, впустить братьев: отдыхайте, мол, мужики, не жалко; гостевой домик выбирайте любой, баню истопите, продуктами поделюсь, бутылку коньяка поставлю. И немного деньжат можно будет всучить, чтобы отвязались на время. Почему бы не уступить, не умилостивить, а потом добропорядочно выпроводить? Видимо, не могли братцы не явиться: снова, уверен многоопытный Лев, они проигрались подчистую, по-глупому растратили деньги, наверное, уже последнее вытянули со своих злосчастных стариков и пригнало их сюда отчаяние и ожесточение. Понятно, что будут выклянчивать или же нахрапом требовать денег, снова обвиняя Льва в обмане, в хитрости, а то и в подлости.
«Уступи, уступи».
«Им? Мне? Уступить?»
«Уступи! Почему бы и нет? А потом – более менее спокойная жизнь. Будь гибче, хитрее, усмири свою спесь. Ты же вызнал человечью породу!» – говорил он со своей душой.
Но уступить, понимает гордый, упрямый Лев, означает не только запустить в свою жизнь этих ненормальных типов, да попросту мерзавцев, но и уступить всей той прежней жизни, от которой он скрылся, из которой убежал вместе с Марией. Всей той прежней жизни Лев не доверяет! Но самое важное – она, его Мария, беззащитная, слабая, неопытная: если уступит – не подвергнется ли опасности её жизнь, не пострадает ли её душа?
– Открывай, Лев Палыч, ворота, – видимо, приметив на лице Льва борьбу и смуту, в льстивой угодливости улыбнулся и принаклонился даже Пётр. – Говорю же тебе: с миром мы. Отдохнуть охота от трудов праведных и непосильных. Ну, чего застыл, точно памятник самому себе?
«Памятник самому себе? А что, толково сказал!»
И Лев вот-вот склонился бы, чтобы запустить братьев. Конечно же, не лишним было бы сговориться с ними, перехитрить их, чтобы они раз и навсегда или на очень-очень долгое время отвязались от него, забыли этот дом. Конечно же, не бесполезным было бы дать им немного денег. Чувства и мысли перемешались, и вот-вот заговорил бы Лев с ними, внешне мягчея, играя, запутывая следы. Однако пристальнее в прищуре недоверия тёртого человека взглянул на Петра и – неожиданно, во всплеске гадливости разглядел ощеренные в улыбочке мелкие желтоватые гнилые зубки зверька. Вспышкой озарения понял, и не усомнился ни на йоту, что в этой смердящей улыбочке отразилось торжество каверзности и нахальства всей той жизни. И тотчас порадовался, будто осветился внутри: не уступит, ни за что не уступит! Нельзя пятиться, нельзя сдаваться. Держаться до последнего, как в бою, как на войне. Всей мощью своей гордости и презрения придавил, скомкал в себе сомнения, оборвал борьбу. За пазухой рукоятку револьвера стиснул до боли в пальцах. Глыбой памятника перед ними всеми встанет, стеной – чем угодно, а не уступит, никогда и никому! И голос его разума не возразил совести души его, затаился, не стал уговаривать, приводя выгодные доводы.
Никак не отозвавшись на слова Петра, Лев повернулся к братьям спиной и с показной неторопливостью пошёл к дому. Он предполагал, что они способны выстрелить в спину, однако – ни единой жилкой нельзя выдать, что может чего-либо и кого-либо бояться. Тем более Мария его, по своему обыкновению, когда он с кем-нибудь говорит возле ворот, утайкой стоит сейчас у тюлевой занавеси и наблюдает за происходящим во дворе, ожидая своего любимого, волнуясь за него, а может быть, и любуясь им, гордясь, что он у неё такой смелый, решительный, сильный, что он защитник её и потому ей ничего не должно быть страшно в этом мире, что он, наконец, лев, её лев, царь зверей, её ласковый зверь.
– Будя, Петро, цацкаться с ним, – с громким «тьфу» выплюнул Сергей в сторону Льва сигарету. – Эй, ты, прохиндей! Слухай сюды: ты надул наших стариков, обобрал меня и брательника. Знай, ты от нас на дуряка не отбрыкаешься, мы вывернем тебя наизнанку, вытряхнем из тебя нашенское кровное!
Лев не остановился. «Прохиндеем назвали? Ненавидят? Требуют денег?» Уже взбирался на крыльцо. Скоро – дверь, а за дверью – его Мария и милая его сердцу жизнь, жизнь с надеждами, с верой, с любовью. Там настоящая жизнь, такую он много лет ждал, добивался, искал, нередко изводя себя. Дождался, добился, нашёл. Теперь освобождённую, переплавленную душу свою нужно беречь, отталкивать от себя и от Марии любую скверну жизни. «Ну, ладно: прохиндей, так прохиндей, – легко подумал он, уже в нетерпеливой спешке взбираясь по ступеням, невольно забывая показывать братьям, что он предельно спокоен, что никого не боится. – Денежек братцы-кролики хотят? Ладно, дам, но когда-нибудь после. Если сейчас – то обнаглеют пуще, вгрызутся, как в морковку, – не оторвать будет».
64
– Что, струсил, придурок?! – выкрикнул Сергей, в озлоблённом отчаянии сотрясая ограждение. – Струсил, удираешь, падла!
«Струсил? Я – струсил? Я – могу – струсить?»
Вот и произнесено слово, которого он не хотел, произнесения которого, кажется, боялся более всего остального: его, Льва, льва и по имени и по сути своей, умиравшего и воскресавшего духом и телом в той жизни, обвинили в трусости? Они не понимают, что он презирает их, что ему противно рядом с ними находиться, даже дышать с ними одним воздухом не хочет он, что он не может быть перед ними, мозгляками, ничтожествами, плебеями, трусом. Он – лев, он – царь, он – свободен и горд, а потому не может быть трусом.
– Что ж!..
Вернулся натуженно-неторопливой поступью, выверенно-спокойными движениями открыл ключом калитку и – броском зверя ухватил попятившегося, насутуленного Сергея за грудки и рывком со страшной звериной силой саданул его лицом по ребристым стальным прутьям ограждения.
– Что ж, заходи, гость дорогой.
Однако за какое-то мизерное мгновение до этих броска и рывка в его левый бок в подбрюшину и выше, разрывая тело и внутренности зазубринами, вонзилась заточка – стальная длинная пика с набалдашником в качестве рукоятки, примитивнейшее, но каверзнейшее орудие чудовищных тюремных разборок и мести. Сергей, державший заточку в рукаве, с филигранной опытностью нанёс удар первым. Она намертво застряла в теле Льва между рёбер, – не вынуть просто; и до того глубоко вошла, что и набалдашника не заметно, – умялся в складки куртки. Но внешне – всё то же, всё так же. И крови не хлынуть, даже, видимо, и просочиться ей не сейчас.
– Я же сказал, проваливайте, – успел вымолвить Лев ещё, и его жизнь – сломилась.
Силы гасли стремительно. В коленях подсекло, перед глазами качнулось. Но на ногах он устоял, продолжая свою непримиримую борьбу, но уже не с жизнью и людьми, а со смертью и судьбой.
Не понимая, что с ним происходит, зачем-то повернулся лицом к дому, – угадал Марию за тюлью: как в дымке она. В дымке времени, судьбы, его души и разума. Или как с облачка смотрит уже ангелом, приветствуя из горних далей. Как же ты будешь без меня? Понял мгновенно и пронизывающе: нельзя напугать её. Улыбнулся ей, покачнул головой: мол, не бойся ничего, я уже иду к тебе. Смотри: я шагнул, ещё раз шагнул. Иду, просто иду, иду как все люди. Встречай меня, любимая! Скажи мне, что хотела сказать. Порадуй или рассмеши, подцепи меня – будь самой собой, какою я и люблю тебя.
Продвигаясь к дому, расслышал рыкающие слова Петра:
– Ты этой чёртовой острогой разорвал ему всю нутрянку. Он вот-вот умрёт. Ты что наделал, недоумок!
– Заткнись, братка, а то и тебя пришью: у меня в кармане ещё нож припасён.
Лев не остановился – скорее, скорее к Марии. Запереться, защитить её, отбиваясь от людей чем и как придётся. Теперь о ней, только о ней думать; а о себе думать – это тоже, что и о ней. Сказали, умру? Нет, не умру… если она выживет!
Льву, несмотря на весь ужас своего положения и состояния, понятно и очевидно, что сейчас он расплачивается с людьми, и не только с этими двоими, а со всеми, со всеми людьми, за свою непомерную гордость, за возвышение над ними, за страстное, нетерпеливое желание счастья, к которому другие не способны или не готовы сердцем, и высшей, последней платой может стать жизнь его. Что ж, захотели, чтобы я умер? Вы получите мою смерть, но её не трогать! Не приближайтесь к ней, гады! Нужно бы крикнуть, припугнуть, устрашить, но сил на злость и гнев уже не хватает. Нужно во что бы то ни стало преодолеть ступени крыльца. Раз шаг, два шаг, – задержать, преодолеть, победить смерть.
Сергей, окровавлённый, с обезображенным, разломанным носом, с разорванными губами, в пьяном дурмане от дикой боли и лютой злобы, поднялся с карачек, выплюнул зубы и кровь:
– Я, братка, и дом подпалю. Ни ему, ни нам! Ни Богу, ни чёрту! Ша! Прочь с дороги! Не мешай – убью!
Лев, едва держа шаг, наконец скрылся за дверью.
Сергей, поматываясь и харкая кровавыми сгустками, достал из багажника канистру с бензином. Запинаясь, падая, чертыхаясь, расплёскивал от крыльца, по веранде. Саданул ногой дверь – заперта. Не стал ломиться, а облил её; отошёл от дома и бросил зажжённую спичку. Полыхнуло буйно, весело, с нарастащим утробным рокотом. Мгновение, другое – крыша и веранда в дыму и огне. Небо запятнилось, солнце померкло, закружилась в чёрной пляске гарь.
65
Сергей завалился в машину за руль, яро газовал на месте и ударами кулака по клаксону сигналил для стоявшего неподвижно, с прикушенной губой Петра.
Ехали страшно: кроваво-стеклянными глазами вперясь в лобовое стекло, Сергей без нужды давил и давил на газ – машину вырывало вверх на взгорках, заносило, подбрасывало, едва не опрокидывало на поворотах. Братья угрюмо молчали. Первым не выдержал Пётр:
– Жили и живём мы с тобой, Серёжка, конечно, погано, пропащие мы души, но чтоб человека убить!.. Как же мы так с тобой? Ведь хотели-то всего-то деньжат вытянуть, малость попугать богатенького Буратино, покуражиться перед ним. Как же теперь жить, как жить, брат?
– Не ной, братка. И без тебя тошно. Я убийца, не ты. Радуйся хотя бы этому. Ты ведь знаешь, что я готовился долго и тщательно: заточку заказал у братвы, они же обучили меня, чтобы хоп из рукава и – каюк: не человек – мясо уже. Я знал, что он заерепенится, а против такого бугая в открытую не попрёшь, – надо признать, хиловатые мы с тобой мужичёнки. Я попугать, как ты говоришь, не собирался: хотел наказать его по полной программе и – наказал. Наказал! Ша, дело сделано!
– Что мы натворили, что мы натворили! Ты наказал и себя и меня, а ему теперь всё равно: наверно, уже умер или вот-вот умрёт. А нам-то, пойми, жить. У нас же есть дети, а потом, может, и внукам быть.
– Молчи! Не зли меня.
– Не дёргайся, а слушай меня, старшего брата: надо бы вернуться.
– Не надо! Не скули. Убью!
– Может, ещё спасём его.
– Не надо спасать его. Пусть подыхает. – Помолчав, сказал тихо, но едва раздвигая челюсть: – За шторкой, кажись, я видел девку… не сгорят, выберутся через задние сени. Она поможет ему, вызовет скорую, – мобила-то уж точняком водится. До райцентра всего-то двадцать километров. А лучше – подох бы он. Ненавижу! Одно хорошо – дом теперь ничейный: ни его, ни наш.
– Вернёмся, братка! Совесть заест меня, если помрёт он, а я не помог. Бог-то есть, он всё видит. Сам знаешь, что жил я всю жизнь весело и беспутно, а вот только что, когда ты убивал человека, мне душу перетряхнуло: да как же теперь будем жить? Да смогу ли я жить с твоим и своим грехом? Вспомним о Боге, брат. Опомнись!
– Нету Бога! И нету добра в людях. Без родителей мы росли, по углам мотались, и много мы с тобой видели добра? Укоры, тычки, а бывало, что в голоде и холоде держали нас. Понимаю, потому и выросли мы зверятами, а теперь осатанели, в беспредельщики подались. Мы с тобой с пелёнок – сплошняком разорённая судьба, нам пути-дорожки не может быть, потому что ласки нам не было от людей никогда. Но теперь, брат, поздно хныкать. Как живём, так и подохнем и сгинем, – по-скотски.
– Встречались, Серёжка, добрые люди – чего уж ты!.. И мать-отец у нас хорошие: вон какие учёные да культурные люди.
– Поганые они. Оба сволочи. Особенно мамаша: свихнулась на науке, люди для неё – тьфу, ей подавай деревья, кустики. Потому и душа у неё стала деревяшкой. А папаша наш – малохольный размазня, баба слезливая. Они оба и сгубили нас навечно. Народить народили, а людьми сделать не смогли. Потому и конец нам такой обоим – убийцы мы и падаль. Так и будем жить – сгнивать заживо.
– Тормози! Я вернусь пешком. Буду замерзать, ползком волочиться, а его спасу. А значит, пойми ты, брат, спасу и тебя, и себя. Тормози, ну!
– Нет!
– Тормози, гад!
– Не-е-ет!..
Пётр ухватился за руль, сбил ногу брата с педали газа. Джип круто мотнуло, забросило и швырнуло с этой горной прибайкальской дороги. Перед глазами братьев – сначала яростно-голубое безбрежное небо, следом, но уже по наклонной, – Байкала сверкающе-синее, как у жар-птицы из любимой сказки их далёкого детства, пёрышко-кусочек, ещё мгновение – и приветственно отворилось зеленохвойное скалистое ущелье, а там где-то ниже, ниже, очень глубоко – яма, но осиянная светом закатного солнца, в приветных блёстках озерковой водицы.
– Мама! Ма-а-ма!.. – успел вскрикнуть Сергей.
Братья умерли с распахнувшимися внезапно и стремительно сердцами для любви и добра. Может статься, приголубят их, не нашедших утешения в жизни земной, небеса.
66
Убитый, но ещё не упавший Лев вошёл в комнату, ладонью тая набалдашник заточки, присгорбленный, будто удерживал на плечах непомерную тяжесть, но упорно прямящийся. Мария от окна козочкой подпрыгнула к нему, прильнула к груди.
– Лёвушка, Лёвушка! – ластилась она, ослеплённая светом солнца и вспышкой нежности в своей груди, а потому неясно разглядела в полумраке комнаты Льва. – Ух, как ты шваркнул того питекантропа. И второму поддал бы, рыпнись он на тебя, да? Какой ты сильный у меня. Ну, просто супермен, Шварценеггер!
– Мариюшка… радость моя… нам надо уходить, – на срыве дыхания вымолвил он, крупно сглатывая наступающую горлом кровь. – Пойдём в ближнее зимовьё, до него каких-то километров пять. И до райцентра от него всего ничего. В зимовье продукты, дрова, тёплые вещи, – я потихоньку подготовил его к жизни: мало ли что может стрястись. Уходим. Медлить нельзя.
Она с пытливой, но улыбчивой недоверчивостью, похоже, не желая освобождаться от своих юных игривых чувств и настроений, посмотрела в его глаза. Он – улыбнулся. И ей, возможно, ответить бы свежим цветом улыбки, пошутить, поиграться ещё, но – что с ним: она не узнаёт его лица! Да и не лицо она видит – какую-то ужасную, землисто-бледную, с чёрно-синими, как синяки, полосами маску.
– Лёвушка, что с тобой? – выдохнула она на спаде голоса.
– Потом узнаешь. Пожалуйста, одевайся, накинь куртку, шапку, лучшую обувь. Уходим, родная. Пройдём через задние сени. Ничего не бери с собой лишнего: там всего навалом, на две-три недели хватит тебе.
– Лёвушка, ты сказал тебе? Но почему только мне?
– Потом, потом объясню. Идём же, идём, Мария.
– Ой, запахло горелым! – Она подпрыгнула к окну. – Крыльцо в огне! И веранда тоже! Они подожгли наш дом!
– Уходим!
– Лёвушка, миленький, родненький, что с тобой, какой вред причинили тебе эти мерзавцы? Ты едва стоишь. Как же ты пойдёшь?
– У меня достанет сил до зимовья. Я должен тебя увести отсюда и – уведу. Хоть живым, хоть мёртвым, а тебя буду спасать и – спасу. А потом… А потом посмотрим. – Помолчав и сглотнув кровь, прибавил: – А потом Богу решать и судить. Пока же могу ещё решать и действовать я сам.
Он вынул из-за пазухи револьвер. Но за дверями сеней и наруже никаких препятствий они не обнаружили, никто не поджидал. Вскоре выбрались на тропу. Когда оглянулись – крыша их дома полыхала, чадом заляпывало солнце и небо.
Лев шёл быстро, поминутно ускоряясь, но его бросало и сгибало. Он мог свалиться с обрыва. Мария пыталась поддержать его, подсунуться под плечо, однако он не давался, молчком вырываясь вперёд, и она вынуждена была порой бежать за ним.
Уже на самом подходе к зимовью у Льва подломились ноги и он, упрямо удерживая колени и спину прямыми, упал-таки, сражённый, но ещё не мёртвый. Силился, сжимая зубы и хрипя, ползти. Наконец, затих, повалился на спину. Кровь не удержал в себе – она хлынула и обильно залила грудь и лицо. Мария вскрикнула и только сейчас разглядела торчащий в его животе набалдашник.
– Что с тобой сделали эти нелюди! Я их уничтожу, изрублю на куски! Я никого не пощажу! Любимый, не умирай! Я сейчас что-нибудь придумаю. Я спасу тебя. Знай, я тоже умру, если ты умрёшь, слышишь? Слышишь?!
Он не отзывался, лежал с сомкнутыми чёрными веками, слабо, на угасании дыша в судорожных перерывах.
Она стала озираться, затравленно метаясь залитыми потом и слезами глазами. Но что она могла увидеть в тайге кроме беспричастных скал и деревьев, а над ними – этих вечных солнца и неба? Жизнь светилась и торжествовала самыми своими яркими и могучими красками вокруг и над. Снежные дали были жарко, обжигающе белы, отовсюду сыпалось игривое, нежное сверкание подледенённого недавней оттепелью снега. Тепло, тихо, распахнуто. Это место прибайкальской тайги Лев и Мария любили, были рады, что есть здесь зимовьё, и проводили в нём суток по двое, по трое, когда бродили окрестностями. Лев любил сидеть на бугорке возле зимовья и подолгу смотреть вдаль. «Виды здесь, как в Чинновидове: просторы, строгость пейзажа», – говаривал он неизменно утихающей здесь Марии. А иногда прибавлял: «Мы обязательно вернёмся с тобой в Чинновидово и – заживём, хорошо, родная, заживём. Как все люди».
Как все люди, – вспомнила Мария его слова и мечты и заскулила. Что делать, что делать, куда бежать, к кому обратиться, у кого попросить о помощи? Закричишь караул – кто услышит, кроме, возможно, тех двух бандитов?
В отчаянии потянула за набалдашник, – не пошло, внутри Льва вроде как всхлипнуло или, вернее, будто бы оборвалось и тяжко упало что-то такое вязко-влажное. Ужас, ужас! Она увидела примыкающий к набалдашнику краешек заточки; он багряно кровью и зеркально сталью блеснул на солнце. Она зачем-то подняла голову к небу, но ни одного слова не пришло к ней, не наступило и осознание того, что, коли подняла голову к небу, надо же, наверное, сказать что-то или подумать в каком-нибудь направлении или же поступить как-нибудь по-особенному. Она сжала зубы и завыла, по-волчьи протяжно и по-взрослому хрипато.
Ещё потянуть разок? Что она ещё могла и способна была придумать!
67
Лев очнулся, застонал, но сквозь жуткую землистую прозелень кожи смерти, кажется, улыбнулся своей Марии, по крайней мере морщины у губ собрались:
– Не вытягивай – я сразу умру. Так кровь сдерживается, а кровь – это хотя бы какая-то жизнь.
– Миленький, не умирай… Лёвушка… Лёвушка… Смотри, красоты сколько везде! Как в нашем Чинновидове. Природа для нас, всё для нас. Надо жить… надо жить…
– Надо жить, – повторил он эхом, но шепотком. – Чинновидово. Хочу в Чинновидово, в наш дом. Да, надо бы жить ещё.
Помолчал, видимо, скапливая мысли и силы.
– Крепись, моя принцесса, моя любовь. Теперь мы не избежим людей: они придут сюда за мной, за живым или мёртвым, а потом, разобравшись, что к чему, будут костерить меня: похитил невинную девушку, школьницу, совратитель, эгоист, только о себе, о своих удовольствиях и думает. А то и крепче скажут: страшный человек, преступник, и наручники нацепят, если живым ещё буду. Человек лёгок на суд и расправу. Не только по себе знаю.
– Не наговаривай на себя! Пусть только попробуют вякнуть на тебя! Какая я им невинная девушка? Я – баба.
– Баба? – Лев вздрогом щеки смог улыбнуться; стал искать руку Марии.
Она поняла, – подняла его ладонь и стала – целовать её, приговаривая:
– Живи, живи, мой прекрасный Лев, мой царь, мой муж!
– Ба-а-а-ба, – протянул он, вроде как любуясь словом. – Нет, ты ещё малышка, несмышлёныш. И я, Маша, так виноват, так виноват перед тобой. Тебе надо жить рядом с матерью, набираться силёнок, общаться со своими сверстниками, полюбить, наконец, парня.
– Нет! – крикнула она, рыдая и целуя его руку. – Я – баба! Я – баба, Лёвушка, родненький мой, жизнь моя! Пусть все они слышат: я – ба-а-а-ба! Мне не надо никаких сверстников: они все безголовые, ненормальные, примитивные. Мне с ними скучно. Мне и никакого парня не надо, потому что ты лучший на земле парень. – Она секундно замешкалась в очевидном сомнении говорить не говорить, и всё же сказала: – И мать мне не нужна. Да. Да, не нужна теперь. Ты, только ты мне нужен! Любимый, прекрасный, самый добрый на свете человек! Твои мечты – теперь и мои мечты: я тоже хочу влиться ручьём серебряным в Байкал. Я тоже верю и горжусь, что во мне частицы звезды – серебро. Я… я… поверь, любимый: я стала такой же, как ты, и ни за какие деньги не соглашусь стать какой-нибудь другой. Там – другая жизнь, и пусть они живут как хотят. Хоть на головах ходят. Правильно я говорю? Правильно? Правильно, а?
Она уже захлёбывалась слезами, утыкиваясь лицом в его широкую, всегда мозолисто-бело-мягкую и тёпло-нежную, но теперь ставшую шершаво окаменелой, мертвенно серой ладонь. Он молчал с закрытыми глазами, по-видимому, снова подкапливая силы, определяясь с мыслью, которая никак не должна быть случайной, неполезной для его Марии.
– Не говори, Маша, что мать тебе не нужна. Не разбрасывайся словами. Она – твоя мама. Мама, – тоненько произнёс он. – Любая мать – самое святое. Помни до гробовой доски – самое святое.
– Не буду, родненький, любимый, не буду. Ты единственно только не умирай. Учи меня, наставляй, веди по жизни. И живи, живи! Ведь ты классно умеешь жить!
– Ты мне там, в доме, что-то хотела сказать.
Она смахнула со своего накрасневшегося, подпухшего носа и подбородка влагу, как бы охорашиваясь, выпрямилась, вроде как для солидности, и отчётливо, но с затаённой тихонечкостью сказала:
– У нас будет ребёнок, Лёвушка.
Помолчала, зорко ловя глазами изменения на его лице. Несомненно, ждала и верила, что он оживится, что новость вдохнёт в него сил, здоровья, и он будет готов бороться со смертью.
Он покачнул для неё головой, но веки его тяжелели, слипались. Он уже не смог их удерживать, чтобы посмотреть на Марию более открыто и ясно.
– Ты рад, ты доволен? – Он снова покачнул головой. – Я беременная, а значит, Лёвушка, уже баба. Настоящая баба! Теперь ты понимаешь, что я баба, что я женщина? Твоя баба, твоя женщина, твоя жена, твоя любовь. Навечно твоя. И ты навечно мой. Понимаешь, слышишь, любимый, прекрасный, звёздочка моя серебряная? И никто ничего не скажет, а если скажет – получит от меня! Понял? И тебе теперь вдвойне и даже втройне надо жить: мы же не одни с тобой. Понимаешь, Лёвушка?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.